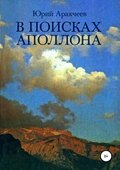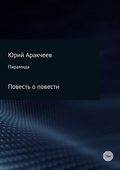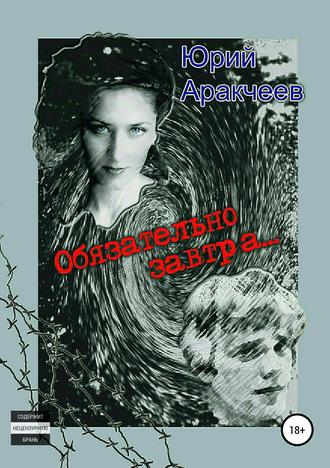
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
– Только ты не говори ни ей, ни Косте, что я тебе рассказал, хорошо?
Но произошло странное: Антон мне не поверил! Он сказал, что не может мне, конечно, не верить, но вообще-то, исходя из того, что он о ней знает, она не должна была так поступить – прийти просто так, да еще ко мне, в эту убогую комнату.
– Кто ты такой для нее, чтобы прийти к тебе запросто и бесплатно? Ты ведь и в ресторан ее не водил, так ведь?
– Так.
– Я не могу тебе, конечно, не верить, раз ты утверждаешь, но… Ну не могла она просто так к тебе прийти, не могла!
У меня не было слов.
– А впрочем… – продолжал все же он. – Да, впрочем, почему бы и нет? Она развратная сучка, почему бы и еще с одним не потрахаться? – продолжал он уже спокойнее. – И потом у тебя комната все-таки. Хотя бы и такая. Вдруг пригодится? И ты вроде бы в институте учишься, писатель будущий – она же знает. Вдруг…
Он помолчал, а потом продолжил уже совсем спокойно и опять громко зевнув:
– Да, у Кости, кажется, тоже с ней что-то было, он говорил. А мне… А мне, если честно, не очень-то и хотелось. Добиться ее элементарно, это же ясно! Да, кстати, совсем забыл! Мы как-то на днях с ней целовались в кабинете, пока никого не было. Еще как целовались… И я уверен: если бы были условия…
Мне стало противно. Не хотелось больше говорить. Но и ссориться не хотелось. Честно говоря, стало почему-то жалко его.
10
Просторный светлый холл, кожаные мягкие кресла, полированные журнальные столики. Здание редакции, шестой этаж. Алексеев сам позвонил мне домой и сказал, чтобы я приехал. У него, будто бы, материал какой-то в гранках, мне полезно будет посмотреть. Радость вспыхнула, когда я услышал о «гранках» (мой прежний очерк?…), но тут же погасла. Нет, не мой, это ясно, а то бы он так и сказал. Хотя… Вдруг?
Поехал.
В кабинете Алексеева не было, и я ожидал в холле.
Солнце сияло в огромное – от пола до потолка – окно, по коридору проносились молоденькие литсотрудницы и секретарши, пахло мастикой от недавно натертых полов и духами.
«Ну неужели, неужели то, что написано у меня, хуже, чем то, что печатается в этом журнале? – мучительно размышлял я. – Ведь серость печатается, конъюнктура. И Алексеев сам это признавал… В чем же дело?»
По твердому, энергичному стуку шагов понял: приближается Алексеев. Да, стремительной, спортивной походкой направлялся к своему кабинету он. Бородатый, крепкий, кряжистый, уверенный в себе редактор и завотделом.
– Интересный материал, тебе полезно будет посмотреть, – сказал Алексеев бодро, как всегда. – Я хочу знать твое мнение.
Быстро и крепко он пожал мне руку (я тотчас вспомнил, что Алексеев занимается альпинизмом и ходит в бассейн, и в который раз подумал: а не мешает ли ему борода плавать?), пропустил вперед себя в кабинет, пригласил садиться, сел сам, достал из ящика стола несколько сколотых желтоватых листиков и протянул мне.
– На, почитай. Это – на уровне. Немного болтливо, правда, но – на уровне. В таком духе и ты что-нибудь можешь. Твоя тема. Сиди, читай, я выйду пока по делу. Через десять минут приду.
Гранки. Впервые в жизни я держал в руках гранки. Как мечтал увидеть наконец СВОИ гранки! Несбывшаяся пока мечта отозвалась тупой привычной болью.
Начал читать. «Трое с улицы Гарибальди» – так назывался очерк. Улица Гарибальди? Что-то знакомое. Так и есть! Это был очерк о «Суде над равнодушием», стенограмму которого я читал в Горкоме у Алика.
Сначала шло описание обстановки суда – как все выглядело и кто где сидел. Потом – часть речи общественного обвинителя, секретаря райкома комсомола. Внимание остановило такое место: «Партия и правительство делают все, комсомол помогает им. В нашей стране давно ликвидирована сама основа преступности…» Ничего себе… Дальше шло что-то совсем уж невразумительное, а в конце так: «Я шла домой и думала: как же все-таки они дошли до жизни такой? Ведь улица, на которой живут эти ребята, названа именем великого сына итальянского народа Джузеппе Гарибальди!»
Конечно, концовку можно было истолковать по-разному, и все же… Дочитав, я подумал: может быть, здесь не все листки? Нет, судя по нумерации, листки были все. И внешняя связность была. Но дело в том, что общее ощущение от очерка оставалось ужасное. В очерке была явная ложь – это во-первых. Холуйство перед властями – во-вторых. И невнятица – в-третьих. С одной стороны выходило, что падение трех парней произошло совершенно случайно – автор ведь столько раз уверяла, что такое для нашей страны нетипично, что в наших советских условиях жизни такого никак не должно, а, следовательно, и не может быть, потому что «ликвидирована основа». Но с другой стороны это было, и сам факт суда говорит о целом явлении. И выходит, что уверения автора противоречат тому, что автор описывает. Удивительный какой-то переворот, лента Мёбиуса. За дураков считает она читателей, что ли? Концовка тоже читалась по-разному. С одной стороны действительно: как же так получилось, что люди, живущие на улице, носящей имя великого итальянского революционера, боровшегося, как мы знаем, за справедливость, свободу и равенство всех людей, воспитали своих детей так, что те, начав с мелких краж, пришли к тому, что стали приставать с ножом к женщинам… Но с другой стороны: «Как вы дошли до жизни такой!» – обращение не к подсудимым «Суда», то есть взрослым, а к самим ребятам, которые, по идее «Суда», были не подсудимыми, а – пострадавшими! Самое неприятное было то, что второй смысл, вопреки названию «Суда» и его идее, прочитывался в очерке гораздо последовательнее. И еще: Гарибальди, как известно, боролся против властей, а автор очерка власти безоговорочно защищала…
Я пробежал текст еще раз – может, чего-то не понял? Нет, все именно так. И опять возникло мерзкое ощущение неуверенности в себе. Может быть, я действительно чего-то не понимаю в жизни? Ведь Алексеев хвалит «этот материал». Это может показаться странным кому-то, но тут же и вспомнилась та наша ночь с Антоном и Лорой и вообще отношение к Лоре Антона… Может быть, я и правда не от мира сего?
Ведь то, что читал – и что рекомендовал сам Алексеев! – не просто отличалось от того, что думаю я. Фактически это – противоположное! Дурь, непоследовательность, лживость, холуйство перед властями. Да еще и с пафосом! И Гарибальди приплела сюда же, ну и ну.
И опять, как после разговора с Лорой по телефону насчет «Лебединого озера» и с Алексеевым по поводу Штейнберга, и с Антоном потом о Лоре, мне захотелось себя ущипнуть – сплю или не сплю?
Вошел Алексеев.
– Ну? Прочитал? Как тебе?
А у меня, бедного, сердце болело опять и в висках стучало вовсю. Неужели и от меня он ждет такого?
– Я знаю этот материал, читал в Горкоме, – выговорил я хрипло, сдерживаясь изо всех сил. – Интересный был суд…
Сдерживался, сдерживался изо всех сил – понимал, что если начну, то не остановлюсь, это уж точно, и все наши отношения с Алексеевым разлетятся тут же, и ни о каком моем очерке…
– Ну вот, видишь! – обрадовался завотделом, не поняв и абсолютно и по-своему расценив мою реакцию.
И посмотрел на меня ободряюще.
– Я же говорю, на уровне, – продолжал он быстро, убеждая как будто бы самого себя и торопясь, явно думая сейчас о чем-то другом. – Этот материал редколлегией уже фактически одобрен. Вот и ты напиши что-нибудь в таком же духе. Идет? Ты ведь еще лучше написать сможешь, я в тебя верю! Давай, давай. Найди конкретную тему и напиши. И поторопись, я жду. Договорились?
Он деловито протянул мне руку.
А у меня ком стоял в горле. Это после я все происшедшее окончательно понял, а в тот момент не мог осознать четко и выразить. Алексеев все-таки не такой дурак и холуй, и если бы я объяснил ему связно, он, может быть, даже и понял. Но в тот момент я Алексеева просто-напросто ненавидел…
И машинально и молча я пожал его руку. Кажется, даже не сказал «до свиданья», а просто вышел.
Не в первый раз в те свои «исторические» дни я ощущал, что мое лицо сковало. «Спортсмен, альпинист, – думал я как-то механически, шагая по коридору. – Пловец с бородой! Как же вы можете… Зачем же вам бодрость, если…»
Хорошенькая стройная девушка в мини чуть не столкнулась со мной в коридоре, кокетливо ойкнула. Просторный холл был по-прежнему залит солнцем. Опять был по-настоящему весенний апрельский день. На деревьях бульвара радостно щебетали птицы…
Я шел и внимательно смотрел на прохожих. Некоторые разговаривали, некоторые даже весело улыбались. Неужели я и на самом деле какой-то ненормальный, и прав вовсе не я, а они – Антон, Алексеев, женщина, которая написала очерк, все, все, кто идет по улице, улыбается даже… Все путем, да? Все хорошо у нас, да? Все люди – братья, братья и сестры, и так хорошо в стране советской жить под руководством Партии родной и правительства нашего, которое заботится, заботится, заботится, ночами не спит…
Добрался до своей комнаты, сел на стул и долго сидел неподвижно. Неужели действительно никому ничего не нужно, все путем, все довольны… Только я такой? Ну, Амелин еще, ну, Штейнберг. А вот Лора…
Зазвонил телефон в коридоре, я вздрогнул. Быстро встал, вышел в коридор, снял трубку. Да, мне. Но не она. Алик Амелин. Опять предложение: побывать в одном из райкомов города, где – Алик опять только что узнал – заведено «дело о моральном разложении» двух молодых людей, парня и девушки.
– Я думаю, тебе интересно будет, – говорил Алик, как всегда дружески, и от доброго его голоса мне стало легче.
– Да-да, Алик, конечно, – отвечал я машинально. – Спасибо тебе, спасибо. Поеду, конечно, поеду.
– Запиши телефон и позвони прямо сейчас…
Записал. Позвонил, договорился. Поехал…
11
При комитете комсомола одного из районов Москвы организовали РОМ, то есть Районное Отделение Милиции. «На общественных началах» – то есть в свободное от работы время и без заработной платы сотрудникам. Чистый энтузиазм. Идея ясна: для того, чтобы лучше бороться с преступностью, логично подключить общественность, то есть народ. Чтобы общество, так сказать, лечило само себя. Разумно? Разумно! Вот и решили поэтому – «на общественных началах»! Дав активистам-комсомольцам автомашину и кое-какие права.
Вообще-то, конечно, здорово. Я помнил, что в одной из работ Ленина была мысль о том, что именно «вооруженный народ» – не какая-то особенная группа, а весь народ, то есть все граждане страны, вооруженные светлой идеей справедливого общества, а также холодным и горячим оружием, могут обеспечить свою свободу лучше, чем любые государственные учреждения. Тем более, что согласно учению Маркса, государство, по мере торжества коммунистических идей, должно постепенно отмирать, пока не умрет совсем. Кстати, так ведь – и до учения Маркса – было в Америке. Люди, вооруженные кольтами и смит-и-вессонами, установили свой порядок и добились справедливой Конституции Соединенных Штатов и «Декларации независимости». Здорово! Правда, у нас от такой идеи быстренько тогда отказались…
Входил я в помещение то ли клуба, то ли «агитпункта», где располагался РОМ, с интересом острым. Даже как-то очень быстро опять улетучились грустные мысли. Дело надо делать, а не сопли распускать! Любопытно, черт побери, что они делают здесь. Вот же, стараются люди все-таки…
Маленький зал со сценой, коридорчик, несколько комнат. В коридорчике толпились ребята лет двадцати, взволнованные, возбужденные. Я услышал часто повторяемое слово: «операция».
– Ты куда сегодня? – спрашивал один парень другого.
– Да вот, операцию проводить будем. А ты с нами разве не едешь?
– На операцию? Нет, сегодня не еду. Я вчера был.
Я спросил, где у них тут начальство. Показали на дверь одной из комнат, я постучал и вошел.
В небольшом кабинете сидели три парня. Два – за столом. Один из них, черноглазый, черноволосый по-хозяйски навалился на самую середину стола, разбросав по столу руки, ясно было, что именно он здесь главный. Другой, голубоглазый, с каким-то стеснительным выражением на типично русском, прямо-таки есенинском лице, притулился рядом. Сбоку от них, привалившись к стене, расположился на стуле долговязый угрюмый парень с блокнотом и карандашом.
– Можно к вам? – спросил я.
Черный оценивающе посмотрел на меня, как-то многозначительно помедлил и кивнул:
– Заходи.
– Сядь, подожди, – добавил он, указав на свободный стул, когда я вошел. – Ну, так что тебе еще от нас надо? – обратился он к долговязому.
Долговязый подумал, помусолил карандаш в пальцах.
– Ну, что ж, про Шамиля, так про Шамиля, – сказал он. – Хотя лучше бы, конечно, про кого-то из рядовых.
– Зачем тебе рядовые, вот ведь!… – недоуменно задохнулся голубоглазый и вопросительно посмотрел на черного.
– Да, Сашка прав, – сказал черный и, тонко улыбаясь, взглянул на долговязого. – Рыба без головы – не рыба. А Шамиль у нас голова. Допрашивает только он.
– Знаешь, как допрашивает! – восхитился голубоглазый и сделал уважительное выражение лица. – Воля у него, будь здоров. Как начнет свою психическую… Он может хоть час тебе в глаза, не мигая, смотреть, он мне показывал. Но только ты и минуты не выдержишь. Все скажешь! Расколешься – и сам не заметишь… А он еще и джиу-джитсу знает…
– Постой, Сашка, постой. Ты не то вякаешь, – сказал черный и улыбнулся. – Причем тут джиу-джитсу? Ему же про воспитание нужно…
Он посмотрел и на меня тоже, и я понял, что улыбка предназначалась не только долговязому, но и мне.
– Ты от Амелина? – обратился он ко мне.
– Да, от Амелина, – сказал я. – И от журнала.
– От журнала? Хорошо. А это вот – от газеты, – он кивнул на долговязого.
– Знаете, ребята, я, пожалуй, пойду, – сказал долговязый, посмотрев на часы. – Мне еще в одно место надо успеть сегодня. К вам потом зайду. Будьте!
И он вышел из комнаты.
– Ну, так ты от Амелина, значит, – обратился черный ко мне с каким-то хитроватым прищуром.
Я кивнул.
– Он нам звонил, Саша? – коротко бросил черный в сторону голубоглазого.
– Да-да, звонил, недавно звонил, сказал, что журналиста к нам пришлет, – с готовностью зачастил блондин.
– Так-так, – прервал его черный и принялся внимательно разглядывать меня, пытаясь, наверное, прочитать мои мысли и «расколоть». Лет ему было что-нибудь около двадцати. Может быть, с небольшим.
– Так-так, – сказал он еще и улыбнулся хитро. – Ну, что же. Есть у нас дело, мы сами в Горком звонили, просили прислать кого-нибудь из центральной прессы. Амарантов и Володина, есть у нас такие.
– Это морально разложившиеся, да, Рахим? – спросил голубоглазый с озабоченностью.
Он был, пожалуй, ровесник Рахиму, но выглядел по сравнению с ним этаким мальчиком.
– Да, Сашка, да. Аморалка, – согласно кивнул Рахим и скорбно вздохнул. – А ты журналист штатный? – спросил он меня.
– Внештатный, – сказал я и добавил зачем-то:
– В Литинституте учусь.
– Ну, так ты, значит, писатель? Значит, тем более! – И Рахим уважительно развел руками. – Тем более тебе интересно будет! Воспитание сейчас, сам знаешь, как важно. Момент такой серьезный.
Он многозначительно сдвинул брови и, озабоченно глядя в стол, побарабанил пальцами. Сашка громко вздохнул, тоже озабоченно.
– Ну, что же, – сказал Рахим, помолчав. – Началось все, понимаешь ли, с письма. Соседка их написала. В милицию. А милиция нам передала. Так, мол, и так, живет парень, двадцать шесть лет уже стукнуло, жениться пора, а он девочек к себе в дом водит. Сначала просто разных водил. А потом одна у него, будто бы поселилась. Без прописки, понял?
– Сожительствует, – подсказал Сашка.
– Да, сожительствует, – согласился Рахим и вздохнул. – Ну, что ж, сигнал есть сигнал. Берем машину как-то вечером, едем. Так и есть. Она у него. В халатике, понимаешь ли, по-домашнему. Ваши документы! Тут-то и выясняется, что она, к тому же еще, и нигде не работает. Тунеядка.
– Шесть месяцев! – возмущенно вставил Сашка. – Шесть месяцев не работает, представляете?
– Да, шесть месяцев, точно, – подтвердил Рахим и вздохнул. – Тунеядка самая настоящая. За одно это уже высылать надо немедленно, а она, понимаешь ли, еще и ведет себя аморально…
– У Амарантова этого целый этаж в доме, представляете? – опять вмешался Сашка взволновано.
Видимо, он, с удовольствием вновь переживал ту самую сцену.
– Ну, не целый этаж, а комнат пять у них есть, это точно, – поправил Рахим. – Дом, правда, старый. Отец у него, как оказалось, ученый был какой-то большой. Умер. Вот так.
Рахим посмотрел на меня с грустью и продолжал:
– Пришлось дело на обоих завести, никуда не денешься.
Он замолчал, а Сашка, который по мере его рассказа все больше воодушевлялся, теперь прямо-таки заерзал на своем стуле.
– Вот вы писатель, вам интересно будет, – сказал он, улыбаясь радостно. – У этой Володиной мы дневники отобрали. Так это прямо, знаете, целый роман. Почище Мопассана! Они у меня сейчас, второй раз перечитываю. Не оторвешься! Одного она очень любила, а он ее бросил. А потом у нее было семь. Семь, представляете? И все так подробно описано, с чувством!
– Ну, не семь у нее было по-настоящему, а шесть, – спокойно поправил Рахим. – Не в этом суть. За границей бы такие дневники, знаешь… Напечатали бы, с руками оторвали. С талантом девчонка.
– Ух, с талантом! – восторженно подтвердил Сашка. – Такие описания есть, за душу берут.
– Да, написано хорошо, – согласился Рахим. – Но развращение, я тебе скажу, полное. Душок оттуда! – Рахим показал большим пальцем куда-то за спину. – Двадцать пять лет девушке, а…
– А она сама отдала вам дневники? – прервал я его.
– Сначала не сама, – спокойно, медленно, со значением отвечал Рахим. – Когда по месту ее законного жительства приехали, у нее в комнате нашли. Тетка ее подсказала, где искать. Потом она, правда, приходила, плакала, просила вернуть. Ну, мы вернули на время, с условием.
– С каким же условием?
– А чтобы сама их потом к нам принесла. В ее же интересах. Ведь мы уже прочитали, знаем. Мы, конечно, не прокуроры, но выслать из Москвы, лишить прописки как тунеядку можем запросто. Ссориться с нами ей ни к чему. А так – подумать обещали.
– И принесла? – спросил Олег.
– Разумеется, – улыбнулся Рахим. – Если честно, то мы нарочно эксперимент проводили. Принесет или не принесет? Принесла, как миленькая. Несколько страниц вырвала, правда.
– Самых интересных, – подсказал Сашка.
– Да, самых интересных. Но мы ведь уже прочитали, – усмехнулся Рахим.
Оба смотрели на меня спокойные, уверенные в себе.
– Но ведь… Ведь… это же… Ее личная собственность, частная жизнь, – с трудом сдерживаясь, сказал я.
– Да какая там частная! – прервал Рахим. – Я же сказал. Мы когда к ее тетке – с которой она жила, где прописана – приехали, тетка нам их и подсунула. Вот, говорит, прочитайте про мою племянницу непутевую. Мы и прочитали…
– Можем и тебе дать почитать, – сказал Рахим дружески, совсем по-видимому, не понимая моей реакции. – Тебе интересно будет, с точки зрения психологии. Ведь ты писатель.
– Психология, будь здоров! – сказал Сашка и подмигнул.
– А девочка ничего, между прочим, – добавил Рахим. – Красивая.
– В порядке девчонка! – немедленно поддержал Сашка. – Одна грудища чего стоит…
– Спокойно, – сказал Рахим и строго посмотрел на него.
– Ну, а что же дальше? – спросил я, изо всех сил стараясь не проявлять эмоций.
– Как что? – удивился Рахим. – На высылку оформлять будем. Амарантова – не знаю, за него очень уж мать хлопочет, хотя и его бы надо. Он тоже не работает несколько месяцев, тунеядец. Его трудно взять, правда, мать бурную деятельность развила. Я, говорит, фельетониста из газеты приглашу, я в ЦК жаловаться буду! А что нам газета? Тунеядец и есть тунеядец, да еще морально разложившийся. Сейчас курс Партии, сам знаешь, какой. Ну, с парнем все же не знаю, а Володину – это уж верняк – вышлем. У нее кроме тетки никого нет, а тетка и так с ней намучилась, сама избавиться хочет. Вот суд будет общественный, приходи.
– А где же мать, отец ее? – спросил я.
– Отец, будто, давно их бросил, а мать умерла, – сказал Рахим.
– Спилась мамаша, – добавил Сашка и улыбнулся.
– Да, мать тоже была будь здоров, – продолжал Рахим. – Нам тетка о ней подробно рассказывала. Пила, мужиков водила. Такая и дочка. Яблочко от яблони… Тетка на нее давно уже рукой махнула. Прости-господи, говорит, племянница у меня, не ночует сколько уже. Того и гляди болезнь какую подцепит. А то и промышлять начнет.
– А может уже, – вставил Сашка.
– Нет, пока нет, – серьезно сказал Рахим. – Дневник-то мы читали, там этого нет. И сигналов не поступало. Она больше бескорыстно. Из любви к искусству.
Рахим подмигнул Олегу, и оба парня захохотали.
– А в общем это все теткина инициатива, – отсмеявшись, серьезно сказал Рахим. – Сигнал есть сигнал, понимаете. Мы обязаны отреагировать.
Я поднял глаза и увидел на стене карту района. Района, который находится в их ведении. Под их наблюдением. Района, о котором они неусыпно заботятся.
Что было делать? Мальчики способствуют «курсу», выполняют свой общественный долг. Очерк о них написать? О доблестных «партайгеноссе» в Советском Союзе! Но ведь смешно и думать, что такое «пройдет». Мальчики ведь стараются…
– Подумаю, – сказал я с трудом. – У меня другая тема, но я подумаю.
И встал, чтобы идти.
– Ну, а насчет дневников звони, если интересно, – дружески улыбаясь, сказал Рахим.
– Звоните обязательно, я принесу! – добавил Сашка.
Наконец, я вышел на улицу, на воздух. Шел, машинально почему-то оглядываясь. Ехал в метро, ёжась, как на ветру. Укатали Сивку, совсем укатали…
И вот очутился, наконец, в своей комнате – в коммунальной квартире, с тонкой дощатой дверью и хлипким замком. Ни крепостных стен, ни пулеметов, ни гаубиц. Они и ко мне могут приехать запросто, если захотят. Ведь формально я тоже «тунеядец», потому что официально нигде не числюсь уже несколько месяцев. И гости ко мне приходят – вот же, были совсем недавно ребята, а Антон с Лорой на всю ночь оставались. И Лора приходила потом. А раньше Регина да и другие иной раз. А потом иди доказывай… И не эти пареньки, так другие. Да, я учусь в институте, но на заочном отделении, а потому обязан работать.
– Вы на какие средства живете, товарищ? Занимаетесь частным предпринимательством, да?! А вы знаете, что мы вас на сто первый километр от Москвы можем выслать и прописки лишить? А уж в моральном отношении – тем более. «Пьянки-блядки» у вас бывают, соседи говорят… А еще студент и корреспондент!
«Берем машину как-то вечером, приезжаем»…
Тонкая, деревянная, такая ненадежная дверь. Сосед, который давно уже наблюдает за моей фотографией… Не говоря уже о том, что гости и на самом деле приходят и действительно спиртные напитки употребляют.
– А почему вы, гражданин, ходите с тазом, в котором полно фотографий детских? «Частнопредпринимательская деятельность», видите ли! Запрещено законом! А на государственную работу от звонка до звонка почему не ходите, а?
«Мы нарочно эксперимент проводили. Принесет или не принесет? Принесла, как миленькая»…
«Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей…» – зазвучали в голове до боли знакомые строчки из песни.
12
Утром я поехал в библиотеку, в читальный зал.
Взял что-то из периодики – журналы – и «Семью Тибо» Дю Гара. Алексеев как-то – в самом начале – сказал, что неплохо, если бы мой очерк был похож на то место из «Семьи Тибо», где Антуан приезжает в колонию к Жаку. Он очень хвалил это место, а я тоже увлекался когда-то «Семьей Тибо», но именно это место не помнил.
Для начала полистал иллюстрированные журналы. «Огонек», «Семья и школа», «Крестьянка», «Наука и жизнь»… Блеклые, выцветшие картинки. Советские… «Или нет у нас ярких красок?» – не в первый раз думал я.
Смотрел по сторонам, видел нарядные, пестрые платья девушек, их живые милые лица, глаза. Стоял шорох от множества переворачиваемых страниц, отодвигаемых стульев, покашливаний, шагов. Кто-то сдержанно засмеялся. В окна светило солнце.
Вот идет девушка, проходит мимо… Улыбнулась кому-то, и сверкнули глаза, золотятся на солнце волосы. Очаровательная стройная фигурка… Вот же, вот она жизнь, даже здесь, в читальном зале, где положено уткнуться в книгу и соблюдать тишину! А за окнами – тем более: деревья и весеннее небо, солнце, и птицы поют… Апрель… Жизнь!
Наконец, взялся за Дю Гара. Не сразу нашел то самое место, о котором говорил Алексеев. Но когда нашел и начал читать, то очень скоро почувствовал, как это здорово.
Там действительно очень ненавязчиво выражена боль за Жака, мальчика, которого умышленно пытался сломить отец – он так и говорил: «Надо сломить его волю». Чтобы сделать это, отец поместил сына в колонию для несовершеннолетних. И вот однажды приезжает к нему его старший брат Антуан, и они выходят из стен колонии на прогулку, ходят по лугу и лесу, забредают в город. Жак держится изо всех сил – он знает, как бесполезно жаловаться Антуану: переубедить отца невозможно. И Антуан видит вдруг перед собой нового Жака. Сломленного.
А ведь раньше Жак был порывистым, упрямым, веселым, очень живым мальчиком, за что многие и любили его. Многие, но не отец.
Лишь в конце прогулки Жак не выдержал, разрыдался и рассказал брату, что он привык уже, привык к жизни в колонии, она ему уже почти нравится, и он не вправе жаловаться на надзирателей, потому что они по-своему хорошо к нему относятся. Хотя и заставляют рисовать для них смешные порнографические картинки, которые, как это ни странно, хорошо у мальчика получаются. Да, он помнит о прошлом, но он ПРИВЫК. И ему не хочется назад. Отец своего добился.
И я вспомнил… У нас во дворе под моими окнами есть маленький садик, а в нем скамейка. Однажды я сидел на этой скамейке рядом с соседкой, у которой на руках был котенок. Этот котенок отличался тем, что не реагировал на боль, никак не проявлял недовольства, когда его мучили. Соседка чего только с ним ни проделывала: выкручивала лапы, щипала, дергала, с высоты бросала на землю, за одну лапу держала на весу, за хвост, за одно ухо. А он только жмурился и подчинялся. Меня самого удивила тогда моя резкая, слишком сильная реакция – аж затрясло. На соседку, конечно же на соседку я разозлился крайне, но ведь и на котенка тоже! Ему, котенку, что, нравится все это, что ли?! Ну, заори, запищи, глаза выцарапай мучительнице, шипи, плюйся, мочись… Но не терпи же! И уже не жалко было котенка, я даже ненавидел его… Как же так можно?!
Я тогда отнял котенка у соседки, поставил на землю, ждал, что он убежит. Но он никуда не убегал. Он ждал… А соседка смотрела на меня, улыбаясь, и даже как будто бы с торжеством. И с насмешкой. Она опять взяла котенка покорного, и опять начала выворачивать ему лапы глядя на меня и улыбаясь. А котенок жмурился и подчинялся…
Место из «Семьи Тибо» теперь вызвало похожее чувство.
Я дочитал кусок до конца, встал и начал ходить по залу, по коридорам, среди людей. Господи, что же происходит со всеми?
И вспомнилось еще одно – сон, который впервые приснился мне несколько лет назад, но потом в разных вариациях повторялся.
Толпа парней – их было семь или восемь – встала в кружок, а в кружке была девушка. Девушка была почему-то раздета, совсем нагая, и парни толкали ее от одного к другому, они били ее, щипали, плевали. Как большая белая птица металась она в кругу. А я хорошо видел все это, как бывает во сне, видел беззащитное тело и руки, которыми она прикрывала то голову, то грудь, то живот, стараясь хоть как-нибудь защититься. Но вот я крупно увидел ее лицо, ее большие глаза. В них не было протеста, злости, обиды, а – только отчаянье. Отчаянье безнадежности, слепой животный страх. А я почему-то не мог вмешаться и вынужден был смотреть, как это бывает во сне. Свидетель… И проснулся, конечно, с колотящимся сердцем. И до утра больше не мог уснуть, проигрывая вновь и вновь эту сцену в воображении и думая: как можно было вмешаться, как? Что можно было сделать? Ведь мучителей много, а я один, и, к тому же, она ведь… Да, она не проявляла протеста, но ведь у нее не было выхода! Ее довели до такого! Я жалел ее и смертельно ненавидел этих подонков, но еще больше я ненавидел себя, беспомощность свою, бесполезность! Что, что я мог сделать?! Эх, если бы оружие – револьвер, автомат, пулемет! – с каким наслаждением, с какой радостью расстрелял бы всю эту нечисть, этих двуногих, тупых, ненавистных скотов… Но… Но нет револьвера, и… И еще одно: выход ли это? Ну, расстреляешь этих, а дальше что? Будут другие… И еще, и еще… Что изменится? Выход в чем?
Но что-то все равно нужно делать! Обязательно!
Что?
«А она сама отдала вам дневники? – Сначала не сама. А потом… Мы нарочно эксперимент проводили…»
А я сидел, смотрел на них и не знал, как поступить.
И в редакции у Алексеева днем, эти гранки… И с Лорой вот… И с Антоном…
Тут-то, в библиотеке, и понял я, что вот сейчас, да и не только сейчас, а – с утра, с ночи даже и вчера у Алексеева, и в РОМе – все время, не переставая, не останавливаясь, опять думал о Лоре, больше всего о ней. Все, все соединилось в ней! И девушка из давнего сна была – Лора. И Володина, чьи дневники подло читали ребята, – тоже Лора. И даже почему-то тот маленький, не чувствующий боли котенок…
Да, да, именно! Она, она была в центре всего! Женщина… В центре сущего, в центре нашего мира… Беззащитная красивая женщина. Насилуемая, унижаемая, убиваемая. Растоптанная нежность и красота.
Да, я не представлял себе конкретно лица Лоры, не было чего-то определенного в моих мыслях, связанного конкретно с ней, но я окончательно решил, что думаю о ней, потому, как внезапно остановила на себе взгляд темноволосая девушка с голубыми глазами, идущая по коридору. Вздрогнул, и дыхание перехватило, и сердце заныло привычно. А когда проходил мимо телефонных автоматов в коридоре, то болезненно чувствовал их даже спиной, хотя как будто бы и не собирался звонить, да и нельзя было ей звонить, некуда – нерабочий день, а дома у нее телефона нет.
И забылась «Семья Тибо», канули в бездну эпизод с котенком и сон, поблекла тревога за девушку с дневниками, уплыл в сторону Алексеев с гранками – я думал теперь о Лоре, только о ней, это было самое, самое главное, все в ней слилось, все, все, все…
Что делать? Как поступать? Что-то ведь надо делать! Надо ее защитить. А как?
Мучительно, старательно пытался я вновь и вновь вспомнить все по порядку, вновь разобраться, по полочкам разложить – может быть, хоть так что-то понять. Почему она была холодна утром после нашей первой ночи еще можно как-то объяснить, но почему так равнодушно отказалась пойти на балет во Дворец Съездов? Почему вообще так странно все получалось – ведь если бы совсем не хотела, то не пришла бы ко мне тогда и уж тем более не отдалась бы… Откуда же ее равнодушие, холодность… Неужели потому только, что не по высшему классу в первый раз все получилось? Но ведь это в первый раз, в первый раз только, глупость, глупость, глупость!