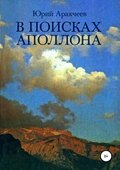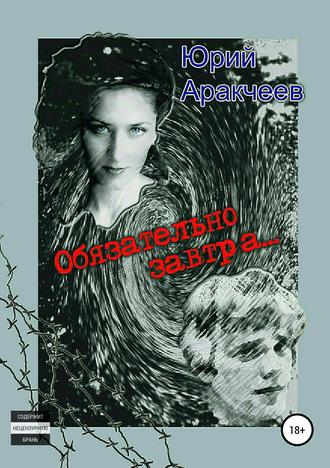
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
Еще одна дверь – и оказались в кабинете подполковника Чирикова.
– Я вызову вас, Ангелина Степановна, – сказал Чириков, и провожатая вышла.
Константин Иванович Чириков был мужчина лет пятидесяти пяти, черноволосый, с легким проблеском седины, с довольно интеллигентным лицом и доброжелательными светлыми глазами. У меня тотчас же возникла мысль: почему, по какой такой особенной причине он выбрал себе эту работу? Как он говорит о ней своим знакомым? Глупо, но я машинально искал на его улыбающемся добром лице следы жестокости, садистические наклонности. Ведь должно же быть что-то! Но не находил. Чириков улыбался на самом деле приветливо, его лицо было совершенно обычным.
И все же, так и не сумев преодолеть растерянности, я задал идиотский стандартный вопрос:
– Константин Иванович, скажите пожалуйста, что вы лично думаете о том, как можно бороться с преступностью несовершеннолетних? Какая работа, собственно, проводится в тюрьме в этом направлении?
Подполковник слегка изменился в лице – видимо не ожидал от журналиста такой глупости.
– Мы стараемся воспитывать уважение к закону, – слегка улыбаясь, заговорил он. – Агитируем, проводим беседы… Кинофильмы показываем. У нас есть мастерские…
Тут я отчасти опомнился, более или менее пришел в себя. Подполковник, слава богу, кажется, понял.
– Ну, а теперь я вызову воспитателя Мерцалова Сергей Сергеича, – с облегчением сказал он. – Мерцалов покажет вам все, что захотите.
– И в камеру тоже можно будет зайти? – спросил я, едва справляясь с волнением.
– Да, разумеется. Куда угодно. Действуйте. Хочу сказать, что вы занялись благородным делом. От души желаю вам успеха. Мы поможем всем, чем сможем. Сколько у вас времени? Весь день? Очень хорошо. Если не успеете сегодня, можно прийти еще. Только лучше после праздников, а то у нас сейчас трудное время… Ну, всего доброго. Желаю успеха.
И он крепко пожал мне руку.
Вошел Мерцалов, старший воспитатель, и мы отправились. Сергей Сергеич привел меня в комнату воспитателей, и тотчас на меня прямо-таки накинулись те, что были в комнате – собрались, видимо, в ожидании…
– Погодите, что вы все на него напали! Не все сразу. Дайте человеку в себя прийти, что надо, он и сам спросит… Вы уж на них не сердитесь, нагорело это все, мы же с этим каждый день сталкиваемся, насмотрелись. Извините нас.
Это говорил Мерцалов.
– Нет, что вы, что вы, наоборот. Я очень рад, что вы так… Я и хотел у вас об этом спросить, что вы сами думаете, что надо делать, чтобы… – В понятной растерянности, но искренне я отвечал.
– Вот! Правильно! Надо писать больше об этом, не скрывать. Первое и главное!
– А потом прежде всего надо спрашивать со взрослых. Слушайте меня. Вы меня послушайте! Мы вот все в газетах кричим, что школа. «Школа виновата, школа!» Да, школа, правильно. Ну, а родители куда смотрели, а? Или вообще взрослые? Даже на улице: парень у него же прикурить просит, а он – ладно, как будто так и положено. «На, прикуривай, малыш!» Водку ребятам продают…
– Отца и мать судить за детей надо!
– Правильно!
– Надо, конечно. А почему? А потому, что мы вот ребят судим, а если разобраться, то отец с матерью часто больше даже виноваты! Сами водку пьют или еще там что, шуры-муры, а за ребятами и не смотрят, что же мы с ребят-то хотим, что же с них требовать-то, если родители сами?
– Судить надо, и все! Раз-другой родителей осудить, как следует, присудить им за ребенка срок, тогда очухаются, поймут! Пойму-ут!
– Вот вы тут все родители! Родители! Да? Что ж, верно, родители. Семья. Правильно. А если мать работает весь день, приходит вечером, а отца, допустим, нет, или он есть, но тоже работает? Как тогда? Ребенок, что же, приходит из школы, дома – никого, он – на улицу. А улица, сами знаете, всякая бывает, и даже если, допустим, дружков никаких таких особенных нет, а все равно заняться чем-то нужно? Ну, хорошо, там, футбол-волейбол, секция, а если, допустим, секций нет и в футбол негде сыграть – есть же такое? Что же остается?
– Ну, послушай! Послушай ты… Причем тут!…
– Нет-нет, погоди, погоди. Дай мне сказать. Я не говорю, что он должен, к примеру, машину угонять или, там, грабить-хулиганить. Но все же, смотри: если тебе делать нечего, на стенку полезешь, так? От скуки-то! А там еще рыцарство разное и другое. В разбойников играют, в индейцев. Он же парень, мальчик еще, верно? Надо же ему…
– Вот и должен комсомол…
– Во! То-то и оно! Тут вот вы, комсомольцы, и должны свое дело делать. Про то и речь!
– А, брось! Они и делают свое: шефство разное… А что с этого шефства, если шеф придет на полчасика и уйдет, а вечером папаша вдрезину домой вломится и мамашу по шее, по шее. А потом сына своего или дочь. Тут и шефство твое не поможет, понял?
– Вы их не слушайте, они вам такого наговорят…
– А что, неправду говорим, что ли?!
– Да нет, правду-то правду…
Голоса звучали для меня, как музыка, я упивался ими и нарочно не перебивал, ни о чем не спрашивал. «Вот же, вот люди! Это – люди!» – в очередной раз думал я. Поразительно что не где-нибудь, а в тюрьме, от тюремных воспитателей я слышу то, что так хотел слышать всегда – тревогу не за себя, а за других, сочувствие другим, понимание, что чужое горе – это горе твое, никуда не денешься от этого, бессмысленно и бесполезно затыкать уши и жмурить глаза! Мы все связаны, колокол чужой беды звонит все равно по тебе, как бы ты ни отворачивался и не защищался – правильно написал Хемингуэй!
Да, в очередной раз я был потрясен. Настолько не было в их сумбурных монологах искусственности, позы, желания как-то себя показать! Наоборот! Забота и скрытая, привычная боль, искренность, поиск выхода! Сочувствие! Да, да, вот уж не ожидал! Я понимал, конечно, что совсем не обязательно они так же добры со своими «воспитанниками», однако сейчас видел перед собой людей, мучимых тем, что они изо дня в день наблюдают. Не было озлобленности, черствости, закоснелости. Наоборот! Неравнодушны они были и искренни, вот в чем дело!
Я вытащил свою тетрадь, пытаясь набросать хоть что-то – и вид тетради и ручки ничуть не смутил их…
– Вон, давай-ка Брыксина ему позовем, покажем… Знаете, парню пятнадцать лет, два года колонии получил и уже второй раз, вторая судимость. И ни мамаша, ни папаша ни черта внимания не обращали, спохватились, когда уже поздно… А парень весь исколот, и такие слова… Умрете! Смех да и только. Я ему говорю: как же ты, Валерка, купаться-то с девушкой будешь? Как же ты в плавках ей покажешься? А ему все нипочем… Приведи Брыксина, Саш!
– Привести? Хотите посмотреть?
– Конечно. Если можно.
– Сейчас приведут. Пятнадцать лет парню, а уже вторая судимость, вот как. Два года колонии. Ничего не понимает, как чокнутый…
Привели Брыксина. Паренек растерянно улыбался.
– Вот он, герой! Давай, давай, иди сюда ближе, Валерка. Покажи-ка свою красоту, вон человек посмотрит, полюбуется. Разденься-ка. Ты же этим сам хвалился. Чего же ты? Не стесняйся, давай-давай. Люди свои… Ну, что видели? Видели! Ха-ха! Ох-хо-хо, видали? Нет, вы прочтите, прочтите!… Да ты и штаны давай скидывай, ногу-то, ногу-то покажи, самое интересное… Давай-давай, не стесняйся, ты же ведь этим гордился, что же ты думал, когда делал-то, а? С девушкой купаться как пойдешь, а?
– А я один схожу, чего мне с девушкой…
– Давай, давай, скидывай, пусть человек полюбуется… О, видали?! Ха-ха-ха! Во, дает! Дурак ты глупый, зачем тебе эта красота-то нужна была, а? Видите, что понаписал! Умрешь со смеху. Додуматься надо! Эх, ты, Валерка, бить тебя некому… Ладно с девушкой, а как ты на уроки физкультуры-то в школе ходил, а? Или не ходил совсем?
– Ногу перевязывал, подумаешь. А здесь – майка с рукавами.
Брыксин по-прежнему улыбался. Он как будто бы понимал, что не со зла они это, не в насмешку. Что от досады они и от горечи. А разрисован он был и вправду смешно…
– О, пострел, видали?! Майка с рукавами! И смеется. Плакать тебе, дураку, надо, а ты смеешься. Ладно, одевайся, парень. За что первый-то раз попал, расскажи вон товарищу.
– По 117-й. Знаете.
– «По 117-й»!… Тебе, дураку, в четыре глаза мало было смотреть теперь, а ты в два не смотрел. Знаешь, ведь, что второй раз условным не отделаешься. Эх ты, Валерка, Валерка, друг ты мой ненормальный… Ну, вы спрашивать у него будете что-нибудь?
– Как у тебя в семье, Валерий? Ты с кем живешь?
– Да все у него есть – и отец, и мать! Не смотрят только ни черта за парнем. Вот вам родители! Их предупреждали, говорили, у сына условное было… А теперь плачут навзрыд, в истерике бьются. У матери инфаркт получился. Что, Валерк, а с матерью-то виделся?
– Виделся.
– И смеется! Во, дурак. Мать едва выжила, а ему все нипочем. Ладно, пойдем, герой…
– Уткина ему приведи, Уткина… Сейчас еще один случай посмотрите. Тоже родители. Этот-то ладно, совсем дурак, пятнадцать лет, что вы хотите, а тот и постарше и парень хороший, сами увидите. По 117-й. И тоже во второй раз.
– Такие маленькие – и 117-я? Странно все же, – искренне недоумевал я.
– Что, маленькие! Уткину в первый раз и вовсе одиннадцать было! Попытка изнасилования. Но там, правда, не всерьез – с большими в компанию затесался, хотел тоже попробовать, как это с девчонкой балуются… Условное. Всего-то как попытка, не успели они, зашухарили их, а то бы… А то все равно бы так не отделался. Правда, самому старшему что-то лет шесть дали. За покушение…
Грустно все это было, грустно. Малые дети фактически. И в тюрьме… А «такие слова» на теле пятнадцатилетнего паренька казались мне тогда даже неким символом. Ну почему же мы без «таких слов» обойтись не можем никак, ко всему прочему, а? Россия – мать, любимая Родина…
31
В нашу «комнату воспитателей» вошел человек в форме.
– Здравствуйте, товарищи!
– Здравствуйте.
– Познакомьтесь, пожалуйста. Старший инструктор-воспитатель…
– Григорьев, Алексей Алексеевич. Подполковник. Очень приятно… Хорошо, хорошо, что вы пришли. Не надо бояться правды! И надо улучшить отношение к работникам тюрем. Нет у нас еще правильного отношения. Вы уже говорили с товарищем?
– Да, говорили.
– А про Марченкову рассказывали? Нет? Напрасно. Поучительно, поучительно… Ну, в мой кабинет, пожалуйста. Прошу. Сергей Сергеич, а вам в восемнадцатую надо зайти, там с Крюкиным что-то.
Мерцалов вышел. За ним и мы с подполковником.
– Вы далеко-то от меня не отходите. А то, знаете… Часовые шутить не любят, – Алексей Алексеевич подмигнул и усмехнулся.
– Да-да, конечно. – я послушно шел за ним.
Наконец, вошли в какую-то комнату. Очевидно, это был его кабинет.
– Так вот про Марченкову, про Софью Марченкову. Садитесь… Но сначала хочу заявить следующее: вам нужно особенно подчеркнуть плохое отношение к тем, кто возвращается из колоний. Вы статью в «Новой жизни» читали? Прочтите. Она, конечно, довольно поверхностная, но отдельные мысли есть. И важен прецедент. Не надо бояться правды, надо больше писать! Ну, ладно… Так вот про Марченкову. Очень характерный случай. Девушка, 17 лет, была осуждена за кражу. Вышла досрочно – и правильно, хорошая девушка, по глупости оступилась. Ну, освободилась, приехала в город. И – ко мне. Алексей Алексеевич, говорит, так и так, не могу устроиться на работу. С судимостью не берут. 27 копеек осталось. Что, говорит, делать? Симпатичная такая девушка, скромная. С кражей, знаете ли, действительно как-то случайно вышло. Личико хорошенькое, а жили они с матерью очень бедно. Но тут случай представился. Затмение и нашло. Ну, ладно. Так вот пришла, значит, ко мне. На работу, говорит, не берут, куда деваться, что делать? Я звоню в Горком. К вам, значит. Так, мол, и так, помогите устроить на работу. Они туда-сюда. Не помогли. Что я мог сделать? Одному своему знакомому позвонил – тоже ничего не вышло. Дал ей сколько-то денег… Деньги у нее скоро кончились. Тогда она пошла на вокзал и рассказала обо всем в милиции. Один милиционер ей посочувствовал, тоже денег дал, на работу устроил. А говорят – у нас милиция плохая… Ну, ладно. Несколько дней прошло, а она опять к тому милиционеру приходит. В чем дело? На работе аванс не дают, а ей буквально ходить не в чем. Где государство наше гуманное, а? Где государство? Ну, в общем, туда-сюда, с кем-то она в конце концов опять связалась, и – кража. Не смогли мы, оказывается. Опять тюрьма. Теперь уже больше дали – два с половиной. Сейчас в колонии. Конечно, в чем-то она и сама виновата, не без этого, а все-таки: что же это получается? Где государство?
– А что родители? – спросил я, внимательно слушая и стараясь все записать в тетрадь.
– Родителей у нее нет. Сначала с матерью жила, а как дочь в колонию попала – с матерью припадок. Скоро и умерла. Так одна и осталась в маленькой комнатушке. И парня хорошего не успела найти. Жизнь разбита. А девушка такая красивая, скромная. Хоть рыдай. Э, что там! бывает, что и мать есть, а детей – трое или четверо. А мать одна работает. Конечно, пособие, но… Ох-хо-хо! Копейки… Что нужно делать? Разные формы нужны! Главное – думать об этом надо, не забывать! И писать больше об этом! А если, допустим, в семье все в порядке – родителей привлекать обязательно! Привлекать к суду родителей, а не ребят! И еще – школа… Повысить заработок учителей необходимо! Государство на них экономит, а потом эта экономия, знаете, как оборачивается? Мы здесь это и видим. Да, поздно. Откуда средства взять, скажете? А за счет высокооплачиваемых! Сколько у нас некоторые товарищи, особенно чиновники, получают? А! Вот за их счет и повысить учителям!
Когда подполковник рассказывал про Марченкову, я тотчас же, естественно, подумал о Лоре. Да я, собственно, почти все время думал о ней. Она не была здесь пока, но…
А когда Алексей Алексеевич спросил, куда бы мне хотелось теперь пойти, в какую камеру, и пояснил, что есть камеры сравнительно благополучных – тех, кто по первому разу, – есть средние, а есть одна камера «отпетых», я, конечно же, захотел к «отпетым». Может быть, мне только показалось, но желание мое не вызвало у подполковника особенного энтузиазма…
Проследовали опять по тюремному коридору, минуя обитые железом двери камер, встретили нескольких надзирателей – молодых парней в военной форме – и остановились, наконец, около одной из дверей. Надзиратель отомкнул замок, и мы с подполковником вошли.
Первое впечатление было такое, будто мы находимся в общежитии. Посреди небольшой узкой комнаты стоял длинный стол, накрытый довольно чистой клеенкой в голубую клетку. Я непроизвольно отметил, что очень похожая лежит на столе в моей комнате… На клеенке стояли шахматы – фигуры были расставлены для игры, – и лежало несколько книг. Название одной я заметил: «Как закалялась сталь». Любопытно…
В комнате было семь молодых ребят. Двое или трое из них сидели за столом – они, по всей вероятности, приготовились играть в шахматы, – а остальные разместились на двухэтажных нарах, которые протянулись вдоль стен, справа и слева от двери. Один лежал на верхних нарах – видимо, спал, но когда мы вошли, тотчас поднялся и спрыгнул на пол, стукнув пятками. Маленькая узкая комната, небольшое окно – оно зарешечено и прикрыто щитком снаружи. И эти нары вдоль стен, похожие на вагонные полки, и вся обстановка делали помещение похожим на сравнительно большое купе поезда дальнего следования…
Как только мы вошли, все семеро тотчас встали, выстроились в ряд, вытянулись, и один из них, высокий и голубоглазый, бойко отрапортовал. Он, как и все другие, был острижен наголо.
– Вольно, – сказал Григорьев. – Садитесь. Садитесь, садитесь, рассаживайтесь. Вот, товарищ хочет с вами поговорить.
Все сели на лавки вдоль стола. Сели и мы с Григорьевым – с торца. Григорьев сказал:
– Это товарищ от Горкома комсомола. Он хочет вас кое о чем спросить.
И замолчал. Семь пар глаз уставились на меня.
Разные, совершенно разные – сероглазые, голубоглазые, кареглазые, один черноглазый. Даже головы, обезображенные стрижкой, разной формы и разный оттенок кожи. И сидят по-разному – неодинаковые позы. Один паренек улыбался, как показалось, в смущении, другой хитро посматривал, на лицах двоих – напряженное и серьезное внимание, чьи-то серые глаза выражали испуг, кто-то смотрел с откровенной неприязнью, даже как будто бы со скрытой угрозой…
И я решил пойти по самому простому пути – расспрашивать каждого по порядку…
Дети… Большие, разные, играющие во взрослых… Да, натворившие безобразия. Угоны автомашин. Драки. Мелкое воровство. Все, кто сидел в этой камере, привлекались по второму разу. «Рецидивисты»… Не оставляла мысль: то, что они делали – и за что оказались здесь, – имело причины. Надо их наказывать? Надо. Но наказание, которое они получают – и будут получать еще долго… – явно выглядело чрезмерно жестоким, а потому бессмысленным. Обыкновенные молодые ребята…
Одного черноглазого паренька я отметил особенно, когда еще только вошли. Умный, понимающий взгляд, ироничный даже. Когда он заговорил, все внимательно слушали его – чувствовалось уважение, которым он здесь пользуется. Удивило, какой большой срок ему дали – шесть лет. Удивила фамилия и имя его, с виду он не русский. Семенов Александр Михайлович. Держался он со мной и с подполковником как с равными. В первый раз его осудили условно на год, и теперь этот год прибавили к сроку.
– Но почему все-таки такой большой срок? – спросил я.
– Это вы спросите у тех, кто меня судил, – спокойно ответил Семенов.
– Ты, что же, считаешь, что они не правы?
– Конечно, не правы, – сказал он так же спокойно, и тотчас несколько человек поддержали его:
– Смешно: шесть лет ни за что!
– Правы! Да вы их не знаете!
– Это же лотерея, как на экзаменах!
– Не лотерея, а кто кого передавит. Они на нас самоутверждаются. И деньги еще, взятки…
– Но за что же, все-таки тебя-то? – спросил Олег.
Семенов усмехнулся:
– За голубей. Голубей хотели украсть. Ну, сторожу топориком пригрозили… Часы у него взяли. Так, попугать. Конечно, вернули бы. Спрятали на время. Не думали, что он донесет. Он ведь, знаете… Как бы это покультурнее выразиться? Он мальчиков любит. Он одного нашего, знаете, как… До крови. В милицию парень не хотел заявлять, родителей боялся, да и стыдно ведь. Но мы-то знали! Я теперь только об одном жалею: надо было этого сторожа все-таки стукнуть как следует.
– Ну вот, видишь… – сказал подполковник. – Стукнуть! А если бы и он тебя, к примеру, вот так, топориком?
– Ого! За что же?
– Скажете тоже! Его-то за что?
Камера заволновалась.
– Да, меня-то за что? – с улыбкой спросил Семенов. – Меня не за что. А его на самом деле стоило бы. Вы же не знаете, какая это сволочь. Если бы я был такой сволочью, то я бы и жаловаться не стал, если бы мне топориком пригрозили. Я бы сам себя… Головой в петлю. Он же знает, кто он такой. Он в десять раз худшие вещи делал, мы про него на суде ничего не сказали, а могли бы. Пачкаться не хотелось. Как он мальчиков к себе заманивал, скот… Опускал их, скотина! Эх! Ладно, пускай. Отсижу шесть лет – будет двадцать три. Еще не все потеряно. Чего уж теперь.
И он усмехнулся.
Я посмотрел на Григорьева. Тот пожал плечами.
Вторым из тех, кто особенно запомнился, был Ивлев. Убийца. Дело произошло в электричке. Он убил дружинника. Ножом.
Он был единственным из всех, кто сразу же активно не понравился мне. В его белесых пустых глазах таилось безумие, как мне показалось. Тогда же заметил я, что и ребята относятся к нему с неприязнью.
– Ну, и что же ты думаешь о том, что сделал? – спокойно спросил я, с трудом выдерживая его неподвижный взгляд.
Григорьев незаметно толкнул меня ногой под столом и, для верности, как бы невзначай, дотронулся еще и локтем.
– А? Что думаю? Думаю, что правильно сделал. Надо было сделать. Он сам виноват. Оскорбил, гад. Таких вообще мочить надо сразу.
– Ты и правда так думаешь?
– Да. Не жалею.
Ну, в общем, только один из них искренне считал себя виноватым, а наказание справедливым…
– Ну, что ж, ребята, – проговорил я наконец. – Спасибо за то, что вы рассказали. А теперь общий вопрос ко всем. Что все-таки нужно сделать, чтобы… Чтобы вы здесь не оказывались. Вот большинство из вас говорит, что не виноваты, что судьи не правы. Так кто же тогда виноват? И можно ли изменить что-то так, чтобы вы здесь не оказывались? Что бы вы посоветовали? Ведь что-то, наверное, можно сделать, как вы думаете?
Вот тогда и возник диалог, который я запомнил очень надолго.
– Бытие определяет сознание, – спокойно сказал Семенов.
– Причем тут, – тотчас недовольно буркнул подполковник Григорьев и нахмурился.
– Ну, как же? – обрадовался его реплике Семенов. – Вы же сами на занятиях говорили, Алексей Алексеевич. «Бытие определяет сознание» – формула Маркса, так? А если мы несознательные, то наше сознание, значит, несовершенно, так?
– Да уж, – согласился подполковник хмуро, не понимая, по-видимому, куда клонит Семенов.
– Ну, вот, – удовлетворенно продолжал черноглазый заключенный. – Наше сознание несовершенно. А так как сознание определяется бытием – значит, несовершенно бытие! А за бытие мы, ваши дети, уж никак не отвечаем. Вы его создали! И оно создало вас. Так кто же виноват? Уж во всяком случае не мы. Верно, ребята?
– Верно!
– Конечно. Правильно ты…
– Так вот я и спрашиваю вас, Алексей Алексеевич, почему вы нас здесь держите, а?
– Прекрати, Семенов, свои выходки! – с досадой воскликнул старший воспитатель и хлопнул ладонью по столу. – Держим, значит, заслужили.
– Ну, вот, видите, – обратился Семенов ко мне и развел руками в недоумении. – Мы нашей вины сами не чувствуем, а объяснить нам никто не хочет. Есть смысл в таком наказании?
Отвечать теперь нужно было мне, а что я мог ответить? Ведь черноглазый-то прав!
– И все-таки, – сказал я примирительно. – Что бы вы предложили? Что бы ты, Семенов, предложил? Или ты, Кириллов?
– Бытие надо менять, ясно, – сказал Кириллов, староста камеры. – Бытие никуда не годится, так получается.
– Э, нет, – возразил ему Семенов с тонкой улыбкой. – Скорее, получается, что старик-то ошибся. А может и не старик, а переводчик. Частицу «ся» пропустили…
– Как так? – со все растущим раздражением, недоумевая, спросил Григорьев. – Причем тут…
– А просто, – невозмутимо ответил Семенов. – «Определяется»! Не «определяет», а «определяется»! Сознанием… Бытие определяется сознанием. Вот истина. Сознание надо менять – и в первую очередь вам! Вот тогда и можно будет с нас спрашивать! Но тогда и… Опять же с вас. С вас, взрослых! Ведь вы наше сознание воспитали. Какие вы – такие и мы, разве нет?
Последний вопрос опять был обращен ко мне.
– Ну, хватит! – сказал подполковник и резко встал. – Довольно чушь нести. Ты, Семенов, лучше бы на занятиях хорошо отвечал. Щеголяешь тут, понимаете ли, демагогией, а товарищ… У вас еще есть вопросы? – обратился он ко мне.
– Да нет, пожалуй, – сказал я. – Спасибо вам, ребята. Тебе, Семенов, спасибо особенное. Я подумаю над тем, что ты сказал.
И тут произошло забавное и, пожалуй, символическое происшествие.
Все время, пока сидели, дверь камеры была приоткрыта – Григорьев не захлопнул ее за собой. Теперь же, когда встали, и ребята окружили нас и в свою очередь начали спрашивать меня о том, смогу ли я для них что-то сделать и зачем вообще нужна была эта беседа, – кто-то, по-видимому, нечаянно – а может быть, и нарочно… – толкнул дверь. Она закрылась. Щелкнул замок.
Дверь камеры не открывается изнутри. Услышав щелчок замка, подполковник вздрогнул, а ребята вдруг замолчали и заулыбались. Григорьев пошевелил плечами – видимо, мундир стал ему тесноват, – и принялся отчаянно нажимать на кнопку звонка, которая была рядом с дверью. Однако никто дверь камеры не открывал. Я огляделся. Улыбались все, кроме Ивлева, который смотрел все так же неподвижно и тяжело на подполковника Григорьева, старшего инструктора по воспитательной работе среди заключенных, пока тот, отвернувшись от всех, безостановочно нажимал на кнопку звонка. Шея его над воротником мундира побагровела.
Мы переглянулись с умным Семеновым.
Почему-то я шагнул обратно к столу и снова внимательно огляделся. Тесное «купе», тесная «комната». Неба в зарешеченном окне не видно – оно за щитком. Семь человек, таких разных. Замкнутое пространство. Нет, это не общежитие. Скорее, на самом деле – купе. Странно как-то читалось название лежащей на столе книги.
Только минуты через две подошел, наконец, надзиратель и на голос подполковника отворил дверь. Я еще раз простился с ребятами, и мы с Григорьевым вышли.
Странное чувство испытывал я тогда. Чувство удивительного родства с ребятами. Да, конечно, они преступники, верно. Очевидно, они и правда нарушили закон, а Ивлев вообще убил человека. Но многие ли из нас в тех условиях, в которых ребята в момент преступления оказались, поступили бы по-другому? И разве мало тех, кто поступал похуже, чем они – и продолжает поступать! – а ведь гуляет же на свободе! Разве не ясно, кого я имею в виду? Разве какой-то большой чиновник, НЕ ДЕЛАЮЩИЙ ТО, ЧТО ОБЯЗАН ДЕЛАТЬ, а тем более ДЕЛАЮЩИЙ что-то противозаконное, берущий, например, взятку – не есть преступник несравненно более крупный, чем эти мальчики? Что-то не так все-таки в обществе нашем, что-то не так. А редактор журнала, опасающийся наказания сверху, а потому отвергающий рукопись, которая «верхним» не по нутру? А Кузин, о котором говорили Силин с Варфоломеевым? Да ведь сплошь…
День еще не кончился, и я не хотел уходить из тюрьмы. Мало ли, вдруг не удастся попасть сюда еще раз. Григорьев заметно устал – видимо, его доконал инцидент с дверью, – и я попросил проводить меня опять в комнату воспитателей.
Там был Сергей Сергеевич Мерцалов. Он предложил вызвать еще кого-нибудь, если я хочу.
– Да, – сказал я. – на Ваше усмотрение, если можно.
И Мерцалов вышел.
А я остался один. Впервые за время пребывания здесь. Нетрудно представить, что творилось у меня в голове. Я, конечно, здорово устал, но все же что-то еще держало меня, несмотря на то, что понимал: слишком много впечатлений в один день – тоже плохо. Много записывал – почти все, что они говорили, – и знал, что подробнее разберусь во всем этом потом. Сейчас же, казалось, мозг, как сложная кибернетическая машина, работает сам, помимо воли, свободный. Я верил этой своей машине и ждал, что она, независимо от всяких сознательных логических построений, выдаст наконец результат, после которого я почувствую, что пора уходить. Сейчас, после знакомства с камерой «отпетых несовершеннолетних преступников», я мог с уверенностью сказать одно: они очень разны. И они – обычные люди. Как все. Кроме, пожалуй, Ивлева. А Семенов так даже явно вызвал симпатию. Я смотрел на них на всех внимательно, пытался найти нечто общее для этих ребят, какое-то одно свойство, отличающее их от других, этакое свойство-отличие. То, над чем бился когда-то, к примеру, Ломброзо. И не находил.
Так что же? Действительно есть оно, это трудноуловимое свойство, от природы присущее «отпетым преступникам», этакое криминальное клеймо, или… Или – случайность, сплетение обстоятельств, которое – сложись оно для другого, гуляющего сейчас на свободе, – привело бы и его сначала на скамью подсудимых, а потом туда, в эту вот камеру для «отпетых» или другую, подобную камеру? Если первое, то почему же ученые за столько лет никак не могут найти это криминальное свойство, от рождения заложенное в души определенных людей? Если же второе… Если второе, то значит ребятам этим просто не повезло, и судить их строго – значит добавлять к уже случившемуся горю, печальному невезению, сознательное зло. То есть фактически не помогать несчастному человеку, а – добивать его! Семенов во многом прав… Наказывать за проступки и преступления надо, конечно. Весь вопрос в том, как. Бить человека за то, что ему и так плохо, за то, что не повезло? Бить наотмашь даже тогда, когда он фактически не виновен? Не даром же родилась старая эта пословица: от сумы да от тюрьмы не зарекайся! Что же тут хорошего-то? Но где выход все-таки, в чем?
Да, забавно сказал Семенов: «Бытие ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ сознанием». Верно!
Вскоре Мерцалов привел невысокого коренастого парня. Когда парень, войдя, взглянул на меня, мне, честно говоря, стало нехорошо. Пожалуй, только два раза в жизни до этого момента я видел такие глаза…
Один раз это было в бане, вернее – в предбаннике. Неправдоподобно хилый дистрофичный мужичок никак не мог справиться с кровью, которая обильным ручьем лилась у него из носа и пачкала все вокруг – и его синие губы, и острую тощую грудь, и ноги. Она уже испачкала место, где он сидел, и пол. Платок его, напитавшийся кровью, комком лежал рядом, он теперь прикладывал к носу кальсоны, а кровь все лилась и лилась, хоть он и запрокидывал голову. Крови было неправдоподобно много, и казалось удивительным, что в таком тщедушном, маленьком теле столько ее. Он беспомощно хныкал – словно ребенок маленький, – и, казалось, уже примирился с тем, что кровь покидает его совсем, а все же ему было неловко перед банщиком, который стоял рядом, перед соседями по лавке. Только один раз я встретился с его взглядом, увидел глаза…
Второй случай был тоже давно: я ехал в трамвае, стоя на задней площадке, вдруг трамвай резко остановился, заскрежетав, запрыгав колесами по рельсам, и со своей задней площадки я увидел, как из-под трамвая вылетел и упал на рельсы ботинок. Пассажиры, конечно же, сразу все вышли, охали, заглядывая под колеса, но ничего почти не было видно – неподвижный темный ком находился как раз между двойными трамвайными колесами, только небольшая темная струя забрызгала асфальт около рельс, а метрах в полутора – я не сразу заметил – лежал кусок чего-то беловатого. Как потом оказалось – часть головного мозга. Появился водитель, мужчина, и я увидел его глаза…
– Силаков, Василий, – представил парня Мерцалов. – Садись, Вася, – добавил он. – Вот товарищ от Горкома комсомола, расскажи ему. Может быть, он поможет нам чем-нибудь. Да ты не волнуйся, Вася…
– А? Да я нет… Вы поможете, да? Помогите, пожалуйста, если… Да, нет, вы не сможете, я уже…
– Да ты не волнуйся, Вася, брось. Расскажи, как было. Как мне рассказывал.
– Да, Вася, расскажи пожалуйста. Что у тебя за дело? Ты сейчас под следствием? Ну, вот и расскажи.
…Только в седьмом часу вечера вышел я из тюрьмы – в привычный солнечный мир. На улице все было так же. В одном из дворов сидели и судачили старушки, освещенные лучами вечернего солнца, рядом играли дети в песке. Люди после работы спешили по магазинам. На площади, недалеко от парка, продавали надувные яркие шарики. Откуда-то доносилась музыка…
32
Проснувшись на другое утро на своей тахте, я впал в панику. Едва открыв глаза, с неприятным чувством подумал, что опять делаю что-то не то, вернее НЕ ДЕЛАЮ чего-то очень важного, ну просто необходимого и – опаздываю, безнадежно опаздываю! Да, было острое ощущение тревоги и необходимости немедленного, очень активного действия… Но что нужно делать в первую очередь? Что?