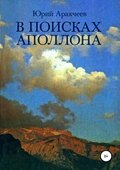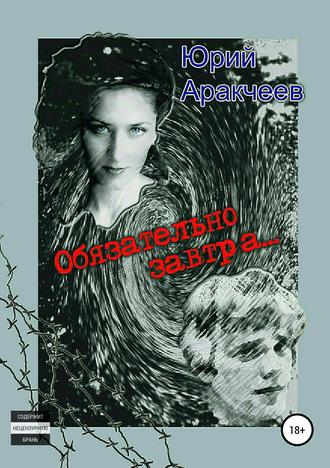
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
Лихорадочно вскочил с постели, схватил гантели и принялся делать гимнастику. Тут же бросил гантели, побежал умываться. Умылся наскоро и, растираясь полотенцем, торопливо и бестолково подсчитывал дни… Было еще только семь утра, звонить куда-либо рано, но тут вспомнил, что завтра – завтра! – идти на съемку в самый большой детский сад – «Б.П». На «майский праздник».
И лишь только вспомнил – стало еще более неприятно, муторно, до того не хотелось идти, что подумал тут же: а не позвонить ли утром, не сказать ли, что заболел, например, пусть кто-то другой… Отказаться! Отказаться! Ведь время идет! А я только вошел в работу – и вот… Но нет, нет, нехорошо это, нехорошо отказываться, договорились! Они будут ждать, да и деньги кончаются – единственная надежда. Никуда не денешься. Нужно!
Сердце заныло: я опять вспомнил, что нужно обязательно пленок купить сегодня – тоже проблема! И батарею для вспышки, а ее, вероятно, придется искать по магазинам, батареи у нас дефицит. А старая сдохла уже. И фотобумагу нужно – того, что купил в понедельник, не хватит, а больше в магазине не было, взял последние пять пачек, и то продавщицу едва уговорил, у них по две пачки в руки положено, не больше. С бумагой, особенно той, какая нужна, в магазинах туго. И сегодня единственный день остался…
Ясности, ясности не было, вот в чем дело! Что важно сначала, а что потом? Что нужно сделать в первую очередь, а что можно и отложить?
Очерк! – вспыхнуло молнией. Я увлекся походами своими и совсем забыл об Алексееве, о журнале, а там ведь ждут. «В ближайший номер» – сказал Алексеев. Не хотелось бы подводить его все-таки…
Но тут же опять словно вспыхнуло что-то внутри: черт бы побрал их всех – и журнал, и Алексеева вместе с ним! Сами не знают, чего хотят! Давно уже написал бы я о Штейнберге, а нет ведь! Совершеннолетний Витя Иванов теперь, видите ли! Точнее, очень даже хорошо знают они, что им надо – начальству своему угодить! А таким, как я, «сознательным», о «преступности несовершеннолетних» мозги крутят! Плевать им на «маленьких преступников» на самом-то деле…
Даже Шишко и то больше прав, чем они: «Ну что это – месяц!» Проблемный очерк! Вот мои наблюдения, соображения по ходу им бы и надо печатать – это правда, по крайней мере была бы! Нет, им подавай «материал» по-быстрому и чтоб «как надо». «Партия решила – комсомол ответил: есть!» Все для «галочки»! Только начал входить в тему по-настоящему, и вот…
Чириков разрешил еще в тюрьме побывать, к Грушиной-Ваничкиной обязательно нужно съездить, на парня самому посмотреть! С дневниками Володиной, может быть, что-то придумать, попробовать выручить девчонку – Рахима к стенке прижать! С Раисой Вениаминовной и Гуцуловым тоже – ведь оба они надеются, ждут! А о Штейнберге все равно написать, обязательно – пусть и не Алексееву, а в другой журнал! С Силиным и Варфоломеевым тоже что-то решить, о них написать тоже обязательно, помочь, может быть! Ведь сволочи же те, кто мешает! И о тюрьме… Да, да, насчет Силакова встретиться со следователем непременно, ведь и он, Силаков – а с ним и Мерцалов, – тоже так просили вчера, а я обещал! Прокуратура Куйбышевского района, сказали, следователь Бекасова – побывать, поговорить, придумать что-нибудь. Пожалеть надо парня, никакой не преступник он – так просто случилось… Вон сколько очерков могло бы быть! Нет, им подавай по-быстрому и – в масть начальству. Как «Суд над равнодушием» бабы этой…
А еще ведь Лора…
И стоило только о ней подумать, как я совсем растерялся. Что же тут-то? Как с этим быть? Ведь неделя прошла – неделя! – а я даже и не звонил. Вдруг звонила она? Меня ведь не было дома все эти дни… Поссорились в пятницу, да, но ведь…
Да, да, «Черная пятница» – она не смогла, и получилось так нескладно, но может быть она действительно не могла и ничего обидного для меня нет, а я так болезненно все воспринял? Получается, что и я – отчасти как Антон? Мало ли, что там у нее… А я-то включился в работу, увлекся своими поездками, обо всем человечестве думаю, а в это время человек, может быть, самый близкий…
О, господи, она же доверилась мне, а я!… И если бы только она… А другие, с которыми волей-неволей уже как-то связан – да, да… Для всех них должен же я что-то сделать, должен, должен, должен…
Скорее очерк писать, скорее, немедленно! Только так смогу им помочь, только так! И Лоре тоже! И себе…
Да, но… какой очерк? О чем конкретно? О ком именно? О Грушиной-Ваничкиной? Но это же мелко, мелко…
В тревоге, в панике, суетливо схватил свои записи, принялся лихорадочно листать. Чистую тетрадь взять, машинописную бумагу! Так, вот они. План составить? Да, хотя бы составить план! Но… Что выбрать? Что выбрать, чтобы они напечатали? И чтобы всерьез…
Несколько минут я неподвижно сидел над тетрадью, не зная, с чего начать. И теряя, теряя драгоценное время. То не пройдет, это не пройдет… Это – мелко. О Лиде Грушиной? Ну, да, Алексеев одобрил вроде бы. Но несерьезно ведь это все-таки по большому счету, «шефство». После всего, что видел… Не главное это, не главное. Силин правильно говорил насчет «шефства». Это не решает проблемы, это уход! Грушина – уникальный, особый случай, а в целом «шефство» себя вряд ли оправдывает, и уж никак это не решение проблемы вообще! Алексееву для отчета разве что… «Комсомольцы-добровольцы»… Варфоломеев-Силин, может быть, их «принцип»? Бесполезно, вне всяких сомнений – им ведь «сверху» мешают, из партийных кто-то, а это для журнала табу. На этот, Алексеевский, журнал, кстати, Шишко и так ругался… «Партия ошибаться не может!» Посещение тюрьмы?… Еще не хватало! Смешно даже… У нас ведь только «кто-то кое-где, порой»… «Какая тюрьма, вы что с ума сошли?» Силаков? Абсолютная безнадега. В Советском Союзе? Такая дикая история? Да вы что, Серов! Он же, Силаков, настоящий рецидивист – один раз своровал, другой раз своровал… А теперь – в третий раз! Олег Гуцулов, может быть?… Но ведь и он, понимаете ли, во второй раз… Может быть, о Штейнберге для другого журнала? Но для какого? Везде у нас фактически одно и то же. А все-таки Алексеев ждет… Ведь я обещал.
А еще пленки – обязательно! – и батарею! И фотобумагу…
Да, трудное это было утро. Что я хорошо ощущал, так это то, что писать так, как написан очерк в гранках у Алексеева, не буду, это уж точно. Никогда и ни при каких обстоятельствах, ни за что. Да и не получится, если бы даже и захотел! Но что же тогда? И есть ли вообще надежда, хоть малая надежда на то, что если напишу именно то, что видел, и то, что думаю по этому поводу, очерк пойдет в журнале? Ведь почти ничего такого в журналах я не видел пока! А если и видел какие-то намеки, то это у тех, кто с именем, кто знаменитый. Или, на худой конец, какой-нибудь деятель или член редколлегии… Да и то не по большому счету. Все как-то недоговаривается, все с оглядкой. Шишко и такие, как он, на страже! У меня же не пройдут и намеки, это ясно. Но тогда, значит, что ж… бесполезно совсем? Бесполезно даже и пытаться?
Не меньше часа, наверное, я сидел в неподвижности. Мысль лихорадочно металась, наталкиваясь на глухую стену вокруг. Словно в колодце я сидел, в бункере…
Что угодно готов был я сделать еще, куда угодно поехать, пойти… Но ЧТО? КУДА? Конечно, я понимал, что нельзя охватить все сразу, что выход, видимо, в том, чтобы постепенно. Хоть что-нибудь для начала… Но что? Мучила мысль, что не мне одному все это нужно. ВСЕМ, а следовательно… Я переживал за тех, кого видел, чьих судеб свидетелем стал…
Да еще и праздник этот в детском саду, черт бы его побрал! Хотя без него никуда…
Уж если Варфоломеев и Силин не могут… И если Алексеев одобрил бред о «Суде над равнодушием» и отверг тему о клубе Штейнберга… Снова и снова метались бедные мои мысли и снова скисали, никли… Я НЕ ЗНАЛ, что должен делать, как ПРАВИЛЬНО. Вязкая, вязкая паутина… Бункер.
Но вот гудки по радио. Девять часов! А еще Лора. Лора – вот же что важно, самое важное, может быть. сейчас для меня! Сейчас она придет на работу, уже пришла, наверное, входит… Чуть-чуть подождать и – позвонить? Из автомата, чтобы соседи не слышали! Мало ли, какой разговор…
Лора, Лора, ты понимаешь, я… я все сделаю, погоди немного, потерпи, не поддавайся, ни за что не поддавайся, держись… Мы… Мы придумаем что-нибудь… Я вот сейчас…
А еще немедленно – в магазин! Да, в магазин обязательно! Пленки нужны сегодня же, никуда не денешься, и батарея. По дороге думать, что-то решить. Тетрадь с собой. Хоть какой-то план очерка набросать, что ли, в метро может быть…
Собрался по-бустрому, вышел. Подойдя к автомату, бросил монету, набрал номер.
– Алло, Ларису Гребневу позовите, пожалуйста. Не вышла на работу? Больна? И вчера не была?!
Так.
И в таком я был состоянии, что тут же решил: произошло самое худшее! Она… Она не выдержала такой жизни, и… Сделала с собой что-то. Непоправимое! Я не знаю адреса, а то бы… Нет, вряд ли все-таки! Но… И все равно нужно, нужно пленки купить! Батарею для вспышки искать, фотобумагу – праздники ведь… План очерка по дороге…
Растерянный вконец, в смутном раздрызге заспешил я в магазин. Сначала в один, потом в другой, третий… В одном не было бумаги, в другом пленок. Батарею и вовсе пришлось искать упорно и долго…
С ума я схожу, конечно. О Лоре нельзя думать сейчас. Не может быть, чтобы… Все купить сумел – молодец! Еще не вечер…
33
– А, привет, Антон, заходи! Я тоже только-только пришел, по магазинам ездил – фотобумаги, понимаешь, подходящей нигде нет, да и батарею для вспышки вот с трудом нашел. Эти магазины! Всю душу вымотают, везде очереди, а того, что нужно, нет, с ног валишься… Ну как тут работать, скажи? Несчастного кустаря-одиночку обеспечить не могут…
– Нервы, Олег, нервы.
– Да, нервы, конечно. Но, понимаешь, какое дело: то одного нет, то другого… Да и с очерком этим еще… Ну, ладно. Садись. Сейчас чай сделаем.
– Заходил тут несколько раз, тебя все дома нет.
– Да, верно, в хлопотах я. Насчет очерка. О малолетних преступниках, я тебе говорил?
– Да, что-то говорил, кажется.
– Езжу вот. По разным местам. Вчера в тюрьме был.
– В тюрьме? Ну и как, интересно?
– Интересно-то интересно, но что-то делать надо. Помочь как-то. Очерк вот написать. Не знаю только… То им не подходит, это не подходит. Сами не знают, что. А завтра в детский сад на съемку. Деньги зарабатывать тоже надо. Ты-то как? Что нового?
– Ну что у меня нового может быть, Олег. Конец месяца, штурмовщина, план горит, проект заваливаем, начальство, говорят, менять будут, неразбериха… Бардак, одним словом.
– А Лору… видел? Я сегодня звонил, сказали, больна.
– Сегодня… Погоди, так я ее сегодня и видел. После обеда курили вместе. На горло жаловалась, верно. Опоздала, к обеду только пришла. В поликлинике была утром, а бюллетень, как будто, так и не дали.
– Пришла? А то я уж думал…
– Да что с ней сделается? – продолжал Антон. – Кстати, был у нас с ней о тебе разговор.
– Обо мне? Какой же разговор? Интересно!
– Ты что, на балет ее приглашал? На «Лебединое озеро», да? Об этом, кажется, и говорили. Что-то она не в твою пользу сказала. Смеялась над тобой – наивняк ты мол. Сказала еще, что ты жалкий. С каким-то даже животным сравнила…
– Что? Смеялась? Не в мою пользу? Жалкий? С животным? Как это?
Я почувствовал, что бледнею.
– Да, сказала, что ты жалкий. А вот с кем тебя сравнила, не помню. Нет, не с животным, нет. С князем Мышкиным, из «Идиота», вот с кем, да. Помнишь такого?
– Мышкин? Помню. Ну и что? Единственный человек честный среди них, кстати…
– Вообще-то мне неприятно было за тебя, – продолжал Антон спокойно. – Я тебя вообще-то оправдывал, а она еще что-то обидное про тебя сказала. Ну, в общем ерунда. Я же говорил тебе, что она дрянь. Не придавай значения, плюнь. Не стоит она того… Чайник иди ставь.
Тут я, наконец, осознал. Меня словно ударили. Я вышел из комнаты.
Но, может быть, Антон лжет? Однако «Лебединое озеро»… Значит, она рассказала. Жалкий? Это я-то жалкий? Ничего себе! Это потому, что ее пожалел, так что ли? Мышкин? Она жаловалась мне на свою жизнь, я сочувствовал ей – и выходит, что это я жалкий? Не она, а я?
Хорошо, что на кухне не было никого из соседей. Не видели моего лица, не спрашивали. Я налил воду в чайник, зажег газ. Постоял немного. Но, может быть, Антон врет, преувеличивает, от себя добавляет?
– Извини, Антон, – вернувшись в комнату, сказал я почти спокойно, сдержанно. – Вспомни получше. Я что-то не понимаю все-таки. Насчет Лоры. Расскажи поподробней, пожалуйста, мне это важно. Понимаю, что слишком завожусь, но все равно. Вспомни, я тебя очень прошу. Неужели действительно «жалкий»?
– Ох, Олег, я тоже устал. Да брось ты, наконец, ей-богу! Ну что ты в ней нашел, скажи? Да, действительно «жалкий», так и сказала! Я думал о том нашем разговоре, помнишь? Насчет нее. Насчет самой Ларисы думал. Встречал ее несколько раз в коридоре, курили вместе, разговаривали. Присмотрелся к ней. Ну ей-богу же это не то, что ты думаешь! Ты ошибся, Олег. Обычная хищница. И самая обыкновенная дрянь. Может, и была когда-то человеком, но только не сейчас. Сломалась. Впрочем, нет – она всегда такой и была, люди ведь не меняются. Ты, может быть, думаешь, что я заинтересован в ней, и поэтому? Нет, Олег, нет. Может, она и ничего как женщина, как самка, что-то в ней есть. Лицо красивое, тело как будто бы тоже. Переспать и я не прочь, если честно. Но всерьез-то зачем?
Он помолчал, сам стал доставать чашки из шкафа.
– Впрочем, что я! – заговорил опять. – Если между вами что-то есть, как ты говорил, если вы с ней были, то что же? Тебе и карты в руки. Ведь ты на коне! Только жалким не будь все же! Не к лицу это тебе. Мужчиной надо быть всегда.
И все же странным было выражение его лица, непонятным.
– Ты можешь с моим мнением не считаться, я понимаю, – продолжал он. – А я вот еще одно вспомнил, детальку маленькую. Звоню тут ей как-то – покурить захотелось, дай, думаю, ее позову, вместе покурим. Так вот, звоню. А простыл немного, и голос хриплый. Я только «алло» сказал, а она тут же: «Это ты?» – радостно так. Да, говорю, я, хотя не понял, почему она радостно. А она тотчас: «Андрюша, миленький, я сегодня не могу, работы много, давай завтра…» И еще какую-то чепуху. Я назвался, а она смутилась сразу. Даже курить со мной не пошла. Ждала ведь, ясно! Знаешь, судя по интонации, с этим Андрюшей у нее не так уж и плохо. Скажи, если она отдалась тебе, как ты говоришь, специально для этого приходила, если у вас такие великолепные отношения, то почему она с ним так радостно? Или – наоборот, – если у нее с ним так хорошо, то зачем же она с тобой? Да и с нами тогда?
– Но ведь она замужем, Антон, – сказал я тихо, едва ворочая языком. – Может быть, Андрюша – это как раз ее муж?
– С мужем так не говорят, это во-первых. А потом с мужем она уже развелась. Это я точно знаю. Мы говорили с ней об этом, она нам с Костей рассказывала. Суд был, их и развели. Да, она ведь еще просила кандидата ей поискать! Когда к тебе ехали в прошлый раз, она и о тебе спрашивала с прицелом – кто да что. Я ей сказал, что ты холостой, один живешь, комната на самом деле твоя, скоро институт закончишь. Писатель! Я тогда значения не придал, шутили все, а теперь… То-то она так обрадовалась, что ты холостой! А после уже когда о тебе говорили, такого оживления не было. Увидела, что здесь особо не разживешься. Кстати, мужа ее Володей зовут, я вспомнил. А не Андрюшей вовсе. Ну, ладно. Иди, чайник посмотри, может, вскипел уже.
Я вышел за чайником и почувствовал, что как-то странно у меня сводит губы. Постоял минутку на кухне. С чайником вошел в комнату.
– Да, вот еще, Олег, – сразу заговорил Антон. – Вот что еще я хотел тебе сказать, вспомнил. Она и тебе, небось, жаловалась на свою жизнь, да? Ну, конечно! Я-то думаю, почему ты к ней так… Ты ведь неглупый человек и женщин знаешь, вроде бы, а тут… Ну, так жаловалась, скажи честно?
Я молчал. Я откупоривал пачку и заваривал чай.
– Можешь не говорить, ясно, – продолжал Антон. – Это ее привычка. Чтоб не сказать: прием. Она ведь и нам с Костей жаловалась. С семнадцати лет одна, мать пьет, отца нет, мужики пристают, начальник донимает… Так? Раньше – в торговле работала, подруга ее предала…
– И вам говорила? – только и мог пробормотать я.
– Ну, конечно! А ты думал, она к тебе, как ко Христу со своими болями и печалями, да? Один только ты и можешь помочь бедной, несчастной? Интересно, а деньги она у тебя не просила? Если нет, то только потому, что видит: не разживешься, у тебя самого их нет. А в ресторан наверняка хотела пойти, да?
Я молчал. Что-то все же было не так, что-то не так! Я не мог не верить Антону, но чувствовал: что-то не то.
– С мужем разошлась. Очень несчастна, никого близких нет, мать мужа, то есть свекровь, говорила, что она, Лора, испортила ему всю жизнь, – продолжал Антон с каким-то вызовом даже. – Так? Теперь хочет с работы уходить, но другую, будто бы, никак не найдет. Начальник пристает, толстый, потный – я его видел… Верно? Но, между прочим, работу новую она что-то не очень ищет! Ей здесь выгодно, знаешь, почему? Ты не задумывался, почему она у нас работает, в Академии? Мужиков здесь много, мужчины с будущим, обеспеченные, оклады хорошие! Да и в НИИ, поблизости с нами, мужиков много холостых. Вот она и охотится. А пока неплохо время проводит. У нее из Академии знакомых полно, по ресторанам ходит то с одним, то с другим, подарки дарят наверняка. Она ведь одевается неплохо – ты не заметил? А получает что-то рублей семьдесят в месяц, на них такую одежду, такие украшения вряд ли… Я не хочу сказать, что она обязательно трахается с каждым, она не такая дура, но подарки-то берет! Да и деньги наверняка… Костя, кстати, тоже ведь приобщился, я тебе не говорил еще, нет? Вы с ним, как бы сказать, молочные братья теперь, поздравляю тебя. Я думаю, он не врет. У нас кабинет с диваном есть, главное – в здание проникнуть вечером. Но у Кости с вахтером блат. Ну да ладно, бог с вами, веселитесь, дети мои, упаси вас боже от одного – от инфекции. Я слышал, что она, бывало, с шоферами-дальнобойщиками… Не знаю, так ли, может, вранье. Но слухи ходят. Ну, все, давай чай пить. Наливай.
А мне вдруг мучительно захотелось смеяться, смех просто душил.
– Диван, говоришь? – сказал я, едва удерживаясь. – С вахтером блат? Дальнобойщики? Ох, ну, вы даете, ребята. Вахтер на стреме с ружьем, да? А на диване в это время, вечерком… Или с револьвером он, может быть? Он у вас в форме, нет, вахтер-то? Или в тулупе, с берданкой?
Я засмеялся, но захлебнулся быстро мой смех..
– Ладно, – сказал я. – Пусть. К чертям собачьим. Давай чай пить. Приобщился так приобщился. Дальнобойщики – значит дальнобойщики, черт с ней! Только… И вам жаловалась, ну и что? Деньги берет? Сам же говоришь, что семьдесят получает. Жить можно на эти деньги, а? И ведь на самом деле красивая девушка, ей бы…
– Красивая?! Красивая, говоришь… – тут уж Антон чуть не задохнулся. И чашку чуть не разбил.
Я даже не ожидал, что он так разгорячится. Он встал и по комнате заходил большими своими шагами. Эстафета получилась. Теперь Антон разволновался и продолжал:
– Ты вот насчет преступников, говоришь, ездишь, так да? – сказал он вдруг, наклонившись и глядя мне в глаза опять с каким-то вызовом. – Тоже, небось, все на обстоятельства жалуются! Ну, скажи, жалуются? Ах, мы бедные, ах, несчастные, отпустите нас, так получилось, мы не хотели, мы больше не будем! Верно? А ты их жалеешь. Ах, возьмем на поруки, ах, пожалеем оступившихся, ах, руку протянем для поддержки, ах, может быть даже и денежками поможем! Так? «Не вини коня, вини дорогу», да? Новая песня, недавно сочинили! В духе новых времен! Скажи, почему же это Ларисе хуже, чем кому-то другому? Ну, тебе, например! Ты же проституткой не стал пока, хотя мог бы. Еще как мог бы! Ты почему блядско-советские сочинения не пишешь, а? Почему? Ведь печатали бы! Тебе что, так уж легко, да? Ты же способный малый – вот и пиши. Продавай себя, как другие, давай!
– Подожди, Антон, – перебил я. – Причем тут… Значит, у меня по-другому сложилось. Все-таки по-другому. У нее-то, у Лоры, с самого начала жизнь ненормальная была. Ей труднее, потому что… И мать , и отец… Мужики ходили всякие. А в пятнадцать лет…
– Да брось ты! Мученицу нашел! Красавицу писаную. С мужиками меньше водиться надо! Себя держать! Изнасиловали, ну и что? Не умерла же! И даже не родила. Подумаешь, в пятнадцать лет! У других и раньше бывает! Я вон знаю – в тринадцать. Ну и что? Почему она не училась и не учится, а, скажи? Другие могут, а она нет? Почему бы ей в институт не поступить или в техникум, на худой конец? Курсы какие-нибудь. Мало ли! А она – в продавцы пошла. Ты знаешь, что она в торговле работала? Кто виноват?
Я молчал. Я просто пил чай.
– Ты вот про грудь ее говорил, – вдруг сказал Антон, хмуро глядя. – Скажи, зачем она ей? Детей надо кормить такой грудью, а она… Э, да что там. Выпендреж все это. Амбиции, глупость. Лентяйка она и паразитка. Как и преступники твои малолетние, которых ты тоже жалеешь, наверное.
– Антон, – сказал я, когда уже легли спать и свет погасили, – скажи все-таки, почему ты так? И ведь ты даже на меня злишься. За что? И на нее злишься, и на меня. Почему злости столько? У них ведь действительно…
– Да потому, что… – заговорил Антон со своей раскладушки. – Оправдываешь всех подряд! Люди должны работать, понимаешь, работать! А не на обстоятельства сваливать. Дрянь твоя Лариса, паразитка и тунеядка. Мертвая она, труп! А ты ее гальванизируешь, как лягушку. Лапки дергаются, а ты и рад – спасаешь, значит. Посмотри, сколько крокодилов вокруг! Хапают, что могут, друг друга предают ни за грош, ничего святого нет! И жрут, жрут, гадят! Не люди, а свиньи какие-то. Гуси! Крокодилы на отмели! Идет игра, Олег. Да, жестокая, но какая уж есть. Хочешь играть и выигрывать – играй. А не ной. Побеждает сильнейший! Не нами правила эти придуманы, не нам с тобой их менять. Да и надо ли, а? Надо ли менять-то? Мы с тобой вкалывать будем, а Лариса и такие, как она, тем временем… Ладно, давай спать. Устал я, ей-богу. Спокойной ночи.
Я молчал, не отвечал Антону. Но и не обижался, нет. Я вспоминал.
34
…Вот я мальчик. Мне семь или восемь. Отец на фронте, матери нет, умерла. Сестра и бабушка. Живем очень голодно – бабушка больная и не работает, сестре двадцать лет, она работает и учится, получает гроши. И вот сестра опять сделала что-то смертельно обидное для меня – оскорбила! – и не в первый раз уже, до глубины души обидела. Чаша моего терпения переполнилась, я понял, что больше так жить невозможно. «Не хочу, не хочу жить!» – так думал я искренне.
В полном отчаянье я взял нож из шкафа, тупой нож, которым резали хлеб, и принялся точить его на бритвенном отцовском бруске. И тут вошла сестра. Она еще не остыла от ссоры и, едва взглянув, сразу все поняла, но даже не попыталась отнять орудие предполагаемого самоубийства. Она встала надо мной и засмеялась: «Уж не меня ли ты зарезать собрался? Давай-давай, точи нож поострей, дурак несчастный». Да, да, я понимаю, я выглядел очень жалким и, конечно же, глупым.
И как я понял позже, у нее просто была привычка говорить такие слова, не придавая им особого значения. Жизнь была вокруг очень нелегкая, не до сантиментов! И точил я нож на виду у нее все-таки – глупо, я понимаю. Ясно, что не для того, чтобы зарезаться или ее зарезать, а «чтобы ее наказать»: вот, мол, смотри, как ты меня обидела, до чего меня довела. Обида, жалкая, но мучительная обида – как еще мог я ее выразить?
Но именно это, очевидно, ее и взбесило. Конечно, теперь понятно и, может быть, даже смешно. А тогда все для меня было серьезно, я помню. На самом деле жить не хотелось. А уж после ее насмешливых слов обида вспыхнула и вовсе с невыносимой силой, слезы хлынули в три ручья – и слезы, и сопли, и слюни… И это было, я понимаю, очень жалкое зрелище. Давясь, ничего не видя перед собой, не соображая, уже по-детски всерьез мечтая о том, чтобы на самом деле умереть и тем самым «наказать ее», я продолжал водить ножом по бруску и в полном отчаянье смог только выдавить из себя: «Не тебя. Себя…» «А! – весело вскрикнула сестра. – Так ты себя решил зарезать, вон оно что! Ну, что ж, давай-давай. Посмотрим, что у тебя получится! Ну-ка, я посмотрю, сможешь ты или нет?»
Потом-то я, конечно, понял, что она была уверена в том, что я не смогу ударить себя ножом и что с моей стороны это всего-навсего демонстрация. Жалкая, ничтожная демонстрация. А потому она просто в сердцах отводила душу. Потом-то я понял. Но тогда! Тогда жуткое ощущение беспомощности, брошенности, крайнего горя, сиротской несчастности поглотило меня целиком. Ведь я действительно был сирота, ребенок – матери нет, отца нет, – а она взрослая, намного старше, и оба родителя у нее все же были. Так что не на равных все было, а потому в своей жестокости она и на самом деле была не права. Но не останавливалась.
«Ну, давай-давай», – подзуживала она, конечно же презирая меня в этот момент за нытье, за сопли, за то, что ей тяжело тоже, что у нее, молодой девушки, тоже нелегкая жизнь, а одна из причин этого – я. Она и так вынуждена возиться со мной, а теперь еще меня почему-то и утешать, хотя ей и так уже все надоело до смерти… «Давай-давай, идиот несчастный! Ничтожество…» – выдохнула она, сама в слезах, и вышла из комнаты, хлопнув дверью.
Да, ей было тяжело тоже, потом я понял. Но тогда…
«Идиот несчастный». «Ничтожество». «Такое же, как твой отец». «Ты не сможешь…» Отца моего, насколько я знаю, ни она, ни бабушка, мамина мать, не любили и не очень-то уважали, считали его слабым и странным каким-то…
Кто из нас, взрослых, не слышал чего-то подобного в детстве от «старших»? Редко кто. А ведь ребенок принимает всерьез каждое слово! И тогда, в тот дикий вечер, когда я точил нож в соплях и слезах, – не разумом, нет, но детским инстинктом – я уже понимал, чувствовал, что если не выполню рокового своего обещания сейчас, не докажу ей, а главное даже не ей, а СЕБЕ, то сестра и вовсе не будет считаться со мной, уважать не будет вообще. Но деться-то от нее мне было совершенно некуда! Так как же ей доказать? Как достоинство свое сохранить?
Убежать из дома? Но куда? В лес (как в книжках)? Но до леса еще надо доехать, к тому же тогда была зима… И как там, в лесу, жить? Я же не знал леса, я был там всего несколько раз в жизни, когда ездил к тете в деревню. Хорошо бы скрыться где-нибудь до тех пор, пока вырасту, но где? На вокзале каком-нибудь? Но там милиция, это я знал… И нет у меня никакого выхода. «Ненавижу, всех ненавижу, не хочу жить!» Да и как жить, если вот сейчас я опять проглочу оскорбление, опять проиграю сестре? А значит, я и правда ничтожество? Что же, что же мне делать?
И вот что еще хорошо помню: уже тогда какое-то едва уловимое чувство подсказывало: я все же не прав. Сестра не права тоже, да, она жестока, несправедлива, но хвататься за нож – это слишком… И еще потому я не прав в детском наивном своем шантаже, что ведь любил ее, был благодарен ей за то, что она вместе с бабушкой возится со мной, пока отец на фронте – а матери-то моей ведь давно уже нет в живых. Так что очень хорошо я понимал, знал: и ей нелегко. И на самом деле она добра ко мне…
Уже тогда знал и то, что ее мать разошлась с отцом, и были у нее свои горести немалые – видел даже, как она плакала, хотя ненавидела, презирала нытье в принципе, потому что если ныть, то просто не выживешь. К тому же она ведь была убежденная комсомолка, сталинистка, верила и в «Светлое Будущее» и в «Как закалялась сталь». И совершенно искренне она пыталась и мне привить мужество, стойкость и ту же «непоколебимую веру». Ведь вот потом уже, когда отец погиб и бабушке с сестрой за меня назначили пенсию, чепуховую какую-то сумму, от которой, конечно же, не разбогатели, я сам предложил, чтобы сестра купила себе на первую же месячную выплату этой пенсии дорогие духи «Красная Москва» – потому что так эти гроши хоть запомнятся. Это было, наверное, «против принципов», ибо хорошие духи – «буржуазные предрассудки», но сестре тогда было всего двадцать с хвостиком, и приличных духов у нее не было никогда. И ведь это она, именно она настояла, чтобы бабушка оформила опекунство вместо того, чтобы отдать меня в детский дом, когда погиб отец – и так для меня комнату родителей они сохранили!
И все же, и все же. Вот уже сколько лет прошло, а помню ту сценку с ножом, не заросло. Детское горе – настоящее горе, оно никогда не проходит бесследно, даже если мы думаем, что проходит…
35
И еще, и еще вспоминались сценки из прошлого, разные. Ну, вот, например, такая, из школьных лет.
Любимым развлечением одного из учеников, Груздева, было: набрать путем решительных и звучных движений носоглотки побольше «материала» и – метко сразить большой слизистой «пулей» бегущего по коридору ученика младшего класса. Зачем? А просто… Этот Груздев был действительно метким «стрелком», чем очень гордился. То, как чувствуют себя маленькие ребята, которые служили ему «мишенями», его совершенно не интересовало. Впрочем, нет: чем больше его боялись, тем полнее было его торжество. Менее меткие и решительные последователи его развлекались тем, что оставляли заметные блестящие следы из того же самого «материала» – исподтишка – на спине учительницы рисования, одинокой женщины, уличенной, однако же, в том, что кто-то где-то «видел ее с физкультурником».
Развлекались еще и тем, чтобы незаметно, тишком, из-под парты выстрелить из миниатюрной рогатки жестко свернутой бумажкой в лоб историка Владимира Алексеевича Протоклитова – кстати, как я понял позднее, одного из лучших учителей, которых встречал в жизни, упорно не поддававшегося так распространенному тогда дурману и преподававшего историю действительно интересно и честно, – но вот, на свою беду, не умевшего поставить себя строго с учениками. Его тоже считали «жалким», «добрым чудаком», а выстрелам из рогатки, разумеется, не придавали особенного значения и очень радовались, если «снаряд» попадал в цель.
Много было развлечений над «жалкими», что уж говорить об элементарных избиениях «просто так» или «чтобы помнил, кто главный», или по принципу «отдай деньги». Но еще одно запомнилось мне особенно, именно потому, что, во-первых, я сам в конце концов стал жертвой, а во-вторых, потому, что название этого развлечения было весьма злободневным и, как я понял позднее, символическим. Изысканное, можно сказать, развлечение.
Оно называлось: «кастрировать». Тогда, что-нибудь классе в седьмом, мальчики начали замечать в себе серьезные не только внутренние, но даже и внешние телесные изменения, которыми, конечно, весьма интересовались, а то и гордились (они в то время происходили позднее, чем теперь – питание было не то, да и вообще жизнь другая). И вот очень интересно было узнать, у кого как они происходят.