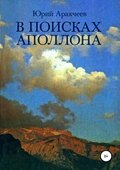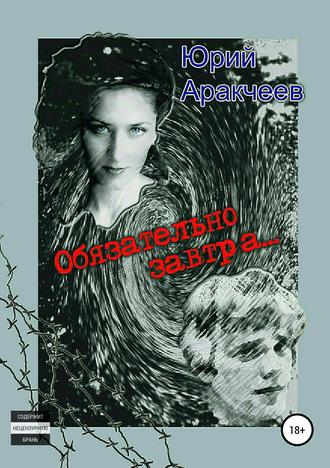
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
Он опять становился энергичен и бодр, руки его машинально что-то перекладывали на столе.
– Что ж, ладно, – сказал я, вставая. – Подумаю, Иван Кузьмич, спасибо. Позвоню тогда. Или очерк принесу. Сколько времени вы мне даете?
– Да ведь… Давно бы надо уже. Позавчера еще. Ну, неделю еще можно подождать, а вообще-то чем скорее, тем лучше.
Он, глядя на меня, улыбался.
– Хорошо, – сказал я. – До свиданья.
42
Так значит, все бесполезно? И человек не меняется, вернее – меняется, но в одну только сторону и коченеет в беспомощности, умирая душой, хотя и носит еще какое-то время на костях свое безвольное тело? – мучительно думал я, отчетливо чувствуя уже тогда, что ничего у меня не получится с журналом. Я – другой. Я не приспособлен к этой жизни и приспосабливаться не собираюсь. Это – не жизнь. Это подневольная служба и бессмысленная, вот в чем дело. Да, неплохие материалы бывают в журналах, да, Алексеев неплохой человек, но он ничего настоящего не может сделать в существующих условиях, как и я, видимо. Ложь господствует. И радости никакой.
Я не мог забыть «Хеппенинг в белом». Это – правда. Я верил, что в нем – правда. И – можно летать. Причем не только на дельтаплане. Трусость и ложь, словно клейкая слизь, связывают крылья наши, превращают их в безвольные культяпки, отнимают веру и делают хороших людей ничтожными. Может быть, пингвины – это ленивые и трусливые альбатросы? Но они хотя бы научились плавать… Да-да, мы в своей стране тоже умеем плавать, только не в море. В грязи.
Я помнил. Помнил, как воспитывала меня сестра. Да, история с ножом была отвратительная, но были ведь и другие истории. Совсем другие были моменты. Однажды нужно было написать школьное сочинение, а я не успел, и был уже вечер, а завтра нужно нести, я же не написал ничего. «Соберись, – сказала сестра. – Выпей крепкого чая. Облейся холодной водой. И – пиши. У тебя целая ночь. Можно и не доспать, если надо».
Да, это было трудно. Глаза слипались. Я цепенел в отвращении к теме сочинения – «Положительный герой в советской литературе». Можно было выбрать Шолохова, Николая Островского или еще кого-нибудь. Я и выбрал Островского «Как закалялась сталь», образ Корчагина. Я уважал героя, но ненавидел его за то, что вынужден теперь сидеть над тетрадью и что-то выдавливать из себя, а потом еще и переписывать набело. И главное – зачем? Кому это нужно? Ради закорючки в классном журнале? Но сестра не отставала, она стояла у меня над душой, она взывала к моей совести и достоинству, она утверждала, что это нужно прежде всего мне самому. Да, можно было поступить очень просто – спокойно лечь спать, а завтра сделать температуру (я это умел) и вызвать врача на дом. «Зачем? – возражала сестра. – Все равно ведь писать придется. Зачем унижаться? Отделайся, и совесть будет чиста».
Она сказала «достоинство» – это слово, наверное, и сработало в конце концов. И я написал. Скрипел зубами, ругался про себя, но писал. Под конец мне даже нравилось, что пишу. Я ведь уважал и Островского, и Павла Корчагина, на самом деле уважал – они не лгали. И это поддерживало меня. Закончил в три часа ночи.
И получил пятерку за сочинение!
Это был не единственный такой случай. И за это я благодарен сестре на всю жизнь. При всем, при том, что много в сестре было и такого, что мне абсолютно не нравилось. Человек сложен – главное, понять лучшее в нем и ценить.
Потом я влюбился в книги Джека Лондона. И особенно в «Мартин Иден». Вот кто умел работать – моряк Март Иден, ставший в конце концов знаменитым писателем! Да, за все нужно платить в жизни. И прежде, чем научишься чему-то – набьешь шишки, от них никуда не денешься. Но зато и награда щедрая тому, кто не боится. Ничто не приносит такой радости, как умение хорошо делать что-то! Но очень важно не сдаваться и идти дальше, потому что результат редко бывает сразу. И чтобы взлететь, придется оторваться от земли. Вот бабочка, например. Сколько времени проводит будущее порхающее создание в стадии толстой неповоротливой и беззащитной гусеницы! А потом еще в стадии куколки повисеть или полежать где-то. Но зато потом…
Правда, что касается Мартина Идена и автора романа, самого Джека Лондона… Март Иден, стал-таки известным писателем, настоящим писателем, но… Слишком противно было ему в мире лжи, где все продается – и он покончил с собой. Добился, но покончил с собой. Судьбу своего героя повторил потом и сам автор, Джек Лондон, увы. Но ведь это было в капиталистической стране, где главное не жизнь человеческая, а деньги, то есть ложь – вот он и не выдержал! Устал, потерял веру в жизнь… У нас тоже много лжи, но главное в нашей стране все же не деньги, главное – ценности человеческие: дружба, любовь, сочувствие, совесть… Есть, ради чего трудиться!
Так что же мне делать с очерком? И вопрос: есть ли смысл стараться угодить Алексееву?
Написать что-то по его просьбе можно, конечно, но душа не лежит. Если бы проблема была не такая серьезная – другое дело. И потом. Совершено ясно: что даже если я напишу так, как хочет он и как «нужно журналу», и даже если в принципе примут мою работу, то уродовать начнут все равно. Это неизбежно, у нас это принято. И я не смогу ничего сделать – мое достоинство журналиста, мое авторство никто не примет всерьез. Так у нас повелось. «Для пользы дела» – этим они оправдывают все, что угодно, а в первую очередь холуйство перед начальством. «Польза дела» у них очень своеобразная. К тому же есть привычная для редакторов отговорка: «Иначе этот материал не пройдет». То есть не имеет значения, настоящий, достойный это «материал» или нет. Главное – «пройдет» он или «не пройдет», то есть будет он одобрен начальством или не будет. Значит, все решаешь не ты, не твоя совесть, достоинство, честность, талант, а – начальство?
Как раз незадолго до того я читал материалы «Нюрнбергского процесса», и особенно любопытным казалось мне то, что фашисты, которые создали гигантскую машину по истреблению людей и, в частности, печи Освенцима, Майданека, Треблинки, вовсе не считали себя виноватыми – они оправдывались тем, что выполняли приказы начальства. Главного начальника – фюрера! И вообще «работали на благо Великой Германии». Да, видимо, многие немцы делали все такое действительно искренне, они поверили в правоту Гитлера, в справедливость нацизма. А результат? Миллионы людей стали убивать друг друга, десятки миллионов погибли. «Великая идея» оказалась ложной, а жертвы бессмысленными. Выходит, что истина была не в приказах гитлеровского начальства, а в жизни? Но… Разобраться как?
И ведь не все попали тогда под власть «великой идеи». На том же Нюрнбергском процессе выступали свидетели, которые при Гитлере пытались бороться – они понимали преступность гитлеровского режима…
А у нас? Многие советские бойцы в Отечественную тоже умирали с криками «Да здравствует Сталин!». А в это же время в лагерях по всей стране с ведома Сталина, а то и по его прямому приказу сидели за колючей проволокой миллионы. И расстреливали свои своих «во имя идеи» тысячами. Большинство – невиновных… Теперь говорят: был «культ личности»! Некоторые утверждают: «Мы не знали…» Ну, а теперь?
Многие ли понимают теперь, что делают? Многие ли понимают, что нужно НА САМОМ ДЕЛЕ? Четко чувствовал я только одно: нельзя предавать себя! Трудиться нужно, лень свою и трусость преодолевать необходимо в любом случае, хотя, конечно, частенько именно это и есть самое трудное. Но ни в коем случае нельзя делать то, чего не позволяет тебе твоя совесть. Хотя ведь и это не всегда легко понять. Чего только ни внушают каждому из нас со всех сторон! Как разобраться, где твоя собственная совесть, а где чужая лукавая воля?
А еще не давали мне покоя свидетельские показания на суде против нацистов:
«…Мужчин, женщин, детей выстраивали в длинную очередь, заставив раздеться догола. Старшие утешали младших. Какой-то старик взял на руки маленькую девочку, показывал ей на небо и гладил по головке, утешая. Слышны были тонкие завывания женщин, кашель, и чавканье грязи от медленно переступающих ног. Периодически раздавалась короткая автоматная очередь. Череда людей двигалась к краю большого глубокого рва, в который вели земляные ступеньки. Совершенно обнаженные люди обоих полов спускались по этим ступенькам на дно, где уже сплошным слоем лежали трупы. Некоторые еще шевелились, слегка постанывали, на их серовато-белой коже, на волосах выступала кровь. Те, что спускались, осторожно ложились сверху и гладили тех, кто был еще жив. Но это длилось недолго, так как эсэсовец, сидевший на краю рва с автоматом, выпускал очередь, не целясь, со скучающим выражением лица. В зубах у него дымилась сигарета…»
То, что делали нацисты, было, конечно, чудовищно. Но особенно диким казалось мне даже не то, что творили они. А то, как послушно люди им подчинялись. Ведь в той очереди к Бабьему Яру толклись сотни людей, даже тысячи. До какой же степени рабского послушания были доведены они, если ЗНАЛИ, что будут расстреляны, – ВИДЕЛИ, что делают эсесовцы! – и все-таки шли послушно! Даже соблюдали порядок в очереди! И – умирали. Умирали организованно! Как покорные овцы. Нет, хуже. Овцы наверняка отчаянно блеяли бы и вряд ли бы соблюдали порядок. По крайней мере пытались бы разбежаться. И уж никак не «утешали» бы друг друга, не «осторожно ложились сверху» и не «гладили бы» тех, кто был еще жив.
Что же есть в нас такое, что заставляет безоговорочно подчиняться даже тогда, когда мы видим: подчинение несет гибель?
43
…Перед самыми праздниками позвонил Виталий. И пригласил на рыбную ловлю на праздники. Он сказал, что Жанна с нами поехать не сможет, но можно вдвоем. Это ведь лучше, чем просто где-то сидеть за столом, правда? Конечно! Вот и поговорим, подумал я еще. Виталий умный парень, стоит к нему прислушаться. Он мне поможет…
Встретились на вокзале рано утром. Было ясное, свежее утро первого майского дня. Уходя, я оставил комнату, где стоял на столе увеличитель и ванночки, а на полу растворы в бутылках. И пачки фотобумаги лежали стопкой, и выпрямлялись под прессом напечатанные только что фотографии. А на другом столе лежали тетради с записями. Ничего, на два дня имею право уехать! Главное все же – решить, как поступать с очерком. Трезвая голова – самое главное.
Я запер дверь и вышел на улицу – словно вынырнул из тусклой и мрачной глубины на поверхность, к солнцу. Я дышал полной грудью, наслаждаясь короткой свободой, и рад был встретить улыбающегося Виталия. Мы взяли билеты, сели в электричку, поехали…
За окнами плыли сначала дома, потом маленькие дачные домики, наконец, кусты и деревья, весенняя, просыпающаяся земля, голубое небо и солнце. Сначала мы с Виталием просто смотрели в окно и друг на друга, улыбались, ловили солнечные лучи, любовались зеленой дымкой распускающейся листвы на деревьях… Потом слово за словом начался разговор. Виталий спросил о чем-то, я ответил. Был еще вопрос и еще ответ, а потом прорвалось. Тут уже я не мог удержаться. Столько накопилось, так мучило, так нужна была ясность, определенность хоть какая-то, так необходимо было разобраться, понять!
И кому ж рассказать, как не Виталию? Ведь когда-то он был самым близким мне человеком, мы понимали друг друга с полуслова и он, кстати, тоже пытался заняться писательством – начал, когда учились в институте, – но потом перестал. Он целиком отдался физике, а я, наоборот, ушел с третьего курса и ринулся в жизнь – работал в НИИ, на заводе, на стройке, грузчиком, рыбаком, разнорабочим, фотографом… Какое-то время мы еще перезванивались, встречались – Виталий не поддерживал мое решение об уходе, считал, что безнадежно рассчитывать на то, что честные сочинения будут публиковать в Советском Союзе. «Мы все под сенью гигантского баобаба, твой росточек зачахнет все равно,» – образно говорил он. Я возражал: «Не росточек, а дерево я выращу, чего бы мне это ни стоило. И не под сенью баобаба вовсе, а самостоятельно, в стороне». Виталий скептически усмехался. Закончив с отличием институт, он остался в аспирантуре.
У него всегда была ясная голова, у Виталия, он не был так эмоционален, как я, и, может быть, поэтому нам было особенно интересно общаться – мы дополняли друг друга. Кто же теперь поможет добиться ясности, как не он?
И опять я начал рассказывать по порядку – и о Лоре, и об очерке, – все по порядку, одно за другим. И, рассказывая, чувствовал, как становится легче, как выстраивается линия более-менее стройно, полной ясности нет пока, но она брезжит, проблескивает, и кое-какие сомнения исчезают. Каким-то своим поступкам я радуюсь, какие-то, наоборот, вижу ошибкой и, ко всему прочему, с нетерпением жду, что скажет Виталий, какую, так сказать, резолюцию вынесет. Как оценит, что посоветует.
Да, выстраивалось, выстраивалось, и было это чрезвычайно любопытно и, рассказывая, старался я смотреть на себя со стороны, словно в зеркало. И пусть искаженно, пусть не совсем объективно, но видел, видел кое-что… Да, конечно: и страх мешал мне всегда, как всем, и неуверенность, и всякие комплексы – то есть та самая «жалкость», Лора права, – но все же не это было главным в последний период жизни. Понять, понять я хотел, почему мы боимся, лжем, почему не любим друг друга, не верим, почему происходит все этак наоборот. Правильно я вел себя с Лорой или неправильно? И как быть с ней теперь? Как все-таки быть с очерком – идти на компромисс с Алексеевым, сжав зубы, «наступая на горло собственной песне» временно, или, наоборот, освободиться от всех этих зажимов и писать совершенно свободно, не думая ни о каком напечатании? Но тогда… Заработать деньги можно, наверное, даже не только фотографией. Но как все-таки публиковать свои вещи, как их «пробить»? Ведь практически везде, во всех редакциях – одно и то же…
И еще понять бы, что на самом деле происходит в стране. Почему преступность не падает, а растет? Почему вообще все как-то странно? Твердят о преимуществах социализма, и я верю в это, но почему же люди так плохо живут? Почему в американском фильме, например, все солнечно и свободно? Где правда? Где правда, и – что делать? Извечный российский вопрос. Изменить то, что вокруг, мне одному невозможно, конечно, но вот путь для себя каждый человек должен выбрать всегда.
Внимательно слушал меня Виталий, почти не перебивая. Хотя иногда задавал короткие вопросы, и порой они казались мне какими-то странными, и выражение его лица тоже не всегда было таким, каким мне хотелось бы видеть. Но я увлекся и с интересом видел, как все выстраивается, и неприятные эти детали отнес лишь на счет своего сиюминутного эгоизма – ведь отдыхать поехали, отвлечься, а я вот затеял исповедь, которая очень нужна мне, но так ли она нужна Виталию? И я сказал даже:
– Виталий, ты извини, я понимаю, что слишком заговорился, меня понесло, но еще немного осталось, совсем чуть-чуть, а потом приедем и будем спокойно рыбу ловить, ладно?
– Ничего, ничего, ты продолжай, раз уж начал, я потерплю, – ответил Виталий. И добавил, смеясь: – Если, конечно, немного осталось…
Ну, в общем кое-как я закончил – к этому времени мы приехали на станцию, вышли из электрички и ждали автобуса на площади поселка, чтобы ехать дальше – к реке Озерне. Заняли очередь – очередь была длинная, мы стояли в хвосте, и Виталий велел мне стоять, а сам оставил рюкзак и пошел в начало очереди, чтобы, как он сказал, познакомиться с туристами и, может быть, сесть в автобус вместе с ними, иначе не втиснуться и придется ждать другого автобуса, а он через час.
Я выговорился, и мне было легче теперь, я даже чувствовал, что близок к какому-то решению насчет очерка, но вот к какому, не понимал пока.
Виталий договорился-таки с туристами – он и здесь был прагматиком! – мы сделали вид, что из той же компании, и когда подошел автобус, втиснулись следом за ними. Веселой была дорога на Озерну, хотя и пришлось все время стоять в тесноте – туристы пели, много было смеха, шуток, улыбок, настроение в автобусе царило праздничное, наконец-то я мог расслабиться по-настоящему в ожидании весеннего леса, реки, рыбной ловли, которой так увлекался когда-то. Спасибо Виталию!
Вышли из автобуса и шли сначала улицей, затем полевой дорогой, а потом уже и прямо через лес к реке Озерне, к заветным местам Виталия. Волшебной музыкой звучали голоса птиц в голом весеннем лесу, приятным казался и шорох прошлогодней травы, хруст веточек, вкусным казалось даже чавканье резиновых сапог по грязи. Фиолетовыми и розовыми огоньками светились первые цветы медуницы, на них с гудением садились шмели. Весело журчала вода реки, обтекая торчащие со дна коряги, ветки…
Не хотелось ни о чем говорить, хотелось только слушать эту музыку жизни, дышать чистым воздухом, видеть весеннюю благодать.
Была, тем не менее, уже вторая половина дня, мы принялись собирать сучья для костра, потом расставляли палатку. Попробовали ловить на поплавочные удочки, но безуспешно. Вероятно, вода была еще слишком мутная, рыба не видела наживку.
Виталий сказал, что главная надежда – на донки. Потом сидели в сумерках у костра, варили ужин, ели, пили не спеша чай. Под ночным небом со звездами…
Я не торопил Виталия, хотя ждал от него ответа. Как ни хорошо здесь, в лесу у реки, но завтра все равно возвращаться. И послезавтра вернется старое. И надо будет в нем жить.
– Ну, что ж, – сказал, наконец, Виталий. – Ты хорошо рассказал, я, кажется, понял. Если хочешь знать, я ждал этого. Знал, что так будет. Еще когда ты из института уходил. Я тебе говорил, помнишь? Если ты будешь писать то, что на самом деле думаешь, никто такое не напечатает. Ты всегда был идеалистом, ты и сейчас идеалист. И с Лорой своей тоже. Зачем ты ей нужен такой, подумай сам? Для нее ты действительно неудачник и жалкий. И по-своему она права, ты не находишь?
Он посмотрел на меня, и мне не понравился его взгляд. Я такого не ожидал. Не понял еще до конца, к чему клонит Виталий, но выражение его глаз не понравилось.
– По-своему она права, да, – согласился я – По-своему. Но… Ты что, тоже считаешь меня жалким, что ли?
Виталий ответил не сразу, но я понял, что угадал. Этого я, честно, не ожидал. Что-то произошло вдруг между нами, что-то как будто сломалось. Я еще не разобрался, до конца, но привычный комок встал в горле, и навалилась тоска.
– Понимаешь, как бы это поточнее выразиться, – начал Виталий, не глядя мне в глаза, сдержанно, сочувственно даже, но с непонятной какой-то холодностью, с отчуждением, точно так же, как и Антон. – Ты думаешь, что ты прав. В чем-то ты действительно прав. В идеале, что ли… Но на самом деле ты не прав совсем, если по жизни.
Тут он поднял голову и посмотрел мне в глаза. С удивлением я увидел, что взгляд его был жесткий, чужой.
– Ты не прав в том, что и на самом деле ведешь себя как неудачник, – продолжал Виталий твердо, с уверенностью. – Вот ты метался, мучился, слушал всех, во все старался вникнуть. Обнадежил даже кое-кого, героев своих – я так тебя понял? Ну, и Алексеева этого тоже… Так ведь?
– Так, – сказал я.
– Ну, вот, – продолжал спокойно Виталий. – Ты делал и делаешь только хуже. И себе, и всем. Какой смысл в твоих метаниях, в твоей боли? Это – твоя личная боль. Ты, что, и так, без всех этих поездок и встреч, не знаешь, что к чему и почем? Ты же умный мужик. Ты ведь еще тогда все понял, в университете. Мы оба поняли насчет нашей страны. Я тебе говорил, что твой уход бесполезен, бессмыслен. Ничего ты не сможешь сделать и ничего никому не докажешь. Ты спорил, ты еще на что-то надеялся. Ну, и чего ты достиг? Какой во всем этом толк? Понимаю, ты считаешь себя честным. Да, абстрактно ты, пожалуй, честен. Перед собой. Ну, а дальше что? Что из этого? Ты растравляешь, провоцируешь и себя и других, а дальше? Можешь ты кому-то помочь? Ну, хоть Лоре, хоть ребятам этим. Можешь? Да пусть даже не им, пусть тем, кто сильнее – Штейнбергу, двум секретарям комсомольским, Амелину… Можешь? И этому редактору твоему, Алексееву. Он же тебе навстречу идет, он тебе реальную возможность предоставил. А ты? Зачем ты ездишь по всем этим прокуратурам-тюрьмам? Что нового ты узнал? Все, что происходит у нас, ты наверняка знал и так. Вместо того, чтобы написать очерк, не теряя времени, так, как надо, и тем самым сделать что-то реальное, ты мечешься. То же и с Лорой. Она пришла к тебе сама – чего же тебе еще? Ну, не смог в первый раз отличиться, попробуй во второй. Не смог во второй – попробуй в третий! А если не получается встреча – плюнь. Зачем она тебе? Разве мало других вокруг? Вот, мы когда в автобусе ехали… Заметил, какая девочка была с туристами – беленькая, в штормовке? Я чуть-чуть телефон у нее не взял, ее парень, видимо, рядом стоял, помешал, а то бы… Ты видел, как она смотрела? И ведь на улицах их полно! Только не будь дураком и жалким. Посмотри, какая вокруг благодать! Это – жизнь. А то, чем ты занимаешься… Не знаю даже, как назвать. Ковырянием болячек, что ли. Даже Шишко твой в сущности прав. Зачем ворошить-то слишком?
– Но как же, ведь… – хотел возразить я, но Виталий не дал.
– Знаю, знаю, что ты скажешь, – остановил он. – И заранее согласен с тобой. Я же не спорю по существу. По существу, в идеале, прав ты, а не он. Согласен. Ты прав! Но – в идеале. А ведь вокруг – реальная жизнь. И она у тебя – одна. Она идет, годы уходят. Тебе даны способности. А ты не пользуешься. Ты констатируешь – так, что ли, выразиться. Констатируешь! А дальше? Даже из того, что ты рассказал, несколько очерков написать можно, а ты, небось, не все мне рассказал. И вместо того, чтобы своим законным делом заниматься, ты фотографии печатаешь, детей снимаешь в детских садах. Только ведь Алексеев твой ждать не будет. У него своя игра, ему очерк нужен. Не ты, так другой напишет так, как надо. А ты детишек будешь снимать. Всю жизнь.
Он замолчал. Я не знал, что сказать. Я смотрел на костер, на пламенеющие яркие угли, ощущал лицом жар, слышал треск горящих сучьев, и… Мне было плохо. Холод вступил между лопатками, окружающие сумерки стали враждебными. Только на миг – как напоминание – вернулось ощущение солнечного, свежего, весеннего дня, которое было вокруг так недавно, переполняло, кажется, все существо. Мелькнуло и погасло. Плохо мне было.
– Пойду донки ставить, – сказал Виталий, вставая. – Ты не обижайся на меня, старик, я хочу как лучше. Ты ж у меня совета спрашивал. Вот я тебе его и даю. Пиши очерк – один, два, три, много! Не теряй времени. На компромисс надо идти? Иди! Не увлекайся слишком, не становись проституткой, но иди. И – побеждай. Другого пути нет. Ты должен почувствовать свою силу прежде всего, а этого не будет, пока ты не победишь хоть в чем-то. Победы нужны, победы. С женщинами как у тебя было, помнишь? Ты бросил комплексовать, взял себя за горло, и – стало получаться. Научился ведь. Ну, может быть, не совсем еще, но научишься. – Он засмеялся. – Так же и здесь, – продолжал серьезно. – Добиваться надо, побеждать. Иначе не будет ничего. Ничего не достигнешь. Хочешь, пойдем со мной донки ставить? Ну, в общем, если надумаешь, найдешь меня. Я далеко не пойду. А если что, крикнешь. Сучьев в костер подложи, чтоб не погас.
Он повозился в рюкзаке, доставая донки, червей, и ушел к реке. А я остался. Я машинально поднялся и принялся подкладывать сучья в костер. Странное было у меня состояние. Ведь совсем недавно, буквально несколько десятков минут назад, пока Виталий не начал говорить, я прекрасно чувствовал себя. И ясность была! Не полная, не окончательная, многого я еще не осознавал, но мне было хорошо, и я даже единство ощущал с окружающим – с лесом, рекой, костром, небом, на котором звезды уже мерцали. Даже с Виталием! Но вот опять.
Хотя то, что сказал Виталий, было разумно и ясно. Логично. И виден был выход. Последнее из сказанного им особенно прозвучало. Ведь женский вопрос я и на самом деле верно решил – а как иначе было преодолеть ханжество, ложь, комплексы неестественные? Только делом! Практикой, а не досужими рассуждениями, фантазиями. Научиться надо было прежде всего, научиться! Страх свой преодолеть! До конца я еще не освободился, но все же кое-чего достиг и теперь на правильном пути, в этом уверен. Может быть, и тут, с очерком и вообще с писаниями так же?
Что-то смущало меня все равно, однако… Неужели Виталий прав? Стратегически конечно нет, но тактически… Какой смысл метаться без пользы? Надо действовать! Надо.
Наложив сучья, оттащив подальше от костра рюкзаки, чтоб искры на них не упали, я пошел к реке. Слышал, где копошится Виталий, но направился в другую сторону. Хотелось побыть одному.
Сел на поваленный ствол. Тихо стояли деревья. Мерцали звезды. Журчала вода. Может… попробовать все-таки?…
44
Вернувшись после поездки с Виталием, я все-таки решил попробовать. А если уж пробовать, то – в десятку. Штейнберг с клубом? Отставить, потому что Алексеев сказал «не пойдет». Варфоломеев-Силин? Бесполезно, потому что это не пойдет тем более – слишком серьезная тема и выходит за рамки. О тюрьме? Ну, это вообще ни в какие ворота. У нас в соцстране тюрем вообще не должно быть. Ведь «условия для возникновения преступности ликвидированы»… «Магнитофонное дело» с Гуцуловым, следователем Семеновой? Ну, а что тут писать-то? О Силакове, Бекасовой, о случае на станции «Москва-III»? К этому и прикасаться бессмысленно: во-первых, бездна нерешенных проблем со степенью вины, кого судить и за что, во-вторых, объективные трудности работы следователя (это также выходит за рамки), а в-третьих – проблема половых отношений, опять ни в какие ворота, тем более в молодежном журнале. Хоть Алексеев и говорил в самом начале, что на «половую проблему» внимание обратить, но я уже имел удовольствие видеть, как к этой проблеме в наших журналах относятся.
Так что действительно остается одно – история Коли Кусакина, благородная роль комсомольского шефа Л.Грушиной, а также ее руководителя Л.Ваничкиной, инспектора детской комнаты милиции. Как Алексеев мне и предлагал.
Что ж, по крайней мере тут какая-то ясность. Определенность. И все аккуратно становится на свои места.
И я вдруг почувствовал, что словно выныриваю из пучины на поверхность и, оглядываясь, осматриваясь, вижу, что все, пожалуй, не так уж и плохо. И гораздо проще, чем мне казалось. Много проще! Выход – есть!
И самое интересное в новом моем состоянии было то, что я вдруг подумал: а ведь в каком-то смысле они все правы – не только Виталий и Алексеев, но и Шишко, и Антон. И Лора в этом ее «не надо серьезно»! Чем биться головой об стенку с непонятной целью переделать мир, который прекрасно существует и без тебя, не правильнее ли делать то, что в существующих условиях принесет кое-какие плоды? Ведь есть же действительно объективные законы сегодняшней действительности. Которые, хочешь не хочешь, приходится исполнять. И жить. Жить, а не прозябать, как князь Мышкин! Разве не лучше хоть что-то, чем ничего?
Трудно было начинать, пришлось действительно брать себя за горло, зажимать разыгравшиеся чувства, гасить эмоции. Чтобы идти вперед. Задача ясна, цель определена. «Ясность цели, упорство в достижении цели» – правильно!
Три дня подряд вставал рано, умывался, а потом запирал дверь и не откликался, даже если звали к телефону. Сначала написал план, а потом старательно выполнял каждый пункт. Я ведь хорошо понял, что требуется Алексееву. Газеты и журналы, слава Богу, читаем, все постановления последние знаем – понять, что именно нужно в текущий момент, очень нетрудно, надо быть просто-напросто идиотом, чтобы не понять. Мешало, конечно же, то, что материала слишком много, он давил, не давал сосредоточиваться, отвлекал. Хотелось философствовать и размышлять, но это опасно. Тут нужно стать жестким к себе, отбирать строго. Подчинить надо себя. Подчинить ЦЕЛИ. Как Март Иден.
Конечно, нельзя писать совсем уж примитивно – как та женщина о «Суде». Однако композиция и мысль должны быть, просты, ясны, однозначны и недвусмысленны – чтобы никаких посторонних намеков и кривотолков. И, разумеется, эту простоту сути необходимо затушевать, подкрасить, ввести даже некоторый момент остроты, некоторых сомнений, может быть – этакую «диалектику мысли». Которая, конечно, должна выстраиваться в правильном направлении. Начать, может быть, даже от противного. А уж потом… Есть же соответствующие правила, приемы! Вывод окончательный должен быть однако ясен и прост. Да, жизнь конечно сложна, да, всякое в ней бывает, да, преступления у нас, к сожалению, иногда встречаются – «кое-где, порой…» Но!
Но условия для возникновения преступности в стране ликвидированы решительно и окончательно, партия и правительство делают все, чтобы эти раковые метастазы капитализма, проклятого прошлого не появлялись, комсомол помогает, и хотя не всегда получается все, но – получается! И мы неуклонно идем к победе полной. И не может быть никакого сомнения в том, что придем. Потому что мы на верном пути. И победим обязательно. Завтра!
По сути именно так.
Настроить себя на такую волну было, собственно, не так уж и трудно. Дело в том, что последние партийные постановления были действительно вполне разумны. В речах руководителей, в статьях газет провозглашались мысли и идеи, которые били, кажется, в самую суть проблемы. Говорилось о необходимости демократизации жизни, о гласности, которая поможет бороться со всякими злоупотреблениями, о торжестве «ленинского стиля» в руководстве, о том, что каждый человек, каждый гражданин должен чувствовать себя хозяином в своей стране, о необходимости творческого развития личности и творческого отношения к труду, о доверии к человеку, уважении к достоинству каждого, о том, как вообще почетен труд, и заслуживает всенародного осуждения уклонение от него. Тунеядству, пьянству, халтуре, демагогии, спекуляции на дорогих для всех нас принципах – бой!
Разве можно что-нибудь возразить против этого? Смущают, конечно же, некоторые жизненные факты, но факты вещь преходящая, сейчас они одни, завтра другие, и на самом деле важны не столько единичные факты, сколько тенденция. А тенденция в постановлениях, мероприятиях, передовых статьях у нас самая обнадеживающая!
Я даже вспомнил правило времен революции: «Большевики не обязаны считаться с фактами – факты обязаны считаться с большевиками!» Смело, конечно, слишком самоуверенно, однако… Зато, напор, активная жизненная позиция!
Позиция Шишко и тех, кто руководил советской литературой, в общем-то понятна: зачем травить душу людям, публикуя «натуралистические» факты, отдельные «фактики», выпячивая тем самым отрицательные моменты, любуясь болячками? Что изменится от этого? Мы – в походе к светлому будущему, а потому надо не сокрушаться, а дело делать! Появилось даже свежее хрущевское выражение: «кочка зрения». Не «точка», а «кочка». То есть маленький бугорок, на котором пристроился злопыхатель и мещанин. Без учета тенденции и стратегии партии, ведущей к Светлому Будущему. Надо слезть с кочки.