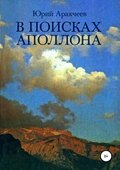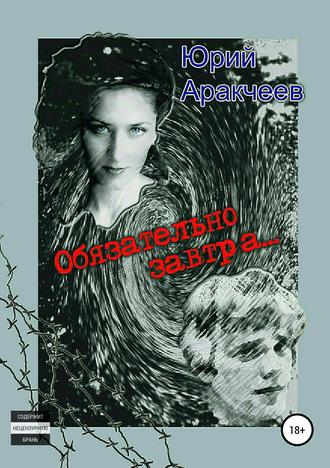
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
– Но я советую вам не торопиться, – еще раз спокойно сказала она, не отвечая на мой вопрос. – Походите к нам, присмотритесь, не бойтесь потратить время. Только тогда вы сможете хоть что-то понять… А теперь пойдемте, – она встала. – Я познакомлю вас с нашим начальником по уголовному розыску.
И пошла впереди, не оглядываясь, строгая, стройная, благоухающая, в элегантном сером костюме.
Вошли в какой-то кабинет.
– Вот человек от горкома комсомола, журналист, студент Литинститута. Его Амелин прислал, – сказала Маргарита Ивановна мужчине, сидевшему за столом.
Начальник уголовного розыска встал и пожал мне руку. Он был крупный, крепкий, с густыми курчавыми волосами, и рука его была широкая, сильная.
– Урнов, – представился он.
– Григорий Иванович Урнов – наш начальник по уголовному розыску, – со значительностью произнесла Маргарита Ивановна. – Я советую вам держать контакт с ним, вы узнаете много интересного.
И она улыбнулась Урнову.
В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошли два человека с ношей: у одного из них было по магнитофону в каждой руке, у другого – стопка магнитофонных лент на кассетах и настольный вентилятор. Они молча сложили все это в углу кабинета и вышли.
– Это по вашей части, – сказала Маргарита Ивановна и посмотрела на меня.
– А что такое? – спросил я.
– Ребята ограбили Красный уголок в техникуме, а приходили директор техникума и завуч. Вещественные доказательства принесли, – объяснил Григорий Иванович.
– Я думаю, можно познакомить его со следователем, Григорий? – спросила Маргарита Ивановна.
– Да-да, конечно, – согласился начальник уголовного розыска.
– Пойдемте, – повелела Маргарита Ивановна и, опять не оглядываясь, пошла вперед.
Проследовали через длинный коридор к маленькой двери в самом его конце. На дощечке было написано: «Следователь Р.В. Семенова».
– Раиса Вениаминовна, это к вам, – сказала Маргарита Ивановна, открыв дверь без стука. – Он вам все объяснит. А вы, – обратилась она ко мне, – приступайте к работе. Заходите ко мне, если что понадобится.
И вышла.
Раиса Вениаминовна – среднего роста худенькая женщина лет тридцати пяти. С первого взгляда на нее я почувствовал симпатию. Большие серьезные, внимательные и спокойные, но совсем не равнодушные глаза. Следователей я представлял себе совершенно иначе…
Тихим, мелодичным голосом Раиса Вениаминовна поведала о том, как несколько подростков в течение полутора лет украли четыре магнитофона – в школе и в техникуме. Один из парней уже успел побывать в колонии раньше, остальные новички. Младшему – одиннадцать лет. Поймать любителей музыки помогла случайность.
– Какая же случайность? – спросил я.
– Это все Маргарита Ивановна. Ее находчивость… Но она просила никому не говорить…
– О, что вы, что вы, я не настаиваю, я понимаю.
– Завтра я могу вызвать их на допрос, если хотите, – продолжала Раиса Вениаминовна. – А потом на завтра я уже вызвала дедушку того самого парня, который побывал в колонии, его фамилия Корабельников. Знаете, у этого Корабельникова, Васи, нет матери. С отцом он не ладит, живет больше у дедушки, дедушка его страшно любит, я даже не знаю, как ему сказать. Он ведь не знает, что внук арестован, он думает, что тот у отца.
– А что с отцом?
– Пьет, чего же еще? У него, правда, новая семья есть, другая жена. Сына Васю он бил когда-то нещадно, выгнал из дома, даже проклял, как будто бы, потом простил – тоже не разбери-пойми. Младший, Саша Корабельников, с ним живет, его он, вроде бы, даже любит, но вот, видите, он тоже попал в историю…
– А за что он первый раз судился, старший?
– За драку. Подрались ребята на улице, все убежали, а Василий остался, на него и шишки. Два года колонии. Теперь с ним труднее всех будет: повторное. Меньше, чем пятью, не отделается…
– Пять лет?!
– Пять лет, а что вы думаете. Второй раз… А парень в общем-то неплохой.
Пять лет тюрьмы или пусть даже колонии молодому парню всего-то за какой-то магнитофон? Я был ошеломлен. Понимает ли сам судья, что это такое – пять лет, вычеркнутые из обычной жизни? «Пятилетка» воровской школы, как говорил Амелин…
– А другим? – спросил я, стараясь быть сдержанным.
– Другим не знаю. Это как судья посмотрит, прокурор… Младшему-то наверняка условное, а вот другим… Ну, знаете, главарь их, Гаврилов – прохвост тот еще. Не то, что Вася. Гаврилову и надо бы всыпать как следует. Вы сами его завтра посмотрите. Но он сын какого-то деятеля, его, скорее всего, отмажут. А вот один из них очень хороший парень – его больше всех жалко. Гуцулов. Гуцулов Олег. Живет вдвоем с матерью, мать – санитарка в больнице, что она там получает? Больная вся. А помогать некому. Олег по дому все делает, даже белье стирает. Но – нигде не работает. Не берут, мал еще, шестнадцать лет только, и квалификации нет. А раз не работает – понимаете?
– Но ведь только шестнадцать… Да он и учится, наверное?
– Учился в техникуме. Выгнали за что-то, об этом надо будет еще с директором поговорить, он здесь как раз. Тот самый, у которого магнитофоны украли. Теперь-то, сами понимаете, хуже дело. Допустим, уговорим директора, восстановят Олега. А толку? Учиться он не сможет – с матерью им денег на жизнь не хватит, мать что-то рублей шестьдесят-семьдесят получает. И родственников никаких нет. А парень неиспорченный, сразу видно. С дружками «из благородства» связь поддерживал, это у них так называется. Попытаемся устроить на работу, если получится. Может, тогда условное… Правда, трудно устроить, времени мало, суд скоро, да ведь могут и не взять на работу-то, если узнают. Вот так. Ну, на какой час их вызвать, вам как удобнее?
26
Длинный, длинный был день… Когда вышел от Семеновой, было еще только двенадцать дня. Светило солнце, жарко, а небо понемногу заволакивалось светлой дымкой… Я шел медленно и думал о том, что можно еще сделать сегодня. Ведь уже 22-е апреля. До 26-го осталось так мало, а 26-го первый праздник в детском саду. И – начнется… Не до походов тогда.
Полистав блокнот, я подумал, что при удаче могу еще успеть в райком к Силину, черненькому парню, который хорошо выступал на Активе. Почему бы и не попробовать дозвониться?
Везло в тот понедельник! С первого раза дозвонился из автомата до Силина, попросил разрешения приехать сегодня. Он согласился! Условились на пять часов вечера.
Оставалось четыре часа. Можно поездить по магазинам за фотобумагой. Нужна «Бромпортрет» картон, а она есть далеко не везде…
Объездил несколько магазинов, и только в одном, слава богу, достал, успел отвезти домой.
Ровно в пять стучал в одну из дверей райкома комсомола – с трудом отыскал его в огромном старинном здании, где глухо и жутковато отдавались шаги в пустынных каменных коридорах.
Трудно понять, что было в этом здании раньше, но оно казалось мертвым, как гигантский окаменевший скелет доисторического животного. Непонятно назначение бесконечных каменных проходов, коридорчиков, тупиков. В одном из таких тупиков и оказалось помещение райкома комсомола…
– Сейчас заседание, – сказала бойкая встрепанная девчонка, которая высунулась на стук. – Подождите, погуляйте пока.
Прошел утомительный час. Я листал свой блокнот, прикидывал, как лучше использовать время, оставшееся до 26-го. Три дня. Написать очерк о Грушиной все равно не успеть. Да и не очень хочется почему-то. Частный это случай, проблему никак не решает. А проблема весьма серьезная. Тут ведь не только о «маленьких преступниках», тут вообще. И узнать кое-что еще можно, пока «мандат» у меня есть. Хорошо бы Алик договорился насчет тюрьмы… Что еще? В ЦК, к секретарю, что выступал на Активе – Шишко. Да, туда обязательно! А завтра к Раисе Вениаминовне… Набирается материал, набирается, но все равно не надо торопиться, нужно понять, понять. После детсадовских праздников и засяду. Тут не один только очерк, тут…
И все-таки поразительно! – вспомнил я вдруг про Алексеева. Ведь хороший, как будто бы, человек. И тема на самом деле острая, нужная. И он сам поручил мне очерк. Проблемный! И ему мои рассказы понравились, хотя в печать не пошли… Но тогда почему же? Почему «Клуб Витьки Иванова» со Штейнбергом он с порога отверг? А «Суд над равнодушием», написанный какой-то женщиной по-идиотски – одобрил! Теперь ясно мне, что «не пройдет» и «Собрание в СУ-91», и «РОМ на общественных началах» с Рахимом, Амарантовым и Володиной. И «Актив» не пройдет, если напишу по-своему! Хотя Алик Амелин, как и я, именно эти сюжеты считает важными. А ведь Алик не кто-нибудь, а завсектором Горкома комсомола! В чем же дело? Чего же он, Алексеев, хочет? «С кондачка», как сказала Лианозова, так что ли?
И неприятная, жутковатая мысль опалила меня: ведь они все ждут! Те, с кем я встречался, разговаривал, записывал их слова… Они же все искренне говорили, от души… Они надеются! Алик Амелин, Штейнберг, Грушина-Ваничкина… Лианозова, следователь Семенова… А та девушка с дневниками, Володина, – я же ведь и ее просто обязан защитить! Какой бы она ни была – разве можно дневники изымать, читать, другим предлагать? Ведь как фашисты эти Рахим, Шамиль… Но что, что я могу? Если даже Алексеев…
Наконец, дверь отворилась, в клубах табачного дыма появилось несколько возбужденных молодых людей, они уходили. Силина среди них не было, и я рискнул войти.
В большой комнате с высоченным потолком сидели двое: Силин и еще один человек, постарше, лет тридцати двух. Одет он был так: грубая рубашка с расстегнутым воротом и кожаная куртка нараспашку. Видно было, что оба – и Силин, и этот второй здорово устали.
– Вы из журнала? – догадался черноволосый внимательный Силин. – Садитесь, пожалуйста, мы сейчас. Извините, что задержали. У нас тут собрание только что… Едва управились.
Он опять показался мне симпатичным, живым.
Они убрали со стола какие-то бумажки, человек в кожаной куртке вывалил в ведро гору окурков из пепельницы, выпил воды, налив ее в стакан из графина, потер лицо ладонями и с улыбкой посмотрел на меня.
– Ну, что вы от нас хотели? – спросил приветливо.
– Это – первый секретарь райкома Варфоломеев, – сказал Силин, кивая на говорившего. – А я второй секретарь, вы знаете.
– Да-да, очень приятно, – пробормотал я. – Понимаете, журнал поручил мне очерк… Я слышал ваше выступление на Активе 11-го, мне понравилось. И хотелось бы поподробнее. Мне показалось, что у вас правильный подход.
Варфоломеев с ласковой и чуть снисходительной улыбкой смотрел на меня.
Черноволосый Силин оживился тотчас:
– Вам понравилось выступление? Там не поняли, понимаете… – и он выжидающе посмотрел на Варфоломеева. Варфоломеев кивнул:
– Да, не поняли. Вялая реакция была, прямо скажем.
– Я тоже заметил, что не поняли, – сказал я. – Понимаете, вы после Начальника МУРа выступали, люди настроились на эффекты, а вы говорили о деле, практически. Да еще шефы, которых вы критиковали, в зале сидели…
– Вот именно! – Силин еще более оживился. – Я, конечно, сумбурно выступал, – продолжал он с воодушевлением, – но, по-моему, дело в существе, верно? Понимаете, мы долго думали над этим с Сашей, – он кивнул на Варфоломеева. – Сначала так было: шефов набрали аж семьдесят человек. Армия, целый полк! А как до дела дошло, осталось двадцать, да и те… Трудно ведь это – перевоспитывать, да и, честно говоря, с какой стати? И потом: что значит перевоспитывать? И как? Нам тоже не очень-то хотелось с шефством возиться, не верилось в успех совершенно! До того случая. Помнишь, Саш?
– Да, конечно, – подтвердил Варфоломеев, все еще улыбаясь.
– Я ведь говорил на Активе, – горячо продолжал Силин. – Понимаете, мы вот с чего начали: посетили детский приемник так называемый, то есть попросту тюрьму, где ребят держат до суда под следствием и после суда, перед отправкой в колонию. Посмотрели на них… Остриженные, бледные. Несчастные! Им всего-то лет по шестнадцать, а кому и того меньше. И девочки ведь там тоже! Противоестественно, понимаете. Им бы в футбол на улице играть, учиться – жизнь только начинается, – а они… Какие ж это преступники? Про родителей, конечно, и говорить нечего! Многие из них виноваты, да, но теперь-то чего ж. Сплошное горе. У них у самих ведь тоже… Ну, короче говоря, тут-то мы и загорелись. В беде ребята! Этим, которые попали, уже вряд ли поможешь, но другим-то, другим, так называемым «трудным», кто – на пороге… Заранее надо, заранее! Мы вообще считаем, что это наша находка была – вот так в детский приемник прийти, на ребят арестованных посмотреть. Психологический момент, понимаете! Ведь одно дело, когда в рабочем порядке назначают, поручение дают: воспитывай! И совсем другое – когда видишь ребят… Стриженые, бледные. Во сне вижу их, горемык.
– Да, – сказал Варфоломеев, перестав улыбаться. – Впечатляюще было. С этого и надо начинать. Молодец, Валерий, это ведь твоя идея была.
– Да ладно, какая разница, чья, – продолжал Силин, волнуясь. – Главное, что по-настоящему принялись думать – что, как… И, знаете, к какому выводу пришли? Шефство себя не оправдывает! Да, да, надо это честно и открыто признать! Не оправдывает! Конечно, для отчета, для «галочки» хорошо. Вот, мол, у нас столько-то шефов, к стольким-то прикреплены… А на деле? Глупости! Не то! Можно даже сказать: кощунство это! Ну как можно человека вот так, между делом, перевоспитать, подумайте! И с какой стати? Два-три раза в неделю, да и то по обязанности… Смешно! А если тебя к нему прикрепили, а он тебе не нравится? Что ж хорошего от такого «шефства»? Лицемерие, только и всего! Ну, зашел к парню, поговорил. «Не хорошо, мол, не надо!» А дальше что? У всех у «шефов», своих хлопот под завязку, а ведь парень-то, глядишь, и поверит. Привыкнет… А потом? Жизнь-то его от твоих душеспасительных бесед изменится, что ли? Потому я и говорю, что кощунство. Помните, как в «Дон Кихоте»? Благородный Дон помог мальчику, которого бил хозяин, а потом что было? Дон уехал, а мальчик-то ведь с хозяином остался… Ну, да ясно, чего там! На Активе меня не поняли потому, что обиделись. Вы правы: в зале столько шефов сидело! Благородные люди, видите ли… Миссионеры! По идее-то благородно. А на деле?
Я слушал, и чувства мои кипели опять. Он прав, он прав, Силин, он очень прав! – думал я, и радость вспыхнула поначалу – как тогда, в первый день у Амелина. Вот тебе и комсомольские вожди, оказывается! А сколько уже насмешек было над «Ленинским Комсомолом», да и в СУ-91 каких комсомольцев я видел?! Но тут…
Увы, скепсис во мне появился. Это ведь только одна часть, одна сторона… Ведь правды боятся в журналах, газетах. Ведь насмешливыми стали слова из песни: «Если кто-то кое-где у нас порой…»? И преступления, между прочим, растут…
– Добро бескорыстным должно быть, – тем временем вставил Варфоломеев в бурный монолог Силина. – И быстрого отчета за проделанное добро требовать нельзя. И вообще формально относиться к серьезнейшей проблеме безнравственно. А мы что делаем?
– Именно! – все больше волнуясь, продолжал Силин. – У нас уже искренность, сочувствие, сострадание хотят в процентах измерить и в план внести! Глупость же! Нельзя из людей сознательность, как сок, выжимать! А с шефством этим что получается? Планируем перевоспитание – вот до чего дошло! Отчета требуем! А легко ли это – другому человеку помочь? В душу его влезть? Да еще если у него жизнь ни к черту сложилась. Родители никуда не годные, к примеру, вечно пьяные…
– А то их и вовсе нет, – вставил Варфоломеев.
– Вот именно! Или жить просто-напросто не на что – мать-одиночка, к примеру, а то еще и с двумя! Доброе слово – это хорошо, конечно, но ведь его мало. Мало! И потом… Какой-то интерес должен быть все равно! С чего же это комсомольцам «прикрепляться» к кому-то? С какой стати? А, может, мне, например, этот парень непутевый или, допустим, даже девчонка разбитная не нравится? Почему это я их «воспитывать» должен? Ходить, что-то делать для них, время терять… С какой стати? Если нет интереса, заинтересованности какой-то, бесполезно «шефство»! Лицемерие это натужное, а никакое не добро! Ну, короче говоря, мы все-таки нашли принцип.
Силин перевел дух, глотнул воды из стакана.
– Да, нашли, наконец, принцип, – вдохновенно продолжал он. – Не на сознательность без конца давить, а конструктивное сделать что-то, реальное! Правильно?
– Правильно, конечно, правильно! – не удержался я, слушая все же с интересом растущим.
– Во-первых, ЖЭКи, так? – воскликнул Силин и посмотрел на Варфоломеева.
– Нет, погоди, сначала комиссия при райкоме, – поправил его Варфоломеев.
Силин воодушевлялся все больше. Он говорил о конкретных делах. И реальных! Вот же почему как-то вяло восприняли его выступление на Активе – все яснее понимал я. Силин предлагал действия, а большинству людей нужен театр! Показуха! Им бы собраться, поохать, пострадать, поговорить, попеть комсомольские песни… И – разойтись, как будто дело уже сделано! А Силин с Варфоломеевым призывали к ДЕЛУ.
– Почему в основном преступления? – говорил Силин, и черные глаза его вдохновенно сверкали. – Почему же? А вот почему. Заняться нечем – раз! Интересов нет ни к чему – не воспитали, не пробудили, не поддержали вовремя, а то и просто-напросто задавили – два! Почему? Да потому, что запреты сплошные – то нельзя, это нельзя, а того и вовсе никак не положено! И общаться-то друг с другом по-человечески, выходит, негде – это три! А природа-то ведь все равно… Не молчит природа, жизнь своего требует, а если возможности проявиться нет, выхода нет, то вот и получается перекос… Отношение к женщине возьмите, уважение к девочкам у ребят… Жалуемся на грубость, невоспитанность, распущенность, а пытаемся их воспитывать разве? Всерьез говорим об этом с ребятами? Врем и мозги крутим, только и всего…
И опять я почувствовал вдруг, что ком подкатил к горлу. То же самое! То, что и я думал, собирая свой материал! Что «клуб Витьки Иванова», что Штейнберг и все другое, что рассказы мои на «этакие» темы… Лицемерие, показуха и запреты, запреты, запреты! Весь день, весь этот «везучий» понедельник я держался – удалось переключиться и слегка притушить самое больное – свои проблемы, Лору, – а сейчас, слушая этого черноволосого парня и видя, как поддерживает его другой, старший, как он разделяет мысли Силина, согласно кивает, и, похоже, что оба они и на самом деле думают то, о чем говорят, я ощутил – горечь! Да, да, все они говорили о том, о чем я столько раз думал, о чем мечтал и что проклинал в бессилии. Одиночество каждого среди многих, противоестественная, дикая разделенность! Но – почему?! Ведь все мы, каждый из нас! – все мы хотим, как лучше, все думаем очень похоже, и согласны, что «величайшее счастье – счастье человеческого общения», что «человек один не может», что «человек человеку – друг и брат» – сколько умных, добрых людей повторяли это! И повторяют вот! Но… Разумеется, дело не только в клубах, ЖЭКах, помощи милиции – дело в подходе! Правильно сказал Силин – в подходе! И в честности. Меньше говорить пустых красивых слов, а вот так, конкретно – делать. А у нас что? Ложь, ложь, ложь кругом…
Да, слушая Силина с Варфоломеевым, я только головой кивал утвердительно. Они НЕ ЛГАЛИ, чувствовал я… Они думали о ДЕЛЕ, а не о том, чтобы отчитаться перед кем-то и устроить себе самим спокойную жизнь. Они ДЕЙСТВОВАЛИ! По крайней мере пытались действовать… Я им верил. Им. Но…
– А теперь о реальной стороне, Валерий, – тихо напомнил Варфоломеев, словно прочитав мои мысли, и улыбнулся как-то странно.
И Силин замолк. Стих сразу. Даже изменился в лице. И в комнате как будто бы что-то изменилось. Будничный, прокуренный кабинет, обшарпанный стол, пепельница… Только что словно сияло что-то, но вот… Что такое? Тихие слова Варфоломеева произвели неожиданно сильный эффект…
– Да, – с трудом проговорил Силин. – Реальность. С неба на землю, Саша.
Он улыбнулся и посмотрел на меня виновато.
– Расфантазировался я, понимаю.
И замолчал. А я почувствовал неловкость. Словно расфантазировался не он, а я. Странно… Да, что-то странное вдруг возникло в помещении нашем. Словно чье-то присутствие…
Силин перевел дух, вздохнул тяжело. Варфоломеев постукивал пальцами по столу и совсем перестал улыбаться.
– Понимаете, нужны представители власти. Обязательно! – помолчав, продолжал Силин. – А с этим как раз и проблема. Надо, необходимо просто, чтобы был представитель власти! А власть…
Он посмотрел на меня, и я увидел, как в живых черных глазах его опять словно бы загорается что-то.
– Обязательно нужен представитель власти! Иначе же все останется на словах, правда же?
– Про бульдозер, Валерий, – перебил его Варфоломеев тихо.
И Силин сник. Растерянная улыбка блуждала на раскрасневшемся его лице.
– Да-да, бульдозер, – согласился Силин. – Я сказал, что мы спортгородок решили построить в районе? Ну, вот. Конкретное дело, полезное. И место ведь нашли! Свободное место – строй за милую душу! Пустырь никому не нужный. Но там – неровности, чистить надо, ровнять, понимаете? Бульдозер нужен, короче. А не дают! Не дают, и все. Бульдозер простаивает, а нам его не дают. Мы уж и за деньги просили – с Сашей, с ребятами из райкома скинулись. С бульдозеристом договорились! Чего же еще, кажется? А нет, не дают. Почему? Что, думаете, они нам говорят? «Левая работа, не положено!». Какая же это левая?! Пошлите его своей властью, по наряду – ведь общее же дело, можно сказать, государственное! И всего-то на два дня. А нет. Нет, и все. Не положено. Указания сверху нет! Вот вам инициатива… Указание сверху нужно, а его пока нет!
– Неужели вы, райком комсомола, неужели вы своей властью ничего сделать не можете? – проговорил я. – Вы же… Зачем же тогда вы вообще?
– Фью! – свистнул Варфоломеев. – В том-то и дело! О какой власти речь? Выговор влепить можем, это пожалуйста. Из комсомола выгнать – с дорогой душой. Проработать кого-то, на доску «Не проходите мимо» вывесить – сколько угодно. А вот сделать что-то реальное, положительное – тут ни-ни. Помочь, выручить нам гораздо труднее, чем наказать. Вот, смотрите, я первый секретарь райкома, в районе у нас комсомольцев десятки тысяч – армия! А что я могу? Если по существу – ничего. Карать-наказывать тех, кто, образно выражаясь, под нами – можно. А вот вверх… И не заикнись ни о чем серьезном! В одну сторону у нас как-то все направлено. Партия у нас рулевой, а не мы сами. Есть у нас в райкоме партии один товарищ, Кузин Вадим Евгеньевич. Не угодили мы ему с Валерием, не так сказали что-то однажды, вот и все дела. Не любит он нас. А на нем все замыкается. И ничего сделать нельзя, так-то вот… Только вы об этом не пишите, а то нам и вовсе жить не дадут…
Вот так.
Вышел я из райкома в десятом часу вечера. Варфоломеев и Силин еще остались.
27
О, эти сны… Порой они бывали почти наяву. В воображении. Под хорошую музыку, например. Или утром, когда проснешься, но можно не торопиться вставать. Или, наоборот, вечером, когда ляжешь и остаешься наедине… Путешествия «по странам и континентам»… Реки, моря, тропические леса… Полеты на планерах, прыжки с парашютом, плавания на кораблях, на яхтах… Ну, и естественно, девушки…
Несмотря ни на что, во мне всегда жила уверенность, что мечты могут стать реальностью и что нужно обязательно сделать так, чтобы стали. Человеку столько дано! Что же мешает?
Даже полеты во сне просто так, без планеров и парашютов, казались реальными! Я понимал, что сплю, и старался запомнить то усилие, которое необходимо, чтобы взлететь – где-то в спине, между лопатками… Напрягаешься, раскидываешь руки и… В небо, к облакам, над землей! Над убогостью, беспомощностью своей, над страхами и сомнениями летишь – к солнцу! Небольшое усилие всего лишь… Правда, какое-то особенное. Наяву не получалось никак! Хотя, просыпаясь, пробовал не раз. Однако… Едва открываешь глаза, тотчас и понимаешь, что ничего не получится…
А левитация йогов, кстати, – разве не то же самое? Ведь, говорят, она существует… У меня, правда, пока тоже не получалось…
И все же некоторые ощущения снов почти сбывались в действительности. На поляне в лесу у костра, например – такое ощущение счастья возникало порой! Или на солнечном летнем лугу среди трав, цветов, бабочек… На берегу реки летним утром, когда солнце медленно поднимается, в небе тихий великий пожар, прохладно, мерзнет спина и руки, на коже мурашки, а потом теплые лучи, и птицы поют, и летают стрекозы… Или, наоборот, на закате, когда буйный, могучий разлив цвета и тишина, а потом теплый мрак и звезды… Или зимой в морозный солнечный день, особенно если неподалеку изба и печь с сухими березовыми дровами, а ты на лыжах в заснеженном лесу, и вокруг тишина…
А если рядом еще и любимая девушка…
А с Лорой? Ведь то, что произошло во вторую нашу встречу – наяву! – было ничуть не хуже любой мечты! Очень даже БЫЛО. В реальности! А в чем-то, может быть, даже и лучше, чем в мечтах, – о чем я до того момента даже и не подозревал! Роскошь! Огненный вихрь! Правда, тогда занавеска задвинулась вскоре, окончилось все довольно быстро… Но ведь могло быть и еще! И если бы…
«Это даже хорошо, что не до конца, а то сердце могло не выдержать» – сказала она тогда… Но если бы… Если бы смог удерживаться, владеть собой… Чтобы не только взлететь, но и парить с ней вместе, не падать на землю убогую раньше срока… Если бы научился… О, боже, так непросто все…
И все-таки, несмотря ни на что! Такие божественные фантазии порой возникали в моем пылком воображении! И до Лоры, и во время, и после… Вот же она, молодая, красивая, безусловно любящая меня девушка, свободная, радостная, не страдающая от своей несчастной жизни… Разве не может такого быть? Да вот и Жанна, которая с Виталием, хотя бы… На берегу озера, моря или в лесу, в поле, среди трав, цветов, бабочек… Обнаженная… Словно светящаяся… Мы любим друг друга, нам весело, а не грустно, и я фотографирую ее, словно нимфу… Истинный Рай… Разве наяву не может быть такого?! Но что же мешает?
Долго, очень долго не мог я понять, почему люди так легко и быстро смиряются, поддаются, и когда оказываются предоставленными сами себе и вынуждены самостоятельно что-то решать – не хотят почему-то… Тяготятся свободой, ищут кого-нибудь, кто руководил бы, – вместо того, чтобы самим оглядеться, осмыслить, понять, и… Пробовать! Пытаться! Осуществить! Искать пути – ДЕЙСТВОВАТЬ! Увы… Напиваются или оглушают себя чем-нибудь при первом удобном случае, ленятся, ссорятся, издеваются друг над другом, завидуют, обижаются, пытаются обязательно подчинить себе того, кто слабее, или, хотя бы унизить, а перед сильным, наоборот, распластываются и егозят. И… умирают – умирают при жизни! Да, я это видел, видел постоянно! Да ведь и сам отчасти…
«Народ, измученный свободой…» Так мало сил, так мало веры… Готовы отдаться каждому, кто хоть на время заглушит голод, тоску, а главное избавит от необходимости что-то решать… «Хлеба и зрелищ!» В глубине души, конечно, многие понимают, осознают, и… ненавидят сами себя. А заодно и всех других. Но кто же тогда виноват?
«Мы сами строим свои тюрьмы» – да, именно так называлась одна из картин Святослава Рериха, которую увидел однажды на выставке. И не столько поразила сама картина, сколько ее название. Да, МЫ САМИ… Много раз в своей жизни потом вспоминал я эту очевидную истину, и каждый раз неизменно вставал вопрос: ПОЧЕМУ? Да, я старался, старался. С детства возненавидел ложь. Старался не лгать, но ведь все равно приходится иногда. Преодолевал сиротство, материальную бедность, учился… Страх перед девушками – перед таинственным неизвестным… – пытался преодолеть. Чего-то все же достиг, но мало, мало…
И теперь вот проблема. Лора, очерк… И то, и то важно. Но как преодолеть то, что в журналах и, в частности, в молодежном, у Алексеева… Ведь если «не угожу», ничего не получится. А угождать не собираюсь. Ни в коем случае! Как и с Лорой. Разве я виноват перед ней в чем-то?
Да, с детства – с самого раннего детства, пожалуй, – ощущал я жестокую, холодную руку, которая сжимала сердце, мутила разум, сковывала тело. Рука и – серая, липкая паутина… Страх. Глубокий, так трудно преодолимый страх. Почему? Откуда? Как же преодолеть его?
28
…Огромный кабинет, большой стол в углу у окна, прекрасный паркет, кресла, в которых тонешь по горло, несколько новеньких телефонных аппаратов на столе… Центральный Комитет комсомола. Приемная «завсектором по пионерской работе» Шишко.
Шишко – невысокий коренастый, этакий округлый человечек. Тот самый, который выступал на собрании актива 11-го. Он сразу начал со мной на «ты», как-то демонстративно подчеркивая деловую свою грубоватость. Хотя это удивительно контрастировало с роскошной обстановкой огромного кабинета.
Во время разговора он любовно поглаживал телефонные аппараты. Они и действительно были как хорошенькие игрушки – маленькие, оригинальной обтекаемой формы, разноцветные, новенькие. Импортные.
Разговор был довольно коротким. Завсектором ЦК испытующе разглядывал меня несколько секунд, игнорируя легкое мое смущение от непривычности обстановки, а также просьбу, с которой я к нему обратился. Просьба была о документах обследования района, о которых Шишко говорил на Активе. «Не могли бы вы мне их показать?» – так сформулировал я цель своего визита.
Поразглядывав и придя, как видно, к какому-то выводу, Шишко задал свой вопрос:
– Ты говоришь, тебя послал этот самый журнал, так? Ну, а скажи, как ты лично сам к нему относишься, к этому журналу? И к тому, что там печатают?
Я собирался сказать, что нужно печатать больше острых документальных материалов и не бояться ставить проблемы, потому что… Но, не дав мне и рта раскрыть, Шишко продолжал с уверенностью:
– Ведь плохой журнал, правда? Ты читал эту повесть?… – он назвал одну из нашумевших в последнее время повестей, опубликованную в этом журнале. Я повесть не читал, только собирался, но помнил, что ее хвалили уважаемые люди именно за остроту и правдивость. Однако и этого я не успел сказать. Шишко продолжал энергично:
– Скажи, ну разве это главное сейчас, а? То, что они печатают. Грязь, натурализм, чернуха… Не главное это! Главное сейчас – нацелить молодежь на самоотверженный труд, на борьбу с пережитками прошлого, верно? А они – об этих пережитках, наоборот… Грязное белье ворошат! Надо нацелить на борьбу с преступлениями, на положительных примерах учить! Вот в чем веление времени. А они…
Шишко посмотрел на меня очень внушительно. Потом махнул рукой, как-то неожиданно сделал кислое выражение лица и продолжал:
– Ни черта они там не делают в журнале, так мне кажется! Ты согласен? Ну, что они могут сказать молодому поколению, а? Как помочь? Э, ладно, мы с этим еще разберемся. Разберемся! Так. Значит, хочешь очерк писать. – Теперь он посмотрел на меня испытующе. – Ну, а что ты думаешь вообще по этому поводу? А?