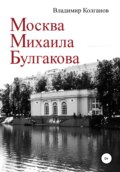Владимир Алексеевич Колганов
Писатели и стукачи
Надо признать, что слухи о проказах и непристойном поведении молодого поэта были известны всей Москве – к его «художествам» относились снисходительно. Хотя одна из таких проказ не раз приводила к обмороку слишком чувствительных молодых дам. Всё начиналось с того, что Васильев покупал на бойне коровье вымя, запасался ножницами и, спрятав вымя под пальто, отправлялся на бульвар в поисках подходящей жертвы… Дальше не буду продолжать, дабы не спровоцировать кого-то на повторение этой «шалости». Могу лишь заметить, что наблюдавшие за Васильевым друзья были в неописуемом восторге.
Казалось бы, всё это пустяки, однако после того, как Горький не исключил возможности превращения поэта-хулигана в фашиствующего молодчика, пришлось принимать решительные меры. В январе 1935 года Васильева исключают из Союза писателей, а через несколько месяцев случился новый скандал – Васильев якобы избил поэта Алтаузена, причём в его собственной квартире. Ходили слухи, что после драки Васильев «ходил по Москве с дубинкой и хвастался всем, показывая на ней запекшуюся кровь». Можно предположить, что всё это было провокацией, организованной врагами популярного поэта, однако реакция на случившееся последовала лишь через несколько месяцев. Сначала «Правда» опубликовала письмо двадцати литераторов, которые потребовали «принять решительные меры против хулигана», а вскоре после этого Васильев был арестован. Из трёх лет в лагерях поэт не отсидел и года – видимо, Гронский, заступившись за поэта, ещё надеялся на его перевоспитание, на то, что жестокий урок заставит хулигана сделать шаг в нужном направлении, воспринять идеи революции.
После досрочного освобождения Васильев уезжает в Сибирь, но в январе 1937 года возвращается в Москву и присутствует на «бухаринском» процессе. Об этом эпизоде рассказал Роберт Конквест в своей книге «Большой террор»:
«Павел Васильев выступил в защиту Бухарина, назвав его "человеком высочайшего благородства и совестью крестьянской России". Это произошло во время суда над Пятаковым. Васильев обрушился на писателей, ставящих свои подписи под антибухаринскими выступлениями в печати. "Это порнографические каракули на полях русской литературы"».
Вскоре после этого скандал последовал арест. Васильева обвинили ни много ни мало в подготовке покушения на Сталина в составе группы террористов. Если бы в личном деле поэта упоминались поездки за границу, то можно было бы обвинить и в шпионаже, что гораздо проще. А здесь нашли не менее убийственный эквивалент.
Оказалось, что драки с коллегами и прочие шалости поэта не идут ни в какое сравнение с тем, что стало жуткой реальностью в тюрьме НКВД. Поэт очень скоро всё признал, всё подписал, оговорив ни в чём не повинных знакомых и друзей, и всё ещё надеясь на спасение, отправил письмо наркому внутренних дел товарищу Ежову. Вот отрывок из этих покаяний:
«Начиная с 1929 года, я, встав на литературный путь, с самого начала оказался среди врагов советской власти. Меня взяли под опеку и воспитывали контрреволюционные Клюев и Клычков… и прочая антисоветская компания… Семь лет я был окружен антисоветской средой… Изуродовали мне жизнь, сделали меня политически черной фигурой, пользуясь моим бескультурьем, моральной и политической неустойчивостью и пьянством… Ряд литературных критиков во главе с И. Гронским прививали мне взгляды, что я единственный замечательный национальный поэт… Враги соввласти А. Веселый, Наседкин и другие подхватывали это, прибавляя… "неоцененный, несправедливо затираемый советской общественностью, советской властью". На почве этих разговоров пышно расцветали мои шовинистические и контрреволюционные настроения… Кроме того, в бытовом отношении я стал просто нетерпим как хулиган и дебошир… Теперь я с ужасом вижу, что был на краю… Мне хочется многое сказать, но вместе с тем со стыдом ощущаю, что вследствие неоднократного обмана я не заслужил доверия, а мне сейчас больно и тяжело за загубленное политическими подлецами прошлое и все хорошее, что во мне было…»
Нетрудно догадаться, что Ежов в раскаяние поэта не поверил. Впрочем, на всякий случай показания на «политических подлецов» подшили к его делу. Эти признания поэта и вправду пригодились – уже через полтора месяц после того, как оформили обвинительное заключение на Васильева, был арестован поэт Сергей Клычков, ещё один «бард кулацкой деревни» по образному определению Осипа Бескина.
Однако хватит о грустном. Перенесёмся на много лет вперёд, в другие, более спокойные времена, когда после некоторого затишья снова развернулись баталии вокруг поэзии. На этот раз объектом критических статей стал Дмитрий Быков. Мне любопытно было бы сравнить, чем нынешняя критика отличается от той, что процветала в прошлом, и можно ли статью какого-либо обличителя назвать таким ужасным словом, как донос.
Начнём с восторженного отзыва филолога Дмитрия Бака, ко времени написания статьи о Быкове в журнале «Октябрь» занимавшего должность проректора РГГУ – университета, ставшего широко известным благодаря скандалу с ЮКОСом и приютившего не малое количество граждан, обиженных на власть. Вот что Бак написал о Быкове: «Он, без всяких оговорок, именно лирик, один из немногих в сегодняшней поэзии». Оправданием столь яркому и недвусмысленному определению может служить лишь то, что ко времени написания цитируемой статьи Быков ещё не увлёкся ни «гражданином», ни «поэтом». Возможно, отечественная поэзия и впрямь в нынешние времена не в лучшем состоянии, однако об этом не берусь судить – это дело филологов, способных весь поэтический массив переварить, то есть, прошу прощения, осмыслить. Я не берусь за недостатком времени.
Ничего более интересного в упомянутой статье я не нашёл, вот разве что такой пассаж, не имеющий никакого отношения к откровениям Быкова в качестве журналиста и прозаика, но посвящённый исключительно его стихам:
«Быков, прямо говорящий о своих антипатиях, фобиях и идиосинкразиях, предпочитает последовательно умалчивать о своих прямых симпатиях».
Тут нет ничего удивительного – истинные свои симпатии Быков пытается скрыть за многословием. Возможно, он и сам не отдаёт отчёта в том, что любит – ну разве что, «Артек», свою семью, в какой-то степени Америку… Об остальном мы можем лишь догадываться.
Однако оставим в стороне симпатии и возвратимся вновь к поэзии. Более тщательный анализ стихотворных текстов Быкова находим в статье Алексея Саломатина в журнале «Арион»:
«Язык их, и применяемые в них приемы в большинстве своем настолько истерлись от частого использования (до и после Быкова) авторами самой разной степени одаренности, что полностью утратили не только остатки свежести (пусть и не первой), но и родимые пятна исходной поэтики».
Не берусь судить, в какой степени используемые Быковым приёмы истёрлись, поскольку плохо знаком с нынешней поэзией, однако и у меня возникает впечатление «неухоженности» его стихов. Судя по всему, Быков настолько убеждён в своём таланте, что не видит смысла в тщательной работе над каждой строчкой, с каждым словом. Казалось бы, в этом случае и должна наиболее ярко проявиться его индивидуальность, но получается иначе:
«Перед нами – классический “текст без примет”, похожий одновременно на всё сразу. Таковы и остальные тексты Быкова – воспроизводящие некую бытующую в обыденном сознании максимально стереотипную модель стихотворения вообще. Так что по формальным признакам продукция… в целом ладно скроенная и крепко сбитая, попадает, тем не менее, под определение даже не эпигонства, а старой доброй графомании. С содержанием дела обстоят не лучше, несмотря на заверения апологетов автора в том, что “он – поэт мысли, поэт высказывания, сентенции”. Лишь снисходительно-ироничный тон быковских стихотворений, благодаря которому лирический герой предстаёт перед читателем в облике сократствующего мудреца, до поры маскирует то, что все мысли, высказывания и сентенции до неприличия банальны».
Назвать популярного поэта графоманом – это, скажу я вам, поступок! Конечно, такое обвинение не сравнится с теми, которые предъявляли критики восемьдесят лет назад, причём без всяких опасений, что могут получить срок за клевету. Теперь же всё наоборот: какую бы ерунду ни написал поэт, достанется не ему, а критику. Я до сих пор удивляюсь, почему Саломатина не привлекли к суду за доносительство.
Однако продолжим – наступает решающий момент для понимания сущности поэтического дара Быкова:
«И тут мы подходим к ключевой особенности не только поэтики, но и всей авторской стратегии Быкова – перманентному заигрыванию с публикой на всех уровнях, превратившемуся, пожалуй, в первоочередную творческую задачу. Осознав в определенный момент, что общественность не спешит награждать его титулом первого стихотворца, все свои силы он бросил на последовательное конструирование мифа о себе как о поэте. С этой минуты каждое слово и каждый поступок Быкова оказываются подчинены одной цели – формированию и поддерживанию собственной литературной репутации. Да и сами стихи из лирического высказывания превращаются в средство манипуляции. И их формальная вторичность и ориентация на некий максимально усредненный образец из недостатка превращаются в достоинство – массовая публика в большинстве своём консервативна и предана проверенному временем».
«Перманентное заигрывание» – вот ведь как поэта обложил! У нас в столице азартные игры запрещены, а тут такая неприятность выясняется. А ты попробуй докажи! Нет, будь я на месте Быкова, не оставил бы это без последствий. Если не хватит сил написать язвительный ответ доносчику и клеветнику, можно сочинить обращение в прокуратуру. Так мол и так, довожу до вашего сведения, что… Далее следует процитировать статью из Конституции или на худой конец позаимствовать кое-что из размышлений Осипа Бескина про кулацкую литературу, при этом на место кулака поставить патриотически настроенного критика.
Но хватит рассуждать о грустном. Почти одновременно с исследованием Алексея Саломатина в журнале «Октябрь» была напечатана статья Ирины Сурат под впечатляющим названием «Летающий слон». Вначале, под влиянием слона, я заподозрил, что это впечатления от кенийского сафари, однако оказалось всё иначе:
«От одного знатока поэзии я услышала недавно: Быков вообще не поэт. Но кто ж тогда поэт, прости Господи, и что тогда поэзия? Поэзию надо, прежде всего, слышать, а потом уж можно переживать её и думать о ней. Как можно не расслышать эти невероятные быковские интонации и ритмы, которые ни с чьими другими не спутаешь!»
Как любила повторять моя покойная тётушка в тех случаях, когда я пытался возражать: «На вкус и цвет товарищей нет». Ну вот и я, следуя примеру толерантной родственницы, не стану больше спорить – продолжу цитирование восторженного автора:
«Быков пишет длинно, и чем дальше, тем длинней, и чем длинней, тем лучше. Не могу удержаться от того, чтобы привести здесь – нет, не целиком! – одно из его вдохновенных творений, в котором лирическое «я» воплотилось как раз в образе такого летающего гиганта, чудовища, бронтозавра, возносящегося на зов к небесам и за край небес…»
Слон – это ещё куда ни шло. Однако не хватало ещё на страницах этой книги бронтозавра. Не знаю, как Быков, но я бы сравнения с доисторическим чудовищем не потерпел.
Глава 6. Невозвращенец Кузнецов и Евтушенко
Их было трое – Василий Аксенов, Анатолий Гладилин и Анатолий Кузнецов. С конца 50-х годов эти фамилии были на слуху, произведениями этой троицы зачитывались, популярнее не было никого в молодёжной прозе и среди авторов журнала «Юность». Кузнецов прославился повестью «Продолжение легенды», написанной им на основе собственных впечатлений, полученных за время работы на строительстве Братской ГЭС. А через несколько лет был напечатан его знаменитый роман-документ «Бабий Яр» о трагических событиях на оккупированной фашистами Украине.
Вот как через пятнадцать лет сам Кузнецов описывал перипетии с публикацией этого романа:
«Первоначальную рукопись этой книги я принес в журнал "Юность" в 1965 году. Мне ее немедленно – можно сказать, в ужасе – вернули и посоветовали никому не показывать, пока не уберу "антисоветчину", которую поотмечали в тексте. Я убрал важные куски из глав о Крещатике, о взрыве Лавры, о катастрофе 1961 года и другие – и официально представил смягченный вариант, в котором смысл книги был затушеван, но все же угадывался».
Однако и этого редакторам показалось мало. Все восторгались романом, расхваливали автора, но самостоятельно принять решение о публикации редколлегия журнала побоялась. Необходимо было выяснить мнение партийных органов. С другой стороны, не станешь же беспокоить ЦК по такому поводу – это вам не 30-е годы, когда Сталин сам почитывал романы. Единственный разумный выход – обкорнать роман, убрав буквально всё, что может вызвать недовольство высшей власти. После того, как Кузнецов отказался делать новые сокращения, случилось нечто совершенно невозможное в цивилизованной стране:
«Отдав рукопись редакторам, я не мог получить ее обратно. Дошло до дикой сцены в кабинете Б. Полевого, где собралось все начальство редакции, я требовал рукопись, я совсем ошалел, кричал: "Это же моя работа, моя рукопись, моя бумага наконец! Отдайте, я не желаю печатать!" А Полевой цинично, издеваясь, говорил: "Печатать или не печатать – не вам решать. И рукопись вам никто не отдаст, и напечатаем, как считаем нужным"».
Причина была в том, что идеологический отдел ЦК уже разрешил публикацию при условии изъятия некоторых глав, а потому назад хода уже не было. Кузнецов считал, что «дал добро» главный начальник над идеологией товарищ Суслов, однако выяснилось, что спасла роман находчивость Бориса Полевого:
«Решающим для "вышестоящих товарищей" оказался ловкий аргумент редакции, что моя книга якобы опровергает известное стихотворение Евтушенко о Бабьем Яре, вызвавшее в свое время большой скандал и шум».
После неоднократных сокращений текста, после битвы за сохранение названия роман в урезанном виде всё-таки опубликовали. Но дело стоило того – тираж «Юности» составлял два миллиона экземпляров. Затем «Бабий Яр» перевели на несколько языков, а Кузнецов стал популярным автором не только в СССР, но и за его пределами.
Однако на этом история с многострадальной книгой не закончилась. Настали новые времена, о «хрущёвской оттепели» все уже забыли:
«Компетентные люди мне говорили, что с книгой мне повезло, еще месяц-другой, и она бы не вышла. Книга вдруг вызвала гнев в ЦК ВЛКСМ, затем в ЦК КПСС, публикация "Бабьего Яра" вообще была признана ошибкой, переиздание запрещено, в библиотеках книгу перестали выдавать; начиналась новая волна государственного антисемитизма».
Понятно, что даже широкая известность, столь желанная для литератора, не могла компенсировать обиду и отчаяние. Эти чувства одолевали Кузнецова при создании нового романа, названного им «Огонь». Однако это произведение не впечатлило ни критиков, ни читающую публику.
Летом 1969 года Кузнецов получил разрешение отправиться в Великобританию для сбора материалов о II съезде РСДРП – к столетию со дня рождения Ленина намеревался написать новую книгу. Однако через несколько дней после приезда в Лондон он обратился к властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Всё было настолько неожиданно, что поначалу даже в КГБ в это не поверили, предположив провокацию западных разведок. Но вскоре Кузнецов развеял подозрения, заявив, что давно планировал побег и даже вынужден был пойти якобы на фиктивное сотрудничество с КГБ, чтобы получить разрешение на выезд.
Впрочем, фиктивным это сотрудничество не назовёшь, поскольку в свою опасную игру Кузнецов вовлёк несколько приятелей из наиболее известных – Евгения Евтушенко, Василия Аксенова и Анатолия Гладилина. Каким-то образом в списке участников оказались Олег Ефремов и Аркадий Райкин. Однако никто из них даже не подозревал, что стал участником этой игры. Тем более, не догадывались, что ими заинтересовались на Лубянке. Поводом для пристального интереса стало сообщение Кузнецова о том, что известные писатели и актеры задумали издавать подпольный журнал под названием то ли «Искра», то ли «Полярная звезда». И будто бы такая неопределённость вызвана лишь тем, что авторы идеи ещё не пришли к единому мнению по поводу названия. Но в первом номере этого журнала уже намечалась публикация меморандума Андрея Сахарова, академика, а с недавних пор и диссидента.
Надо сказать, что вся эта история со временем обрастала слухами, напоминая анекдот. Как следует из воспоминаний Михаила Качана, в одной из передач на радио «Свобода» Кузнецов будто бы заявил, что добился разрешения на поездку в Англию только после того, как сообщил в КГБ, что Аксёнов со товарищи намеревались взорвать Кремль. Это уже и вовсе ни в какие ворота не влезает…
Зачем вполне успешным людям рисковать своей карьерой, этого никто не смог бы объяснить. Однако после доноса Кузнецова в КГБ ни в чём не повинных литераторов Аксёнова и Евтушенко вывели из состава редколлегии «Юности», а вот Анатолия Кузнецова туда ввели. Об этих событиях в журнале написал в своих воспоминаниях Аксёнов:
«Очередной, а впрочем, кажется, уже и последний кризис потряс журнал в первой половине 1969 года. Вдруг, нежданно-негаданно, Евтушенко и меня исключили из редколлегии. В официальных письмах и его, и меня известили, что это произошло из-за того, что мы небрежно относились к нашим обязанностям. Большая ложь лучше всего себя чувствует на фундаменте из маленькой правды. Все, разумеется, понимали, что за этой акцией стоит что-то другое».
Причину странного поступка Кузнецова пытались понять и на Лубянке. Ничего вразумительного не нашли, однако, по словам писателя, Владимира Батшева придумали версию для зарубежной прессы. Вот как он описывал встречу журналистов с матерью невозвращенца:
«КГБ плохо подготовил мать писателя к встрече с иностранным журналистом, либо она сама вышла за рамки подготовленного ей властями подстрочника. Приведенные госпожой Кузнецовой доводы, согласно которым ее сын «психически расстроен», совпадают с версией, пущенной в ход в Москве неофициальным, но заинтересованным источником».
Готовил или не готовил что-то КГБ, не берусь судить, поскольку свечку при этом не держал. И всё же есть основания предполагать, что мать писателя была права. Во-первых, сказалось пережитое им во время фашистской оккупации. А в 1965 году – новая напасть. Находясь под Киевом, Кузнецов собирал материалы к роману «Бабий Яр» и был так основательно измотан, что в одном из писем написал:
«Я не думал, что кошмары прошлого могут так потрясать по прошествии двадцати с лишним лет. Мне назначен курс восстановления нервной системы на месяц, пока принимаю сильнодействующие лекарства, от которых как-то все ощущения притупились и голова плохо работает. За машинкой сидеть и то трудно».
К этому могу добавить, что вряд ли психически здоровый человек решился бы оклеветать своих друзей, причём без всякого нажима со стороны чекистов. Как мог Кузнецов так подставить Евтушенко, с которым был дружен со студенческих лет? Трудно совместить этот поступок с тем, что было написано через несколько лет, в предисловии к изданию полной версии романа «Бабий Яр»:
«Евтушенко, с которым мы дружили и учились в одном институте, задумал свое стихотворение в день, когда мы вместе однажды пошли к Бабьему Яру. Мы стояли над крутым обрывом, я рассказывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как шла борьба за памятник, которого так и нет. "Над Бабьим Яром памятников нет…" – задумчиво сказал Евтушенко, и потом я узнал эту первую строчку в его стихотворении».
В качестве оправдания своего доноса Кузнецов заявил, что в «заговорщики» специально записал таких людей, которые благодаря своим заслугам ни при каких условиях не могли бы пострадать. Однако клевету на друга нельзя оправдать ничем, от чувства вины не удастся никогда избавиться, даже если успокаиваешь себя тем, что всё обошлось без огорчительных последствий.
Одной из причин эмиграции на Запад стало желание писателя опубликовать свою книгу без купюр. Напомню, что при публикации «Бабьего Яра» рукопись сильно сократили. Кузнецову удалось вывезти фотокопию рукописи на Запад, и через год её напечатали в издательстве «Посев». Но думаю, что эффект был уже не тот, что после первой, хотя и неполной, публикации. Можно предположить, что ещё одна причина бегства в том, что Кузнецов надеялся избавиться от навязчивых кошмаров, однако они настигли его даже в Лондоне. Он не дожил и до 50 лет.
В намерении сгладить эффект от первых, шокировавших общественность признаний в связях с КГБ, Кузнецов придумывал всё новые аргументы. Газета «Санди телеграф» опубликовала статью Кузнецова, в которой он сообщал, что не знает ни одного писателя в России, который так или иначе не имел бы дел с чекистами. Если речь идёт о «выездных», это совсем не удивительно – даже организованные экскурсанты выезжали за рубеж в сопровождении внештатного агента, не считая нескольких сексотов. В этой статье снова не обошлось без упоминания известного поэта. Кузнецов выразил сомнение в том, что Евтушенко путешествовал по свету, никак не запятнав себя сотрудничеством с КГБ – это всего лишь намёк на обязательный отчёт по результатам творческой поездки за рубеж.
Совсем иначе приключения невозвращенца Кузнецова выглядят в изложении израильского публициста Бориса Брина:
«КГБ потребовало от него написать донос на Евтушенко, считавшегося самым "левым" поэтом времен «хрущевской оттепели» и после нее. Боясь потерять единственный шанс, Кузнецов указал все известные ему о Евтушенко факты, он не знал, что качество доноса проверил в КГБ Евтушенко и он же дал добро на поездку Кузнецова в Лондон. Не знал и мучился из-за вынужденного доноса, который КГБ обнародовало используя против Кузнецова и подымая престиж Евтушенко. Загадочная смерть Кузнецова свидетельствует о том, что КГБ все же до него дотянулось».
Разоблачения Брина как правило бездоказательны, рассчитаны на интерес нетребовательной публики, жадной до сенсаций. Однако кое-кто и впрямь видел в Евтушенко «агента влияния Кремля». Суть дела прояснил Павел Судоплатов в книге «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы»:
«Идеологическое управление и генерал-майор из разведки КГБ Агаянц заинтересовались опытом работы моей жены с творческой интеллигенцией в 30-х годах. Бывшие слушатели школы НКВД, которых она обучала основам привлечения агентуры, и подполковник Рябов проконсультировались с ней, как использовать популярность, связи и знакомства Евгения Евтушенко в оперативных целях и во внешнеполитической пропаганде. Жена предложила установить с ним дружеские конфиденциальные контакты, ни в коем случае не вербовать его в качестве осведомителя, а направить в сопровождении Рябова на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Финляндию. После поездки Евтушенко стал активным сторонником "новых коммунистических идей", которые проводил в жизнь Хрущев».
Как следует из этих строк, сексотом Евтушенко не был. Да и «участие» КГБ в смерти Кузнецова – наверняка плод необузданной фантазии израильского автора. Скорее всего, из той же серии и версия Бориса Брина, согласно которой автором стихотворения «Бабий Яр» был малоизвестный поэт Юрий Влодов (Левицкий), а вовсе не Евгений Евтушенко. Это предположение, если верить информации, почерпнутой из интернета, поддерживает и вдова Юрия Влодова, которая цитирует рассказ своего мужа о его взаимоотношениях с Евтушенко:
«В годы нашей молодости мы дружили. Я запросто приходил к нему домой, мы читали друг другу только что написанное, и уже тогда было ясно, что все его творения я с лихвой перекрываю. Женя грустнел после моего чтения, потом лихорадочно садился за машинку и слезно просил меня продиктовать ему что-то из только что прочтенного, но еще неопубликованного. Я диктовал, конечно, что мне – жалко? Потом одно из стихотворений он, с некоторыми изменениями, напечатал под своей фамилией. Это стихотворение потом стало знаменитым, одним их лучших в его творчестве. Я имею в виду "Бабий Яр"».
Вот это «с лихвой перекрываю» уже наводит на мысль, что дело тут не чистое – похоже, что поэт немного переигрывает. Затем идёт рассказ про «стрёмную», то есть воровскую жизнь, про недолгое пребывание Влодова на нарах, ну а потом новая встреча двух поэтов:
«Когда я освободился, я встретил Женю и спросил его, зачем он это сделал. Как ни странно, он ничуть не смутился и сказал, что, поскольку я сел, он решил таким вот интересным образом спасти это прекрасное стихотворение, не дать ему пропасть, оно ведь нужно людям. Я не нашелся, что ответить на подобное заявление, настолько оно меня поразило. Потом успокоился, простил его, но запретил это стихотворение в дальнейшем как-то использовать: публиковать, ставить в книги».
Это довольно нелепое признание можно объяснить взаимной неприязнью Влодова и Евтушенко, причины которой также описывает вдова поэта. Поводом для конфликта стало стихотворение Влодова, из которого приведу только четыре строфы:
Не тянет, я – не гений!
У всех свои умы.
И я спросил: «Евгений!
Что будем делать мы?»…
И нежный шепот: «Девочка!–
В его устах как мат.–
«Ты прелесть, иудеечка!
Ты – смак!»
И мне: «А ну, налей-ка!–
И в щеку винный дух!–
Смелей! Она ж– еврейка! –
Выдержит двух!..»…
И тут я прямо к гению
Нервическим шажком,
И вдруг я раз Евгению
По роже, кулачком!..
Надо признать, стихи весьма обидные для Евтушенко. Тут и намёк на антисемитизм, и унижение, испытанное якобы в результате мордобоя. По словам вдовы Юрия Влодова, дальше случилось вот что:
«Узнав об этом стихотворении, Евтушенко подошел к Влодову в ЦДЛ и пафосно произнес: "Поэт Юрий Влодов! Вы – подлец!". На что Влодов ему грубо ответил: "Пошел ты вон, графоманская морда!". На том они разошлись».
Все эти истории, изложенные в интернете, можно было бы назвать доносом то ли Бориса Брина, то ли вдовы Юрия Влодова на «антисемита» Евтушенко. Однако никто из авторов «сенсации» не решается ничего категорично утверждать, поэтому и обвинять в клевете, по сути, некого. Не исключено, что цель заключалась только в том, чтобы привлечь внимание к творчеству забытого поэта. К счастью, невозвращенец Кузнецов тут совершенно ни при чём.