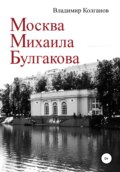Владимир Алексеевич Колганов
Писатели и стукачи
Глава 10. Неистовый Всеволод
Глава о Мейерхольде появилась здесь вроде бы сама собой, помимо моего желания. Реформатор сцены, один из основателей современного театра, учениками которого можно считать и Юрия Любимова, и многих других театральных режиссёров – все это, безусловно, признают и отдают должное его таланту. Однако никому не пришло ещё в голову назвать Всеволода Эмильевича писателем. А зря! Такому количеству статей и докладов, не казённо-бездушных, а наполненных яркими эмоциями и глубоким содержанием может позавидовать любой наш литератор. Известно и то, что Мейерхольд чуть ли не заново переписывал некоторые пьесы, прежде чем ставить их на сцене своего театра. Сочинил он и руководство по теории сценических движений. Ну чем, скажите, не писатель? Но есть и ещё один важный аргумент: до сей поры высказываются подозрения, будто он писал доносы на своих коллег. Это ли не повод для тщательного разбирательства?
Режиссёрское дарование Мейерхольда проявилось ещё в начале прошлого века, когда он поставил множество спектаклей на сценах театров Петербурга и Херсона. Приглашение Мейерхольда в Александринку в 1908 году состоялось благодаря директору императорских театров Владимиру Теляковскому:
«Когда Мейерхольд ушел от Комиссаржевской, я набрался храбрости и, на этот раз ни с кем не посоветовавшись, сразу его пригласил. Произошел в театре некоторый переполох. Тут уже не на шутку некоторые из артистов, публики и прессы стали опасаться за устои Александрийского театра».
Надо признать, что опасения были обоснованными – Мейерхольд прежде никогда не работал в крупных театрах с выдающимися актёрами. Теляковский всё же настоял на своём решение, однако первый блин у Мейерхольда вышел комом:
«Первой постановкой Мейерхольда в Александрийском театре была пьеса Кнута Гамсуна "У царских врат", разыгранная 30 сентября 1908 года. Прекрасные декорации были написаны Головиным. Сам Мейерхольд исполнял одну из главных ролей. Состав исполнителей был самый разнообразный, играли премьеры и молодежь. Постановка была встречена печатью, что называется, в ножи. Отзывы были самого малоделикатного свойства. "Петербургская газета" в статье от 1 октября 1908 года писала про самого Мейерхольда: "А настоящее «чучело» ходило по сцене и портило и пьесу, и спектакль…"»
Внешность у Мейерхольда и впрямь была не слишком привлекательная, однако это ещё не повод, чтобы издеваться. Театрального новатора газетчики поругивали и через три года:
«Г. Мейерхольд признал непригодными статистов для изображения воя ветра в "Красном кабачке", и пригласил для этого хор А.А. Архангельского. Воющий хор – такого зрелища, вероятно, не было еще ни в одном театре!.. Чудачества Мейерхольда, сделавшего из Александринского театра какую-то "интермедию", возмущают старых артистов».
А после премьеры спектакля «Живой труп» газеты и вовсе сокрушались: «Чем виноват Толстой, что лучшие актеры Александринского театра не выносят Мейерхольда?»
Не слишком гладко протекала и работа Мейерхольда над оперными постановками на сцене Мариинского театра. Конфликт режиссёра с балетмейстером Михаилом Фокиным привёл к появлению «разоблачительной» заметки:
«За кулисами Александринского театра произвело большое впечатление разоблачение Мейерхольда Фокиным. Говорили, что это уже не первое разоблачение любимчика г. Теляковского. Вспоминали Ф.Ф. Комиссаржевского, фактически доказавшего в своих статьях, что работа, которую приписывает себе Мейерхольд, была его работой. Вспомнили еще интермедию и актера Надеждина, поставившего "Шарф Коломбины" и потом с удивлением узнавшего, что не он ставил, а г. Мейерхольд. Ловкие нынче пошли режиссеры».
Несмотря на критические отзывы российских газет о спектаклях Мейерхольда, у него нашлись поклонники в Европе. В 1913 году режиссёр принял предложение бывшей российской танцовщицы Иды Рубинштейн поставить в Париже, в театре «Chatelet», новую пьесу д`Аннунцио «Pisanello ou l`amour parfumee». Судя по всему, спектакль пользовался успехом. Однако по возвращении в Россию Мейерхольд снова стал участником скандала – только уже не с Фокиным, а с Фёдором Шаляпиным.
Мысль о постановке на сцене Мариинского театра оперы Даргомыжского «Каменный гость» возникла у Шаляпина всё в том же 1913 году. Певец представил на утверждение дирекции план постановки оперы, при этом не только выговорил себе право участия в качестве певца, но и потребовал доверить ему художественное руководство постановкой. В свою очередь, художник театра Головин согласен был работать только с Мейерхольдом, в содружестве с которым он оформил уже несколько спектаклей. Узнав о назначении Мейерхольда постановщиком, Шаляпин категорически отказался работать под его началом и пригрозил, что не будет больше петь в «Борисе Годунове». В итоге дирекция театра вынуждена была снять с репертуара «Каменного гостя».
Как видим, успехи театрального новатора чередовались с относительными неудачами. Но главное его дело было впереди, и предпосылки к этому находим в письме Мейерхольда Антону Павловичу Чехову ещё в 1901 году:
«Я открыто говорю все, что думаю. Ненавижу ложь не с точки зрения общепринятой морали (она сама построена на лжи), а как человек, который стремится к очищению своей собственной личности. Я открыто возмущаюсь полицейским произволом, свидетелем которого был в Петербурге 4-го марта, и не могу спокойно предаваться творчеству, когда кровь кипит и все зовет к борьбе».
Стоит ли удивляться, что через шестнадцать лет автор этого письма с воодушевлением встретил октябрьский переворот. Вскоре Мейерхольд записался в партию большевиков, надел кожаную куртку, фуражку с красной звездой и провозгласил «Театральный Октябрь». Так эти события описывали современники. К первой годовщине революции он поставил знаменитую комическую оперу «Мистерия-буфф» по пьесе Маяковского.
Оказавшись в кресле руководителя театрального совета при Наркомпросе, Мейерхольд намеревался решительно реформировать театр: «Скоро не будет зрителей, все будут актерами, и только тогда мы получим истинное театральное искусство».
Эдуард Багрицкий посвятил реформатору стихи:
Пышноголового Мольера
Сменяет нынче Мейерхольд.
Он ищет новые дороги,
Его движения – грубы…
Дрожи, театр старья, в тревоге:
Тебя он вскинет на дыбы!
Судя по всему, новаторские идеи Мейерхольда не встретили поддержки у театральной общественности, поскольку его пребывание на руководящем посту было весьма непродолжительным. Хотя возможно, дело в том, что он утратил интерес к организационной работе, как только получил в своё распоряжение театр, будущий ГосТиМ – театр имени Мейерхольда. Это была уникальная возможность для воплощения самых смелых, неожиданных идей. Одной из них стал синтез традиционного актёрского искусства с тем, что принято называть биомеханикой. Вот фрагменты из доклада «Актёр будущего и биомеханика», сделанного Мейерхольдом в 1922 году:
«Мы привыкли, чтобы время каждого человека резко делилось: на труд и отдых. Всякий трудящийся стремился затратить наименьшее количество часов на работу, наибольшее – на отдых. Если такое стремление считалось нормальным в условиях капиталистического общества, то оно совершенно непригодно для правильного развития общества социалистического».
Вроде бы театр и режиссура тут совершенно ни при чём, скорее это напоминает доклад ответственного работника из Наркомздрава. А дальше следуют рекомендации, которые словно бы заимствованы из речи представителя отраслевого профсоюза:
«Труд должен сделаться легким, приятным и непрерывным, а искусство должно быть использовано новым классом, как нечто существенно необходимое, помогающее трудовым процессам рабочего, а не только как развлечение: придется изменить не только формы нашего творчества, но и метод… Работа актера в трудовом обществе будет рассматриваться как продукция, необходимая для правильной организации труда всех граждан».
Как называется продукт, создаваемый на сцене, это осталось без ответа. Вряд ли речь шла о совмещении профессий – скажем, актёры между репликами могли печь пирожки, ну а в антракте раздавать их зрителям.
Но вот после столь впечатляющей преамбулы автор переходит к «существу вопроса»:
«Рассматривая работу опытного рабочего, мы отмечаем в его движениях: 1) отсутствие лишних, непроизводительных движений, 2) ритмичность, 3) правильное нахождение центра тяжести своего тела, 4) устойчивость… Процесс работы опытного рабочего всегда напоминает танец, здесь работа становится на грань искусства. Зрелище правильно работающего человека доставляет известное удовольствие. Это всецело относится и к работе актера будущего театра».
Танец – это уже что-то близкое театру. Если только пляски не мешают созданию основной продукции, обещанной новатором. Но вот уже формулируются конкретные требования к актёру:
«Актеру нужно так натренировать свой материал – тело, чтобы оно могло мгновенно исполнять полученные извне (от актера, режиссера) задания… Метод тейлоризации свойствен работе актера точно так же, как и всякой другой работе, где есть стремление достигнуть максимальной продукции… Тейлоризация театра даст возможность в один час сыграть столько, сколько сейчас мы может дать в четыре часа».
Итак, речь здесь идёт всего-навсего о системе упражнений, направленных на развитие физической подготовленности тела актёра к немедленному выполнению данного ему актёрского задания. За основу Мейерхольд взял разработанный американским инженером Тейлором способ интенсификации труда за счёт устранения непроизводительных движений. Эта потогонная система превращала работника в робота, однообразные движения на конвейере истощали его нервную систему. Вряд ли Мейерхольд намеревался довести до такого состояния своих актёров, однако Станиславский видел недостатки этой теории в другом:
«Талантливый режиссёр пытался закрыть собою артистов, которые в его руках являлись простой глиной для лепки красивых групп, мизансцен, с помощью которых он осуществлял свои интересные идеи. Но при отсутствии артистической техники у актёров он смог только демонстрировать свои идеи, принципы, искания, осуществлять же их было нечем, не с кем, и потому интересные замыслы студии превратились в отвлечённую теорию, в научную формулу».
Но бог с ней, с теллоризацией. Гораздо интереснее понять, что это был за человек – Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Илья Эренбург в своей книге «Люди, годы, жизнь» написал:
«Характер у него был трудный: доброта сочеталась с запальчивостью, сложность духовного мира – с фанатизмом. Как некоторые большие люди, с которыми мне привелось столкнуться в жизни, он страдал болезненной подозрительностью, ревновал без оснований, видел часто козни там, где их не было».
В качестве примера можно привести попытку инсценировать фантастический роман Эренбурга «Трест Д. Е. История гибели Европы». Мейерхольд загорелся идеей сделать на этой основе политическую агитку в форме циркового преставления. Естественно, что Эренбурга такая идея ничуть не увлекла и от участия в переделке романа в пьесу он тактично уклонился. Мейерхольд этим отказом от сотрудничества был до крайности взбешён:
«Если бы даже Вы взялись за переделку Вашего романа, Вы сделали бы пьесу так, что она могла бы быть представлена в любом из городов Антанты, но в моём театре, который служит и будет служить делу Революции, нужны пьесы тенденциозные, такие пьесы, которые имеют в виду одну цель: служить делу Революции. Напоминаю: от проведения коммунистических тенденций Вы решительно отказались, указывая на Ваше в отношении социальной революции безверие и на Ваш природный пессимизм».
Отказ Эренбурга можно объяснить ещё и тем, что в процессе сценического воплощения Мейерхольдом пьесы от первоначального замысла её автора немного оставалось. Об этом в своих воспоминаниях написал и Александр Гладков, долгое время работавший рядом с Мейерхольдом:
«Мейерхольд в некоторых случаях решительно предпочитал слабый, но художественно нейтральный драматургический материал, дававший ему возможность "вписать" в эти пьесы режиссерскими средствами свою собственную драматургию».
С такой манерой работы режиссёра имел возможность познакомится и Юрий Герман, в самом начале своей литературной карьеры написавший роман «Вступление». После одобрительного отзыва Горького начинающему литератору предложили написать на этом материале пьесу, и вот что получилось:
«Мою пьесу Мейерхольд выдумал сам. Мне не стыдно в этом сознаться. И ему я не раз говорил о том, что пьеса эта, в сущности, его. Он посмеивался, а однажды спросил не без раздражения: "Ты что хочешь? Чтобы на афише было написано: "Мейерхольд и Герман"? Или: "Герман и Мейерхольд"? Ты меня, старика, материально поддержать хочешь?"… Спектакль "Вступление" состоялся. Мою пьесу очень ругали, Мейерхольда – справедливо – хвалили. Мне было горько, но не слишком…»
В Москве этот спектакль действительно хвалили, а в Ленинграде отнеслись к нему более чем сдержанно. Недоброжелатели назвали эту постановку «черновиком спектакля».
Противоречивы были мнения общественности и после того, как на сцене театра Мейерхольда был показан спектакль по пьесе Николая Эрдмана «Мандат». Содержание пьесы рассмотрим в одной из следующих глав, а здесь приведу отзывы современников. Режиссёр и театровед Василий Сахновский так описывал своё впечатление от просмотра этого спектакля:
«Этот спектакль – страшная картина русской действительности. Должно содрогнуться сердце, должны пролиться слезы, нужно сидеть, разинув рот… Так страшна и так смешна та Россия, которую показал Мейерхольд».
Если судить по этой краткой рецензии, можно подумать, что Эрдман написал эпопею о тогдашней России. На самом деле это всего лишь зарисовка о нравах обывателей, но сделана она была талантливо.
Иное мнение, вполне соответствующее скрытому смыслу этой сатирической комедии, высказал Юрий Елагин в книге «Всеволод Мейерхольд. Темный гений», изданной в 1955 году в Нью-Йорке:
«После конца спектакля Мейерхольд, Эрдман и Райх стояли на сцене, взявшись за руки и кланялись публике, а из бушевавшего зала неслось: "Прочь Сталина! Долой бюрократию! Долой сталинских ставленников!"»
Пожалуй, эти реплики следует отнести на счёт необузданной фантазии автора книги, однако не приходится сомневаться, что впечатление было именно такое. По крайней мере, у преданных поклонников мастерства Эрдмана и Мейерхольда. К числу поклонников Мейерхольда вплоть до своей кончины в 1924 году принадлежал и его бывший покровитель Владимир Теляковский, о чём писали тогдашние газеты:
«Мейерхольд, который чрезвычайно ценил Теляковского, привез ему прошлой весной постоянное место на спектакли своего театра в Консерватории. Теляковский по нескольку раз ходил смотреть "Землю дыбом", "Рогоносца", "Лес" и "Даешь Европу!", спектакль, который ему особенно понравился и о котором он говорил с увлечением».
Надо признать, что существование театра Мейерхольда было бы невозможным без поддержки Троцкого и Луначарского. Рассчитывая на покровительство власти, Мейерхольд даже сформировал при театре художественно-политический совет из партийно-правительственной верхушки во главе с тем же Троцким. «Первому красноармейцу» он посвятил и свой спектакль с весьма впечатляющим названием «Земля дыбом», но здесь причина была чисто утилитарная – Троцкий помог оформить постановку, выделив военную амуницию, полевые телефоны, мотоцикл и даже прожектора.
А вот дифирамбы другому благодетелю:
«История человечества знала блестящие эпохи расцвета искусств и гордилась именами их деятелей. Сегодня приветствуем вестника величайшего Возрождения, носителя неисчерпаемой эрудиции, непревзойденного оратора, неутомимого работника над развитием марксистской теории искусства, самоотверженного пионера в области создания революционной драматургии, отзывчивого человека, Перикла советских Афин – Анатолия Васильевича Луначарского».
Насколько Мейерхольд был искренним в этих откровениях, не берусь судить. Тут надо бы иметь в виду и его актёрское прошлое, и всем известный принцип, когда цель оправдывает средства. В данном случае этим средством была безудержная лесть.
Несмотря на поддержку влиятельных людей, далеко не всем было по нраву подобное искусство. Знаменитый актёр Александр Южин-Сумбатов, приверженный идеям традиционного театра, был в ужасе от вывертов, которые он наблюдал в ГосТиМе:
«Я прошу совершенно освободить русского актера, его трудовую личность, как кузнецов, как пахарей, как кого угодно. Освободить от всех опек мундирных, чтобы ни в коем случае в наши дела не вмешивались блестящие пуговицы или эти пошлые кожанки».
Этот протест против «нового искусства» был адресован в 1920 году непосредственно наркому просвещения Луначарскому, но как нетрудно догадаться, не имел должного эффекта. Нарком считал своей обязанностью поддержать идею «Театрального Октября», провозглашенного Всеволодом Мейерхольдом.
В начале 1924 года намечалось празднование полувекового юбилея театрального новатора. Накануне этого торжества Луначарский получил письмо руководителя Управления государственными академическими театрами Елены Малиновской:
«Сейчас настал момент, когда я считаю гражданским и коммунистическим долгом выступить в роли обвинителя против гр. Мейерхольда. Предстоит сверхпомпезное чествование советским органом (Московским Советом) в течение 3-х дней, чего не было ни с одним из наших крупнейших юбиляров – народных артистов. Очевидно, такая честь выпала на его долю как на "вождя театральной революции". На запрос юбилейной комиссии, какое участие приму я в чествовании, я, конечно, ответила отказом. Единогласно высказались против участия весь Художественный Совет Большого театра, Художественный театр и его студии».
Обращение к Луначарскому вполне оправдано, поскольку он, в отличие от Троцкого, хотя и продолжал поддерживать Мейерхольда, но был уже не в восторге от всей этой «левизны» в искусстве. То ли к его мнению не очень-то прислушивались, то ли он не решался противоречить Троцкому, но ситуация, по мнению многих театральных деятелей, грозила катастрофой. Поэтому и появились в письме Малиновской строки, посвящённые спектаклю «Земля дыбом» и её автору:
«Мне представляется гр. Мейерхольд психически ненормальным существом, проделывающим кошмарные опыты… Весь его "труд" посвящён "первому красноармейцу Д. Троцкому". И вот что получилось: Армия – стадо баранов. Крестьяне – трусы, рабы. Вожди – чеховские нытики, сознающиеся в том, что они не знают, что делать, упускающие все моменты, пассивно ожидающие смерти, убегающие после восстания… Комсомол – жалок и смешон… Мозги у всех должны стать дыбом после этой постановки, но, если я нормальна, я утверждаю, что впечатление одно: вот Ваши лозунги, а вот что Вы собой представляете на деле и поэтому "Земля дыбом" не агитационная пьеса, как нам внушают гипнотизёры, а ультроконтрреволюционная».
Понятное дело, что этого спектакля я не видел, но может быть, и впрямь была права Елена Малиновская? А если ещё припомнить и восторги Юрия Елагина по поводу «Мандата», то вырисовывается нечто прямо противоположное тому, о чём Мейерхольд громогласно заявлял с трибуны. Возможно, большевистскую революцию Мейерхольд воспринял как театральное представление, как клоунаду, балаган, поэтому надел кожанку и нацепил на фуражку красную звезду. В самом деле, с какой стати сын пензенского винозаводчика вдруг воспылал любовью к большевикам, проникся идеями марксизма-ленинизма? Стоит обратить внимание и вот на что: если Мейерхольд пытался ставить не сатиру, а что-нибудь действительно патриотическое, у него ничего не получалось. Пожалуй, единственное исключение – спектакль «Последний решительный» по пьесе Всеволода Вишневского. Кстати, аналогичная ситуация и с Булгаковым. Даже Эрдман, если и писал что-то в духе «времени великих свершений», то ограничивался диалогами для художественных фильмов.
Понимание того, что Мейерхольд вовсе не советский режиссёр, возникло и у Билль-Белоцерковского. Приветствуя в 1928 году деловую поездку Мейерхольда за границу, он заявлял, что «рабочий класс ничего от этой поездки не потеряет». Здесь имелась в виду и перспектива невозвращения Мейерхольда в СССР. Однако Билль-Белоцерковский не понимал главного: Сталин с помощью деятелей искусства пытался создать на Западе образ цивилизованной державы. Поэтому, в частности, выпускал за границу Илью Эренбурга и Бориса Пильняка. Поэтому и защищал до поры до времени талантливого режиссёра от нападок:
«Мейерхольд как деятель театра, несмотря на некоторые отрицательные моменты, выверты, неожиданные и вредные скачки от живой жизни в сторону "классического" прошлого, несомненно связан с нашей советской общественностью и, конечно, не может быть причислен к разряду "чужих"».
Понятно, что причисление талантливых художников к «чужим» означало бы не только снижение интереса к социалистической державе за границей, но и доказывало бы, что люди творческие, то есть настоящая интеллигенция, не поддерживают происходящих в России перемен. В первые годы после окончания гражданской войны большевики всеми силами пытались привлечь интеллигенцию на свою сторону. Пришлось Сталину наставлять на путь истинный и наиболее оголтелых деятелей из Российской ассоциации пролетарских писателей:
«Не странно ли, что, ругая Б.-Белоцерковского "классовым врагом" и защищая от него Мейерхольда и Чехова, "На Литпосту" не нашел в своем арсенале ни одного слова критики ни против Мейерхольда (он нуждается в критике!), ни, особенно, против Чехова? Разве можно так строить фронт? Разве можно так размещать силы на фронте? Разве можно так воевать с "классовым врагом" в художественной литературе?»
Однако по мере того, как власть убеждалась в неэффективности сотрудничества с попутчиками, критика становилась всё злее, всё напористее. Особенно преуспели в этом деятели из РАПП и Главреперткома. В своих воспоминаниях Илья Эренбург приводил отрывок из письма Мейерхольда в 1930 году:
«Театр может погибнуть. Враги не дремлют. Много есть в Москве людей, для которых театр Мейерхольда бельмо на глазу. Ох, долго и скучно об этом рассказывать!»
Тучи стали сгущаться в 1936 году, когда уже не было рядом с Мейерхольдом ни Троцкого, ни Луначарского. Заведующий отделом культурно-просветительной работы в МК ВКП(б) Вениамин Фурер, друг Исаака Бабеля, во время своего выступления на многодневной дискуссии работников московских театров потребовал от Мейерхольда «решить, что более важно для него: восторженные ли взвизгивания его поклонников или суровая большевистская критика»:
«Было бы нелепо отрицать роль Мейерхольда в развитии советского театра, хотя и надо более осторожно определять её, чем роль "вождя театрального Октября", но никто никогда не пойдет на канонизацию того, что делает Мейерхольд».
Эти слова можно расценить как предупреждение. А в конце следующего года последовал новый удар по театру Мейерхольда. «Правда» поместила статью председателя Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР Платона Керженцева «Чужой театр»:
«В те дни, когда наши театры показывают десятки новых советских произведений, отражающих нашу эпоху, образ Ленина, этапы революционной борьбы, когда тысячные аудитории горячо приветствуют актеров, режиссеров, композиторов и драматургов, сумевших отразить в своем творчестве величайшие проблемы социализма, борьбу с врагами народа – театр им. Мейерхольда оказался полным политическим банкротом… Разве нужен такой театр советскому искусству и советским зрителям?»
В январе 1938 года, через несколько дней после статьи в «Правде», Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР принял постановление о ликвидации ГосТИМа. В этом постановлении были следующие строки:
«Театр им. Мейерхольда окончательно скатился на чуждые советскому искусству позиции и стал чуждым для советского зрителя… Театр им. Мейерхольда в течение всего своего существования не мог освободиться от чуждых советскому искусству, насквозь буржуазных, формалистических позиций… оказался полным банкротом в постановке пьес советской драматургии… К 20-летию Октябрьской революции театр им. Мейерхольда не только не подготовил ни одной постановки, но сделал политически враждебную попытку поставить пьесу Габриловича "Одна жизнь", антисоветски извращающую известное художественное произведение Н. Островского "Как закалялась сталь"».
Что тут можно возразить? Если партия признала театр «чуждым для советского зрителя», если даже артисты московских театров поддержали решение о ликвидации ГосТиМа, поздно кого-то переубеждать. Последние два года Мейерхольд только и делал, что пытался оправдаться, объясняя свои взгляды на искусство. Вот и на собрании театральных работников Москвы в марте 1936 года приходилось защищаться от упрёков в мейерхольдовщине, которую, по утверждению оппонентов, Всеволод Эмильевич «должен искать в себе, а не в других»:
«Меня приглашают меньше говорить о других и больше о себе. На это я могу ответить: "Мое актерское и режиссерское тело так изранено шпагами критиков, что уж нет, кажется, ни одного живого места"… Охлопков сообщает: "Есть художники, которые под предлогом, что у них нет современных, наших, советских пьес, бегут от действительности". Это, конечно, намек на меня. Беря классические пьесы, я только тем и занимаюсь, что приближаю их к современному зрителю. Я так расставляю действующие силы этих пьес, что они становятся действующими в классовой борьбе. Я определяю их назначение в структуре спектакля с этой классовой направленностью. Где же тут бегство от действительности?»
Вряд ли политическая риторика, упоминание о классовой борьбе могли кого-то убедить в искренности заявлений Мейерхольда. Обвинения следовали одно за другим: уход от реальных проблем общества, увлечение формализмом…
Через год на собрании театральных работников Москвы Мейерхольд снова попытался объяснить свою позицию. Теперь он уже не ссылался на классовую борьбу, а попытался привлечь в союзники покойного вождя пролетариата:
«Ленин в беседе с Кларой Цеткин сказал: "Важно также не то, что дает искусство нескольким сотням, даже нескольким тысячам общего количества населения, исчисляемого миллионами. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими". Пафос высоких требований к нашему искусству, как к ясному, простому искусству, видим мы в статьях Центрального органа нашей партии. И мы знаем, что эти статьи вызваны таким же отношением к искусству, каково оно было у Ленина. Самое главное в искусстве – простота. Но у каждого художника свое представление о простоте. В поисках простоты художник не должен терять особенностей своего лица».
В этих словах присутствует явное лукавство. С одной стороны, Мейерхольд признаёт, что искусство должно быть понятно народу, а с другой – заявляет о субъективном представлении о простоте у каждого художника. Но где гарантия, что народ поймёт этого художника?
А вслед за весьма сомнительным, размытым определением простоты следуют противоречивые оправдания права художника на эксперимент:
«В здоровом экспериментаторстве надо различать больное и то, что должно быть отброшено. А бывает и так: необходимо то, что должно быть отброшено».
Нет, такими аргументами никого не удастся переубедить. А дальше больше – большевистская фразеология и ссылка на стахановское движение как на последний аргумент в этом безнадёжном споре:
«Если мы вчитаемся повнимательнее в громадное количество статей, появляющихся в Центральном органе партии… то мы увидим, что во всех них есть… призыв к самому пролетариату быть зорким и бдительным в отношении тех произведений искусства, которые ему подаются. Ведь, в сущности говоря, товарищи, могли ли эти статьи появиться до стахановского движения? Никогда… Когда Стаханов, который сыгнорировал установленные учеными нормы, который перехлестнул эти нормы, дал установку на новые, на свои нормы… В области искусства сам пролетариат хочет нарушить все нормы, которые установлены нами, деятелями искусства».
Мейерхольд и в этих словах не убедителен. Сравнение художественного творчества с работой в угольном забое абсурдно, поскольку результат труда шахтёра налицо, а как в перспективе повлияет на зрителей очередной спектакль в ГосТиМе – это совсем не очевидно. Нельзя судить только по овациям преданных поклонников.
Последняя попытка оправдаться была предпринята в ноябре 1938 года на заседании режиссёрской секции Всероссийского театрального общества. После того, как не помогла ссылка на Стаханова, Мейерхольд уже не говорит о праве художника на новаторство, на собственное представление о простоте:
«Вы знаете, как наша партия поставила сейчас вопрос об интеллигенции, – ведь это в первую очередь относится к нам. Мы и являемся той интеллигенцией, которая должна по зову нашей партии влиять на тех людей, с которыми мы встречаемся… И такой главный вопрос, как вопрос освоения марксизма-ленинизма, изучения истории ВКП (б). Режиссеры должны этим овладеть, потому что в их мировоззрении на каждом шагу, в каждом миллиметре работы на сцене, везде это должно сквозить».
Думаю, что после столь неуклюжей попытки Мейерхольда доказать свою лояльность власти всем присутствующим стало ясно, что дни театра сочтены. А через несколько месяцев после закрытия театра настала очередь самого Всеволода Эмильевича.
Существует множество версий причин закрытия театра и ареста Мейерхольда. К примеру, Леонид Утесов объяснял это так:
«Сталин не любил знаменитых людей, которые своей славой не были обязаны ему. Только из рук Сталина слава должна была приходить к человеку».
Ещё более странная версия гласит, что всему виной оказался спектакль «Дама с камелиями». Будто бы Сталин находился в зале и понял «подтекст спектакля, стремление к свободной от идеологии, красивой, обеспеченной человеческой жизни». Однако Сталин никогда не посещал театра Мейерхольда, поскольку там не было правительственной ложи.
Более убедительно предположение, что судьба Мейерхольда была решена после неудачной инсценировки романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Борис Голубовский делился своими впечатлениями от просмотра:
«Я видел у Мейерхольда "Как закалялась сталь", тогда роман в инсценировке Евгения Иосифовича Габриловича назывался "Одна жизнь"…. Я бы сказал так: это был Николай Островский, распятый на кресте. Была там такая сцена: Павка в цеху борется с вредителем. Тот швыряет Корчагина на приводной ремень, включает ток. Ремень начинает подниматься, и вот Корчагин, распятый, возносится над сценой…»