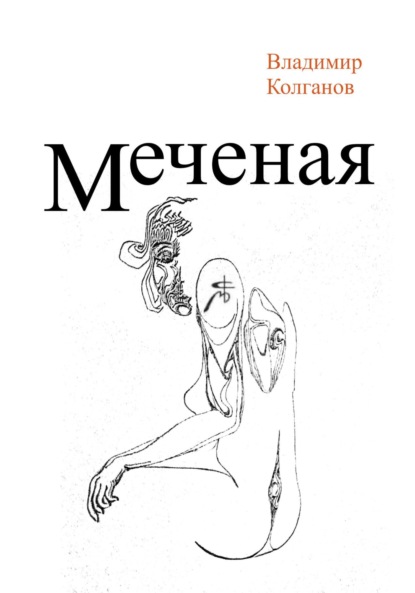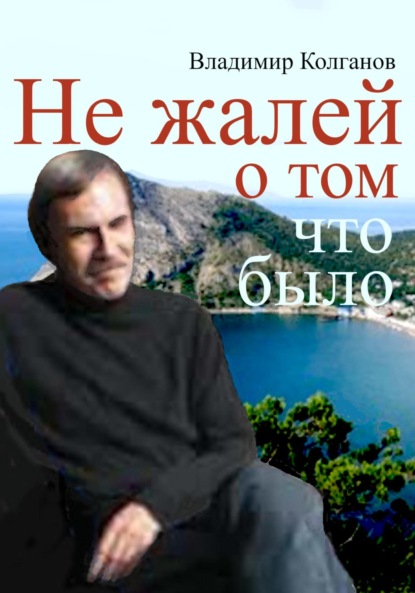Полная версия:
Владимир Алексеевич Колганов Писатели и стукачи
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Владимир Колганов
Писатели и стукачи
«Всякий писатель – доносчик. А всякая литература – донос».
Фредерик Бегбедер, «99 франков»
«Владыко мой! К чему сии доносы? Что в них завертывать?»
Николай Лесков, «Соборяне»
Вступление
Сразу поясню, что в этой книге я не претендую на открытия. Всего лишь пытаюсь обобщить известные факты, добавив то, что не известно большинству читателей. Затем придётся проанализировать доказательства вины тех лиц, которых принято называть доносчиками, а в результате – кого-то оправдать, а для других оставить в силе приговор общественности. Надеюсь, что, прочитав эту книгу, многие будут удивлены моими выводами.
Начну с определения доноса. По мнению составителей словарей, донос – это тайное сообщение представителю власти о чьих-либо действиях, которые, по мнению доносчика, подлежат немедленному осуждению. В качестве классического образца подобного доноса я бы предложил следующий текст:
«В ФСБ и Министерство культуры РФ. Довожу до Вашего сведения, что некто Владимир Алексеевич Колганов, появившийся на свет в роддоме имени Грауэрмана на Арбате и выдающий себя за литератора, распространяет сведения, порочащие честь популярного писателя и журналиста…».
Ну и так далее, в соответствии с личными привязанностями автора доноса и его литературным вкусом.
Увы, приведённое чуть выше определение доноса оставляет вне зоны нашего внимания критические статьи и даже книги, которые оскорблённая общественность нередко считала средством клеветы, сведения личных счётов и, соответственно, поводом для привлечения автора к ответственности. Поэтому я вынужден отбросить в этом определении слово «тайное», иначе многие борцы со стукачами могут оказаться в неудобном положении.
Надо признать, что с понятием доноса в нашей истории творилось что-то странное. Так, например, Ульянов-Ленин употреблял это слово в несколько ином значении – в собрании его сочинений обнаруживаем такие фразы:
«О ходе работ доносите каждые две недели».
«Докладывать каждую неделю губисполкому о результате работы и доносить по понедельникам запиской по прямому проводу на имя дежурного представителя Наркомпрода».
«О принятых мерах и достигнутых результатах Реввоенсоветам фронтов доносить еженедельно по понедельникам НКПС и PB СР».
Можно ли утверждать, что руководители «на местах» обязаны были строчить еженедельные доносы? Конечно, нет, поскольку речь идёт всего лишь о рапортах, о сообщениях. Но вот один из старых большевиков понял ленинские указания несколько иначе – в 1925 году с трибуны XIV съезде ВКП(б) он заявил:
«Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, т.е. смотреть и доносить. Я не предлагаю ввести у нас ЧК в партии. У нас есть ЦКК, у нас есть ЦК, но я думаю, что каждый член партии должен доносить. Если мы от чего-либо страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства».
В принципе, если доносительство понимать в указанном мной выше смысле, то против такого доноса нет и не должно быть возражений. Однако неоднократно цитированный в литературе отрывок из выступления Якова Драбкина, известного в партии под псевдонимом «Сергей Гусев», многие восприняли несколько иначе. Вот и Александр Некрич в своей «Истории Российской империи» написал: «Сто раз прав С. Гусев, напомнив, что доносы стали нормой партийной жизни при Ленине». Припомнились слова из песни Булата Окуджавы:
Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит…
По мнению Александра Зиновьева «донос становится средством и школой предательства в определенных условиях»:
«Он процветал и в дореволюционной России, в наполеоновской Франции, в гитлеровской Германии. В западной цивилизации он возник вместе с христианством (вспомните Иуду!). В многовековой истории христианства он сыграл роль не менее значительную, чем в кратковременной истории русского коммунизма (вспомните инквизицию, использование исповеди!). В советской истории доносы сыграли роль огромную, а тридцатые годы были годами буйства доносов».
Здесь речь идёт о политических доносах. Темой же этого исследования, как следует из эпиграфа, хотелось бы сделать донос литературный. Тут будет уместно привести отрывок из статьи Николая Добролюбова:
«Признавая за литературою главное значение разъяснения жизненных явлений, мы требуем от нее одного качества, без которого в ней не может быть никаких достоинств, именно – правды. Надо, чтобы факты, из которых исходит автор и которые он представляет нам, были переданы верно. Как скоро этого нет, литературное произведение теряет всякое значение, оно становится даже вредным, потому что служит не к просветлению человеческого сознания, а напротив, еще к большему помраченью».
Проблема в том, что бывают обстоятельства, когда литературу от политики трудно отделить. И вот сиди и мучайся – как квалифицировать ту или иную статью или даже книгу? То ли обоснованная критика, то ли приложение к обвинительному приговору. В последнем случае это уже политический донос. Такой донос пишется по заданию парткома либо по запросу НКВД и КГБ. Бывает, что донос сочиняется из зависти, в намерении насолить удачливому конкуренту, или по своеобразному велению сердца – это уже крик души, когда нет сил терпеть издевательства над идеалами, без которых жизнь теряет всякий смысл.
В качестве примера сообщу о случае, который имел место ещё двести лет назад. Некий поэт, а по совместительству ещё и цензор, оскорблённый отказом Карамзина поместить в «Московском журнале» его стихи, а кроме этого униженный издевательской рецензией на свою книгу одним из авторов этого журнала, сочинил донос, в котором обратил внимание властей на вольнодумство Карамзина, примеры которого он обнаружил в «Письмах русского путешественника». По счастью, у Карамзина нашлись влиятельные покровители.
Второй пример несколько иного рода. Николай Лесков, автор знаменитого «Левши», в молодые годы сотрудничал в «Северной пчеле». Однажды он пересказал в статье появившийся в столице слух, будто серию пожаров, случившихся в Петербурге, могли организовать студенты-террористы, и потребовал от властей подтвердить или опровергнуть эти сведения. Либеральная общественность была возмущена этой статьёй, объявила её доносом и пообещала наказать зарвавшегося журналиста собственными силами. Позже Николай Лесков написал сатирический роман, в котором подверг критике будущих революционеров, как их в то время называли – нигилистов. В персонажах романа некоторые либералы узнали себя. Последствием возникшего вслед за этим публичного выяснения отношений стал призыв Дмитрия Писарева отлучить от русской журналистики «тупоумного ненавистника будущего». Оставим на совести автора это сомнительное обвинение, однако призыв к бойкоту уж никак не сочетается со свободой слова, за которую всегда ратовали либералы.
В отличие от либералов и нигилистов, Фёдор Достоевский придерживался иного мнения по поводу доносов:
«Уверяю вас, что у нас никогда и ни на кого не доносили в литературе ни за веру, ни даже за какие-нибудь местно-патриотические чувства. Если же и были когда-нибудь частные случаи, то они до того уединенны и исключительны, что грешно и стыдно возводить их в общее правило: "дескать, привычка эта всё еще нас не оставила". Да и что такое донос или сыск? Есть факты, про которые уж нельзя не говорить».
Если и в самом деле речь идёт о фактах, против их обнародования невозможно возразить. Единственное, что настораживает – это возможные последствия.
Ещё одна проблема состоит в навешивании ярлыков, когда автора критической статьи тут же на всю страну могут объявить доносчиком. Подобные способы бесчестной конкуренции и сведения личных счетов перечислены в «Заметках о правилах и формах литературной борьбы», написанных профессором Киевского университета Николаем Хлебниковым в 1879 году. Он считал, что «писатель, не соблюдающий следующих условий, не может требовать к себе уважения» – среди этих условий под номером восемь было сказано: «если называет [своего оппонента] доносчиком или подкупленным писателем».
Будем иметь это в виду, рассматривая газетные статьи, материалы следственных дел и письма писателей в высшие инстанции.
Глава 1. Лев Никулин, ОГПУ и Бабель
Советским телезрителям хорошо знаком сериал под названием «Операция "Трест"», рассказывающий об истории поимки известного британского разведчика Сиднея Рэйли. Один из первых советских многосерийных телефильмов был поставлен Сергеем Колосовым по повести Льва Вениаминовича Никулина «Мёртвая зыбь». Отец будущего писателя, провинциальный актёр и антрепренёр Вениамин Иванович Олькеницкий взял себе псевдоним Никулин, дабы не смущать российскую публику своей фамилией. Лев Никулин печатался с 1910 года – писал театральные рецензии, фельетоны, сценки для теaтрa миниaтюр «Летучaя мышь», сочинял прекрасные стихи, некоторые из них положил на музыку Александр Вертинский. После революции Никулин работал в Политуправлении Балтийского флота, в Генеральном консульстве в Кабуле, а в 30-е годы – в редакции газеты «Правда», участвовал в написании книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931 – 1934 гг.», а в 1940 году был принят в ВКП(б). Словом, вполне приличный послужной список для советского писателя и журналиста, автора нескольких десятков пьес и книг. И вроде бы не с чего подозревать в его биографии некое второе дно, ну разве что повесть «Мёртвая зыбь» он не смог бы написать без помощи товарищей из контрразведки.
Но вот читаю в книге Григория Свирского «На лобном месте» рассказ о Константине Паустовском:
«Однажды он тихо, но так, чтобы окружающие слышали, как бы спросил прозаика Льва Никулина: "Каин, где Авель? Никулин, где Бабель?"… Константин Паустовский повторял, где только мог, свое присловье о Каине-Никулине. Писатели и верили, и не верили, легко ль обвинить собрата по перу в убийстве? Когда вышла повесть молодого писателя Ю. Бондарева "Тишина", престарелый Лев Никулин тут же отозвался на нее многостраничным доносом в ЦК и КГБ, и это письмо (время было такое, антисталинское!) показали Юрию Бондареву. Тогда уж не осталось никаких сомнений».
Здесь речь идёт о том, что Льва Никулина считали автором доноса на Исаака Бабеля. Ума не приложу, каким образом критическое выступление Никулина против Бондарева может стать доказательством этого мерзкого поступка? Пожалуй, называть письмо доносом, не пояснив, в чём суть претензий Никулина к повести Бондарева – это явный перебор. Судя по всему, Григорий Свирский оказался не в ладах с элементарной логикой.
Гораздо жёстче Свирского писала о Никулине в своих воспоминаниях вдова поэта, Надежда Мандельштам:
«Он не может не сделать в подходящую минуту идеологического доноса. Он натренирован на эту деятельность всей своей жизнью. Благодаря ей он пользовался всеми благами жизни, содержал жену и взрастил двух добродушных дочерей. Эта привычка стала второй натурой и чем-то обязательным и неизбежным, как условный рефлекс. Старику её не преодолеть, даже если б он этого захотел, а у Никулина таких желаний, наверное, и в помине нет».
В отличие от вдовы известного поэта, с Никулиным я не был знаком, поэтому для возражений не имею ни малейших оснований. Более сдержанный подход к этому запутанному делу продемонстрировал драматург Александр Гладков. В 1964 году он записал в своём дневнике:
«В «Москве» воспоминания Л. Никулина о Бабеле. Они не очень интересны, но в них сквозит желание доказать всем, что Бабель его, Льва Никулина, очень любил. А молва твердила и твердит, что он имеет какое-то отношение к его аресту. Может быть, это правда, и поэтому-то он так распинается. Вообще у Никулина стойкая репутация стукача. Слышал я, что именно поэтому он так легко всегда ездил за границу, что исполнял функции информатора за пребывающими за границей нашими писателями… Говорят – дыму без огня не бывает. Когда-нибудь все станет известно…»
«Какое-то отношение», «стойкая репутация», «слышал я» – это меня не убеждает. Итак, попробуем разобраться в том, о чём так настойчиво твердит молва. Одним из косвенных доказательств сотрудничества Льва Никулина с ОГПУ-НКВД стали частые поездки за границу. Об этих вояжах упоминает Николай Любимов в книге «Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний»:
«Никулин ухитрился первым из советских писателей побывать за границей (почему-то его посылали с нашей дипломатической миссией в Афганистан): и в Турции, и даже в Испании эпохи Примо де Ривера, куда всем прочим писателям путь был заказан».
Примерно о том же пишет и Михаил Ардов в книге «Вокруг Ордынки»:
«У меня есть все основания полагать, что Лев Никулин, как и весьма многие интеллигенты его поколения, в свое время вполне искренне принял революцию и стал преданно служить советской власти. В 1921 году в составе дипломатической миссии он уехал в Афганистан, где провел полтора года. В дальнейшем его отправляли во Францию, в Испанию, в Турцию, где, надо полагать, он выполнял какие–то поручения “компетентных органов”. И он до самых последних лет своей жизни был, что называется, “выездной”».
Более конкретно на связи Никулина с ОГПУ указал Борис Носик в своих воспоминаниях «С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции». Тут речь идёт о парижских встречах:
«Чаще всего отбирать компанию приходилось по просьбе старого "приятеля из ГПУ" Льва Никулина – то ему нужен был зачем-то троцкист Суварин, то еще кто-нибудь… Суварин приходил, хотя уже догадывался, кто он такой, этот снова приехавший в Париж Никулин, но и Суварину хотелось повидаться с ненадежным москвичом: любопытно ему было, хотя и страшновато (или как говорили актеры, "волнительно"). Позднее Суварин сообщал в своих записках: "мы, вполне естественно, интересовались новостями о наших общих знакомых. Как же не спросить и про Бабеля? Нам было безразлично, сдавал ли Никулин по возвращении отчеты о наших встречах, – нам нечего было скрывать, но и он ничего интересного нам рассказать не мог"».
Как видим, никто из авторов приведенных мной цитат не в состоянии сообщить ничего, кроме подозрений. Поэтому придётся разбираться самому. Для этого отправимся не в Одессу, где вместе с Исааком Бабелем учился Лев Никулин, урождённый Олькеницкий, а совершенно в другом направлении – в Литву. Там в городе Эйшишкес проживал когда-то Олькеницкий Пинхос Лейбович, мещанин. Его сын, Вульф Пинхосович, в поисках лучшей доли отправился на Украину, жил в Житомире, а позже перебрался в Петербург, где со временем стал управляющим аптекой Бергольца на Гороховой. Вслед за ним в столицу перебралась его многочисленная литовская родня – кто-то устроился помощником аптекаря, другие получили профессию дантиста. Кстати, жена Вульфа Пинхосовича, Сара Хаймовна, тоже была зубным врачом. Помощником аптекаря служил и Шмуль Захарович Олькеницкий. Профессию, связанную с медициной, выбрал и его сын Гирш. Вот что писал о нём Евгений Сухов в книге «Медвежатник фарта не упустит»:
«Гирше было почти двадцать пять, и отсрочку от мобилизации он получил вначале в Бехтеревском институте в Петербурге, а от фронта отлынивал уже в Казани, пребывая в университете».
Это было в 1916 году. Вскоре Гирш был арестован за революционную деятельность, выслан в Чистополь, а в следующем году уже участвовал в организации восстания в Казани. Затем его избрали в ревком, он стал секретарём военно-революционного штаба, после этого был назначен комиссаром банка. В начале 1918 года Гирш Олькеницкий возглавил губернскую ЧК. Читаем в книге Сухова:
«В его личный кабинет председателя Губернской Чрезвычайной комиссии, занимавшей особняк на Гоголевской улице, то и дело заходили люди в кожанках с «расстрельными» бумагами, которые Олькеницкий подписывал, не особо вдаваясь в содержание».
А в июне 1918 года Гирш Олькеницкий был убит бандитами.
Теперь возвратимся к рассказу о его дядюшке, двоюродном или троюродном, это не столь важно. После 1910 года престарелый Вульф Пинхосович стал неожиданно Владимиром Петровичем. А в это время его сын Вениамин – ещё в молодые годы, после развода родителей, он вместе с матерью переехал в Одессу – мотался по России, ставил спектакли, одно время даже был директором Воронежского зимнего драматического театра. Для театральной сцены его фамилия не очень подходила, поэтому и придумал себе псевдоним – Вениамин Иванович Никулин. Уже после революции он оказался в Москве, был членом Российского театрального общества, работал в студии с весьма замысловатым названием «Губрабис» – видимо, происхождением оно обязано «губернскому рабочему искусству».
Не стоит удивляться тому, что Лев Никулин, родственник заслуженного чекиста, погибшего от руки врагов, оказался достоин доверия товарищей из ОГПУ. Гирша Олькеницкого помнили в Москве, куда он приезжал с планом разгрома контрреволюционного подполья в Казанской губернии. Несомненно и то, что Лев Вениаминович не брезговал общением с роднёй, пока работал в Ленинграде – родственные и национальные связи всегда позитивно сказываются на карьере. Вот и Никулину повезло. Если бы не обвинение в том, что засадил своего друга Бабеля в тюрьму, можно было бы считать, что жизнь Льву Вениаминовичу удалась.
Надо признать, что в деле Бабеля до сих пор нет ясности. Среди тех, кого обвиняли в его гибели, был и Семён Будённый, которому очень не понравилось, как Бабель написал о Первой конной армии. Будущий маршал ответил на книгу писателя статьёй под названием «Бабизм Бабеля из "Красной нови"»:
«Под громким, явно спекулятивным названием "Из книги Конармия" незадачливый автор попытался изобразить быт, уклад и традиции 1-й Конной Армии в страдную пору ее героической борьбы на польском и других фронтах… Гражданин Бабель рассказывает нам про Красную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье… выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет».
От гнева главного кавалериста страны Бабеля спас Максим Горький, который считал его «понимающим людей и умнейшим из наших литераторов».
В 60-е годы записали в палачи Бабеля литературоведа Якова Эльсберга, о котором речь пойдёт в одной из следующих глав. Что же касается сотрудничества Льва Никулина с ОГПУ, то он наверняка писал отчёты о встречах за границей, докладывая о настроениях в эмигрантской среде. Не исключено, что выполнял ещё какие-то задания. Однако подтверждений выдвинутому против него обвинению я так и не нашёл.
В своих воспоминаниях Никулин очень тепло писал об Исааке Бабеле. Они встречались в Париже, регулярно переписывались. Их дружеские отношения подтверждает такой фрагмент из письма Бабеля:
«Дорогой Л. В. Не могу сказать, как обрадовала меня ваша открытка, как я рад за вас, всем сердцем… В начале лета я буду в Москве, в марте – хочу поехать в Италию. Не прихватить ли мне Турцию и вернуться через Константинополь? Не входит ли Италия в ваш маршрут? Ответьте мне. Напишите о делах российских. Читали соборно фельетон ваш о Пильняке – помирали со смеху…»
А вот какими словами завершает свои воспоминания о друге Лев Никулин:
«Бабель исчез из нашей среды, как исчезли другие наши товарищи, но все же он оставил неизгладимый, я бы сказал, ослепительный след в нашей литературе. Не по своей вине он не допел свою песнь».
Трудно поверить, что это писал человек, погубивший близкого человека, с которым был знаком с юных лет.
Тут самое время обратиться к документам. Сначала приведу выдержку из сводки НКВД от сентября 1936 года, в которой сообщается о настроениях Исаака Бабеля в связи с завершением в августе того же года процесса по делу так называемого «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра»:
«Источник, будучи в Одессе, встретился с писателем Бабелем в присутствии кинорежиссера Эйзенштейна… Касаясь главным образом итогов процесса, Бабель говорил: "Вы не представляете себе и не даете себе отчета в том, какого масштаба люди погибли и какое это имеет значение для истории. Это страшное дело… А возьмите Троцкого. Нельзя себе представить обаяние и силу влияния его на людей, которые с ним сталкиваются. Троцкий, бесспорно, будет продолжать борьбу и его многие поддержат… Мне очень жаль расстрелянных потому, что это были настоящие люди. Каменев, например, после Белинского – самый блестящий знаток русского языка и литературы. Я считаю, что это не борьба контрреволюционеров, а борьба со Сталиным на основе личных отношений"».
Понятно, что фамилии своих информаторов НКВД тщательно скрывал. Узнать имя доносчика помог бы Эйзенштейн, однако к тому времени, когда стали доступны некоторые материалы из архивов КГБ, прославленного кинорежиссёра уже не было в живых. Единственный ориентир – это город Одесса, откуда родом и Бабель, и Эльсберг, и Никулин.
В своих воспоминаниях о Бабеле его гражданская жена Антонина Пирожкова так описывала это время:
«Работа Бабеля с Эйзенштейном над картиной "Бежин луг" началась еще зимой 1935-36 гг. Сергей Михайлович приходил к нам с утра и уходил после обеда. Работали они в комнате Бабеля».
Там же она упоминает и фамилию оператора фильма:
«Эйзенштейн, как одинокий в то время человек, завтракал то у нас, то у оператора снимающейся кинокартины Эдуарда Казимировича Тиссэ и его жены – Марианны Аркадьевны».
Итак, из материалов НКВД следует, что в разговоре участвовали трое. Скорее всего, беседовали в основном о съёмках фильма «Бежин луг». Однако с кем мог обсуждать Бабель чисто киношные проблемы – только с режиссёром и оператором фильма. Тогда следует предположить, что информатором НКВД был Эдуард Тиссэ. С Бабелем он познакомился ещё в 1925 году, когда работал оператором на съёмках фильма «Еврейское счастье», одним из сценаристов которого был Бабель. Маловероятно, что участником этой одесской встречи был Никулин – он предпочёл бы обсуждать столь опасную тему наедине со своим закадычным другом. Ну а слова из упомянутой сводки «источник, будучи в Одессе» следует отнести на счёт желания НКВД таким путём отвести подозрения от информатора, если документ когда-нибудь попадёт в чужие руки – это считалось обычным делом для спецслужб.
Вполне возможно, что Тиссэ общался с некоторыми чекистами – в их рядах было немало латышей. Кто-то из них мог привлечь к сотрудничеству с ОГПУ-НКВД бывшего начштаба экспедиционного партизанского отряда – в этой должности Тиссэ служил в 1918 году на Восточном фронте. Что же касается Эльсберга, то по признанию жены Бабеля он появился в их доме всего за год до ареста её мужа. К этому времени материалов на писателя было собрано уже достаточно, не хватало только последнего штриха.
Скорее всего, в 1936 году Бабеля спасло его знакомство с главой НКВД Ежовым, да и время для массовых репрессий ещё не пришло. О близости писателя к Ежову упоминает Виталий Шенталинский в книге «Рабы свободы. В литературных архивах КГБ»:
«Что тянуло Бабеля в дом Ежова, куда он летел, как бабочка на огонь? Прежде всего профессиональный интерес писателя. Известно, что он долгое время работал над книгой о ЧК… Ходили даже слухи, что его "роман о ЧК" был отпечатан в нескольких экземплярах для Сталина и членов Политбюро и не получил одобрения… Илья Эренбург пишет в своих мемуарах, что его друг понимал всю опасность этих визитов, но хотел, как сам говорил, "разгадать загадку". Однажды он сказал Эренбургу: "Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем"».
Заметим, что близость Бабеля к чекистам была совсем иного рода – не то, что у Никулина. Он что-то выспрашивал, выведывал, желая разобраться в тонкостях работы карательного органа. Это могло вызвать дополнительные подозрения.
Тем временем, в НКВД накапливали материалы на писателя, ожидая, когда Сталин даст разрешение на его арест. В материалах НКВД о Бабеле есть и такая запись, сделанная летом 1939 года:
«В 1934 году следствием по делу троцкиста-террориста Дмитрия Гаевского было установлено, что Бабель является участником право-троцкистской организации».
Однако этот Гаевский не та фигура, чтобы на его признаниях строить обвинение. Нужен был более авторитетный человек. И вот в марте 1939 года следователи наконец-то добились нужных слов от Моисея Фридлянда, известного читателям под псевдонимом Михаил Кольцов, – он был арестован ещё в декабре 1938 года. Это и был тот самый недостающий штрих в деле Исаака Бабеля:
«С Пастернаком и Бабелем, равно как и с Эренбургом, у Жида и других буржуазных писателей ряд лет имеются особые связи. Жид говорил, что только им он доверяет в информации о положении в СССР. "Только они говорят правду, все прочие подкуплены"… Связь Жида с Пастернаком и Бабелем не прерывалась до приезда Жида в Москву в 1936 г.»
Надо сказать, что этого «писаку» Сталин с удовольствием бы засадил в тюрьму, да руки оказались коротки. Анри Барбюс и Лион Фейхтвангер, Бернард Шоу и Ромен Роллан – все побывавшие в СССР зарубежные писатели воспевали небывалые успехи советской власти под руководством Сталина. И только Андре Жид, с симпатией относившийся к социалистической идее, позволил себе выразить недовольство тем, что творилось в стране, написав в 1935 году книгу «Возвращение из СССР». Поэтому все, «запятнавшие» себя знакомством с ним, автоматически становились объектом пристального внимания НКВД.