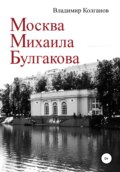Владимир Алексеевич Колганов
Писатели и стукачи
Глава 12. Соль в супе
В конце сороковых годов, когда в СССР началась борьба с космополитизмом, в Союзе писателей состоялось «обсуждение литературной деятельности "беспартийного" писателя Ильи Григорьевича Эренбурга». Выступавшие клеймили позором автора романа «Буря», в котором «он похоронил не только основного героя… но лишил жизни всех русских людей – положительных героев». Кое-кто требовал исключения писателя из СП. Особенно яростно и непримиримо выступил Михаил Шолохов:
«Эренбург – еврей! По духу ему чужд русский народ, ему абсолютно безразличны его чаяния и надежды. Он не любит и никогда не любил Россию. Тлетворный, погрязший в блевотине Запад ему ближе. Я считаю, что Эренбурга неоправданно хвалят за публицистику военных лет. Сорняки и лопухи в прямом смысле этого слова не нужны боевой, советской литературе».
В отличие от оппонентов, Эренбург в своём ответном слове был удивительно спокоен:
«Вы только что с беззастенчивой резкостью, на которую способны злые и очень завистливые люди, осудили на смерть не только мой роман "Буря", но сделали попытку смешать с золой все мое творчество… Позвольте мне привести несколько читательских отзывов. Я говорю о них не для того, чтобы вымолить у вас прощение, а для того, чтобы научить вас не кидать в человеческие лица комья грязи».
Далее Эренбург цитирует несколько писем читателей, которые выражают благодарность за хорошую книгу, а в заключение он озвучил ещё одно послание:
«Дорогой Илья Григорьевич! Только что прочитал Вашу чудесную "Бурю". Спасибо Вам за нее. С уважением И. Сталин».
Нетрудно предугадать, как собравшихся на «линчевание» отреагировали на последние слова, сказанные Эренбургом. Но тут надо бы пояснить, что ещё до описанных событий, после того, как на публикацию его произведений был наложен запрет, Илья Эренбург пишет Сталину:
«Дорогой Иосиф Виссарионович, исключительные обстоятельства принуждают меня обратиться к Вам. С февраля месяца все газеты и журналы оказались для меня закрытыми… Никакого объяснения мне не дали. Таким образом, я лишен возможности вести ту работу, которую вел, не могу бороться против американского империализма, не могу служить Родине… В учебных заведениях… объявляют на лекциях студентам, что я больше не существую как писатель… Только острота положения и невозможность найти выход заставляют меня беспокоить Вас, прошу мне это простить. С глубоким уважением, Илья Эренбург».
Ответом на эту мольбу о помощи и явилась записка Сталина, с помощью которой Эренбург заткнул рот своим хулителям. А через год ставший уже дважды лауреатом Сталинской премии писатель обращается к вождю с новой просьбой – позволить ему выехать на пару месяцев в Европу для сбора материала к продолжению той самой «Бури». В письме есть интересная приписка: «Я не могу закончить это письмо, не высказав Вам того, о чем мы все сейчас думаем: не пожелав Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, здоровья и счастья». Не знаю, съездил ли Эренбург в Европу, но продолжение «Бури» написал – это был роман «Девятый вал».
С таким защитником Эренбургу были не страшны никакие кляузы, наветы и доносы. Что удивительно, благосклонность всемогущего вождя он заслужил всего через несколько лет после того, как покинул «Совдепию», так и не признав власть большевиков. Вот как писатель-эмигрант Василий Яновский, знавший Эренбурга по Парижу 20-30-х годов, описывал его деятельность в те годы: «В продолжение десятилетия обманывал и соблазнял французских интеллектуалов, рассказывая им про сталинский рай, хотя сам валялся в истерике, когда его вызывали на очередную побывку в Москву».
Надо бы разобраться в том, как сам Эренбург объяснял довольно странные повороты в своём мировоззрении, какое обоснование дал своей идеологической позиции, как представлял себе роль еврейского писателя в мировой культуре. Сначала обратимся к эссе «Портрет еврея» – его автор Борис Парамонов хорошо известен слушателям «Радио Свобода»:
«Есть гениальные философы, но люди понимающие давно уже догадались, что философия есть род художественной игры, что строится она не на поиске истины, а на создании мифа. Означает ли сказанное, что евреи – художники по преимуществу, или, что то же самое, гении, что еврейский народ гениален в своей массе? Думаю, что никто не решится сказать такое, тут не нужна философия, достаточно статистики. Однако какой-то соблазн в этой теме существует, и не зря Эренбург в «Ложке дегтя» пытался отождествить литературу с еврейством как таковым».
Весьма насыщенный мыслями текст, как всегда у Парамонова. Что ж, почитаем «Ложку дёгтя», написанную девяносто лет назад. Здесь Эренбург, как это ни удивительно, сравнивает евреев с солью в супе:
«Без соли человеку и дня не прожить, но соль едка, ее скопление – солончаки, где нет ни птицы, ни былинки, где мыслимы только умелая эксплуатация или угрюмая смерть. Я не хочу сейчас говорить о солончаках – я хочу говорить о соли, о щепотке соли в супе».
Сразу возникает опасение: если суп пересолить, то для еды он станет совершенно непригодным. С другой стороны, несолёный суп сможет съесть только не совсем здоровый человек, страдающий повышенным артериальным давлением – да и то не всякий согласится на подобную диету. Как ни стараюсь, не пойму, с какого бодуна пришло Эренбургу в голову подобное сравнение. Неужто авторы «Войны и мира», «Анны Карениной», «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Вишнёвого сада», «Тихого Дона» и «Мастера и Маргариты» только прикидывались русскими, нахально обманывая публику? Возможно, и Цветаева – это литературный псевдоним? И вообще, при чём тут поваренная соль? Какая соль понадобилась Достоевскому, чтобы создать свои творения? Чем Платонов подсаливал свои великолепные рассказы? Может быть, Швондера из повести «Собачье сердце» нужно идентифицировать как соль? Впрочем, без него и впрямь было бы немного пресновато. Однако «закатный» роман Булгакова вряд ли пострадал бы, если изъять оттуда Литовского и Берлиоза, заодно убрав с Патриарших «убийственный» трамвай. А уж Платонову такие персонажи даже и не снились.
И всё же, на что Илья Григорьевич нам намекал? Хотел предупредить, чтобы не дай бог не пересолили? Об Эренбурге многие уже забыли, а Достоевского и Булгакова во всём мире помнят до сих пор. Но почему? Может быть, причина в том, что кругом одни антисемиты?
Судя по всему, Ленин и Троцкий в большевистской революции делали ставку не только на пролетариев, но и на евреев. И в этом есть своя логика – пролетариату нечего терять, а тем, кого унизили введением черты оседлости, позарез нужна была свобода. Однако ставка на национализм чревата неприятными последствиями. Реакцией на успехи евреев в борьбе за место под солнцем стали отчасти и репрессии 37-го года, и гонения на космополитов через несколько лет после окончания второй мировой войны, когда пострадали многие писатели и литературоведы. Попытки избавиться от конкурентов в литературе предпринимались и гораздо позже – с этой целью в 1958 году был создан Союз писателей РСФСР. Вот как формулировал задачи нового союза Леонид Соболев на ужине для особо приближённых, цитирую по книге советского эмигранта Леонида Финкельштейна (печатался под псевдонимом Владимиров) «Россия без прикрас и умолчаний»:
«Вы меня поймите прaвильно, товaрищи, я не aнтисемит, у меня мaссa друзей евреев, я зa то, чтобы евреи трудились во всех облaстях нaшей жизни нaряду с другими нaциями, но в литерaтуре, в великой русской литерaтуре, им делaть нечего».
Сразу оговорюсь, что всему написанному в книге Финкельштейна не стоит верить – эмоции и предубеждение не позволили автору судить более или менее объективно о том, что происходило в стране до его отъезда за границу. Вот и обвинения в адрес Льва Никулина, как мы уже убедились, основаны на слухах: «он оклеветaл и убил рукaми стaлинских пaлaчей не кого-нибудь, a крупнейшего писaтеля XX векa Исaaкa Бaбеля». Что же касается фразы, приписываемой Леониду Соболеву – такие высказывания приходится слышать до сих пор, касаются ли они литературы или же политики.
Досталось от Леонида Финкельштейна и Ивану Шевцову, автору скандального романа «Тля». А суть дела в том, что, по мнению Финкельштейна, «один из сaмых зловонных критиков-клеветников, критиков-доносителей времен Стaлинa» Дмитрий Еремин в одной из своих статей «возжелaл покaзaть, что Синявский двуличен: публиковaл зa грaницей обличительные произведения, a в своей стрaне, выступaя кaк литерaтурный критик, ополчaлся нa тех, кто "чернил советское общество"»:
«Еремин взял выдержку из громовой стaтьи Синявского в "Новом мире", где А. Синявский, действительно, нaпaдaет нa писaтеля Шевцовa зa искaженную кaртину современного русского обществa. Но дело-то в том, что Синявский в этой зaмечaтельной смелой стaтье подверг рaзгрому подлый и aнтисемитский ромaн Шевцовa "Тля", где aвтор утверждaл, что евреи "пролезли" нa руководящие роли в советской литерaтуре и искусстве. Против тaкого гнусного искaжения действительной кaртины и выступил Андрей Синявский, честь ему и слaвa. А Еремин, не нaзвaв стaтьи, вырезaл из нее кусочек, рaссчитывaя, что дурaк-читaтель не узнaет откудa это и поверит в двуличие Синявского».
Любопытства ради, встав в позу дурака, прочитал статью Синявского «Памфлет или пасквиль?» и вот что обнаружил:
«Автор настолько увлёкся и сгустил краски, что – по всей вероятности невольно, сам того не желая, – выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры. Уголовные типы, дельцы, прохвосты составляют в романе «Тля» мощную организацию, этакую всесильную мафию, гласно или негласно управляющую эстетической жизнью страны».
Самое интересное, что в статье нет ни единого слова о евреях. Синявский обвиняет Шевцова только в том, что он выступает против новаторских течений в литературе и искусстве, что своим романом он «проповедует невежество под видом реализма и смешивает с грязью художественную общественность». Как видим, кое в чём оказался прав Ерёмин – Синявский и в самом деле «ополчался» на очернителей. Однако Финкельштейн видит смысл статьи Синявского лишь в том, что он встал на защиту оклеветанных евреев.
Известно, что Шевцов не любил евреев и видел в них главную причину многих несчастий, обрушившихся на страну. Однако, если на минуту отвлечься от «национального вопроса», надо признать: он не был очень уж далёк от понимания того, что творилось в среде художественной интеллигенции и в несколько иных формах продолжается сейчас.
Однако вернёмся к «Ложке дёгтя» или к «соли в супе» – это как кому понравится. В цитированной мною статье Борис Парамонов утверждает: «нельзя говорить, что всякий еврей гениален, но в каждом гении есть что-то еврейское». Далее Парамонов ссылается на мнение Артура Кёстлера – британского писателя и журналиста, в молодости состоявшего в сионистской организации, а позже в коммунистической партии Германии. Так вот, Кёстлер ставит евреев перед альтернативой – либо полная ассимиляция, либо возвращение в Израиль. Но мнению Парамонова, всё куда сложнее:
«Еврей в диаспоре – загадка и тайна человечества. Если угодно, в истории есть только одна тайна, и эта тайна – еврей».
В обоснование своего тезиса он привлекает отрывок из письма Генрика Ибсена, известного норвежского драматурга:
«Взять, с другой стороны, иудейский народ, аристократов человечества. Благодаря чему он сохранил свою индивидуальность, свою поэзию, вопреки всякому насилию? Благодаря тому, что ему не приходилось возиться с государственностью. Оставайся он в Палестине, он давно бы погиб под тяжестью своего государственного строя, как и все другие народы».
Если принять за основу эту мысль Ибсена, приходим к следующему объяснению талантов иудейского народа: предприимчивость евреев, их стремление к творчеству не были ограничены сознанием того, что они обязаны соблюдать законы государства и неписаные нравственные нормы, что они должны, прежде всего, заботиться о своей стране. «Своей страны», как таковой, долгое время у евреев не было, а когда появилась, многих это не устроило, поскольку жизнь в такой стране сдерживала их творческий порыв.
Однако вернёмся к «Ложке дёгтя» и попытке Эренбурга отождествить литературу и «еврейство». В 1951 году, на излёте борьбы с космополитами в литературе о статье Эренбурга все уже забыли. Видимо, поэтому была предпринята нелепая попытка поставить знак неравенства между «еврейством» и литературой. Тогда на страницах «Комсомольской правды» и «Литературной газеты» развернулась дискуссия о псевдонимах. Прозаик Михаил Бубеннов, автор повести «Белая берёза» и лауреат Сталинской премии выступил с инициативой запретить писателям и журналистам использование псевдонимов:
«Почему мы ставим вопрос о том, нужны ли сейчас литературные псевдонимы? Не только потому, что эта литературная традиция, как и многие подобные ей, отжила свой век. В советских условиях она иногда наносит нам даже серьезный вред. Нередко за псевдонимами прячутся люди, которые антиобщественно смотрят на литературное дело и не хотят, чтобы народ знал их подлинные имена. Не секрет, что псевдонимами очень охотно пользовались космополиты в литературе».
Смысл предложения Бубеннова был предельно ясен – еврейская фамилия автора могла снизить интерес читателей к его произведениям в пользу творений «чисто» русских авторов. Эта идея вызвала возражения Константина Симонова, однако ответ его был довольно неуклюжим и малоубедительным, поскольку писатель не решился назвать вещи своими именами. Этим воспользовался Михаил Шолохов, поддержавший своего тёзку Бубеннова:
«С неоправданной резкостью обвиняя Бубеннова в бесцеремонности, крикливости, зазнайстве, развязности, нелепости и прочем, Симонов не видит всех этих качеств в своей собственной заметке, а качества эти прут у него из каждой строки и достаточно дурно пахнут… Окололитературные деляги и "жучки", легко меняющие в год по пять псевдонимов и с такой же поразительной легкостью, в случае неудачи, меняющие профессию литератора на профессию скорняка или часовых дел мастера, – наносят литературе огромный вред, развращая нашу здоровую молодежь, широким потоком вливающуюся в русло могучей советской литературы».
Как следует из воспоминаний Симонова, дискуссию прекратил сам Сталин, заявив, что не допустит проявлений антисемитизма в отношении писателей. Чудны дела твои! То ли Сталин в эти годы сильно сдал, то ли инициатором антиеврейских выступлений в период борьбы с космополитизмом был вовсе не он, а другие, вполне респектабельные люди, которые в тиши своих кабинетов строчили кляузы и доносы на евреев, пытаясь избавиться от успешных конкурентов. В те времена не удалось, ну а теперь о честной конкуренции, увы, даже не приходится мечтать. В отличие, например, от цивилизованной Европы у нас всё определяет «раскрученное» имя автора, а не достоинства его произведений.
Глава 13. Эрдман и всякая шваль
Жил-был поэт. С детского возраста писал стихи, в юности примыкал к имажинистам, сочинял тексты для артистических кабаре. По словам Юрия Любимова, даже Есенин признавал его талант: «Что я, вот Коля – это поэт». И вдруг этот Коля Эрдман написал сатирическую пьесу – всем известный «Мандат», постановка которого на сцене театра Мейерхольда имела успех просто оглушительный. О чём же эта пьеса?
До сих пор в статьях литературоведов можно встретить такие характеристики первой пьесы Эрдмана: «в целом "Мандат" был произведением советской сатиры, насыщенным веселым смехом победителей, перекликающимся с антимещанскими комедиями Владимира Маяковского». Или, например, такое толкование содержания и смысла: «герои пьесы разоблачают сами себя». Но прежде, чем делать самостоятельные выводы, попробуем освежить в памяти текст этой пьесы. Там есть очень примечательные диалоги:
– Да разве, мамаша, партийного человека в приданое давать можно?
– Если его с улицы брать, то, конечно, нельзя, а если своего, можно сказать, домашнего, то этого никто запретить не может.
Тут вроде бы нет ничего особенного, ну разве что сопоставление члена партии с приданым вызывает некоторое недоумение. Впрочем, при большом желании эту «несуразность» можно оправдать тем, что реплика принадлежит отрицательному персонажу.
Но вот уже в словах главного героя, Гулячкина, обнаруживаем намёк на реальные события постреволюционных лет: «потому, что за эти слова, мамаша, меня расстрелять могут». Если припомнить обстоятельства гибели поэта Николая Гумилёва, то эта реплика недалека от правды, хотя куда более актуальным станет её смысл в конце 30-х годов. Ну а в год смерти Ленина, когда Эрдман и писал эту свою пьесу, большевики решили заняться пополнением своих рядов. Брали тогда фактически без разбора – так оказался среди большевиков и недавний офицер Михаил Тухачевский, только что вернувшийся домой из германского плена и вроде бы воодушевлённый идеями большевиков. Вот и Гулячкин пожелал откликнуться на «ленинский призыв», однако его вдруг одолели сомнения:
– А вдруг, мамаша, меня не примут?
– Ну что ты, Павлуша, туда всякую шваль принимают.
Ну шваль, так шваль. В те годы в партии и впрямь оказалось множество случайных людей, поэтому вскоре и вошли в моду пресловутые «чистки». Закончив с «партийной швалью», посмотрим, как герои пьесы относятся к пролетариату:
– К нему, видите ли, сегодня из большевистской партии с визитом придут, а у него родственников из рабочего класса нету.
– Что же вы ими раньше не обзавелись, барышня?
– Раньше такие родственники в хозяйстве не требовались.
– Как же вы теперь, барышня, устроитесь?
– Надо каких-нибудь пролетариев напрокат взять, да только где их достанешь.
– Ну, такого добра достать нетрудно.
Ещё пара коротких, но выразительных фраз: «при новом режиме за приверженность к старому строю меня могут мучительской смерти предать», «вы вот обратили внимание, мадемуазель, что сделала советская власть с искусством?».
Здесь снова Эрдман предчувствует грядущие события. РАПП был создан на 1-й Всесоюзной конференции пролетарских писателей в 1925 году, тогда-то и начались гонения на писателей. Так что с первой пьесой Эрдману несомненно повезло – года через два ему досталось бы точно так же, как Булгакову за его «Дни Турбиных».
Ну и в завершение краткого разбора пьесы Эрдмана ещё одна цитата из финала, которую автор вложил в уста Гулячкина: «Я, может быть, председатель… домового комитета. Вождь!»
Тут любопытно следующее. У Эрдмана в качестве самопровозглашённого вождя выступил некто Гулячкин, ну а Булгаков в «Собачьем сердце», написанном примерно в то же время, представил нам реального председателя домкома – это всем известный Швондер. Неважно, кто у кого списал – от этих энергичных председателей пострадали многие. Здесь интереснее другое: Булгаков считает, что виноваты некие личности, попытавшиеся повернуть колесо истории, Эрдман же намекает на пагубную роль «всякой швали» и прочих пролетариев. Возможно, со временем писатели пришли к согласию, однако нет свидетельств, что эту тему они обсуждали.
Воодушевлённый восторженными отзывами и популярностью у публики, Эрдман решил развить успех. Через три года он предлагает театру новую свою пьесу, тоже сатирическую, с тем же подтекстом, но не столь смешную, а скорее с печальной интонацией. Уже название пьесы о многом говорит: «Самоубийца». Вот несколько впечатляющих отрывков:
– Вы это зачем же, молодой человек, такую порнографию делаете? Там женщина голову или даже еще чего хуже моет, а вы на нее в щель смотрите.
– Я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения смотрел, а в этой точке никакой порнографии быть не может.
Ну не даёт Эрдману покоя эта пресловутая «точка»! И снова:
– Что случилось?
– Егорка до точки дошел.
– Что ты, мамочка, до какой?
– До марксистской, Мария Лукьяновна…
Далее следует более рискованный пассаж:
– Я считаю, что будет прекрасно… если наше правительство протянет руки.
– Я считаю, что будет еще прекраснее, если наше правительство протянет ноги.
Ещё несколько фраз, но уже без комментариев:
«В смерти прошу никого не винить, кроме любимой советской власти».
«Я сейчас умираю. А кто виноват? Виноваты вожди, дорогие товарищи».
И вот уже главный герой чуть ли не в истерике. Поэтому и достаётся от него всем: и Марксу, и обитателям Кремля:
– Дайте Кремль. Вы не бойтесь, не бойтесь, давайте, барышня. Ктой-то? Кремль? Говорит Подсекальников. Под-се-каль-ни-ков. Индивидуум. Ин-ди-ви-ду-ум. Позовите кого-нибудь самого главного. Нет у вас? Ну, тогда передайте ему от меня, что я Маркса прочел и мне Маркс не понравился. Цыц! Не перебивайте меня. И потом передайте ему еще, что я их посылаю…
На что рассчитывал Эрдман? Что его пьесу встретят на «ура»? В какой-то степени он оказался прав – Мейерхольд со Станиславским готовы были текст пьесы друг у друга вырывать из рук, только бы не досталась конкуренту. Однако Мейерхольд не прочувствовал ситуации – когда спектакль показали на закрытом просмотре комиссии во главе с Лазарем Кагановичем, на дворе был 1932 год, уже свирепствовали и РАПП, и Главрепертком, предшественник Главлита. Поэтому такой же откровенно сатирический спектакль, как и его «Мандат», теперь никто не позволил бы поставить. Мейерхольд всё же попытался, но дело не пошло дальше этого просмотра.
Пьесу рассчитывал спасти Станиславский, затенив некоторые очень уж откровенно «антисоветские» места, но даже ему не удалось добиться разрешения начальства. Убийственным для пьесы стало мнение руководства Главреперткома:
«Пьеса полна двусмысленных ситуаций. Она как будто стремится дать сатиру на обывателей, мещан, внутри эмигрантствующих интеллигентов, но построена таким образом, что антисоветские сентенции и реплики, вложенные в уста отрицательных персонажей (а отрицательные персонажи все действующие лица), звучат развернутым идеологическим и политическим протестом субъективного индивидуализма и идеализма против коллектива, массы, пролетарской идеологии… Пьесу в ее нынешнем виде можно без единой помарки ставить на эмигрантских сценах. Ибо вместо осмеяний внутренней эмигрантщины и обывательщины она выражает, хотя и в завуалированной форме, эмигрантский протест против советской действительности».
Как ни прискорбно, но против этого трудно возразить – скрытый смысл пьесы был всем предельно ясен, только одним это нравилось, другие считали это неприемлемым.
Чего ему не хватало? Любимец женщин, баловень первого успеха, «мастер реплик и реприз» Николай Эрдман лез прямо на рожон, не понимая «сущности текущего момента». Видимо, была внутренняя потребность, он вдруг почувствовал, что его путь – это завуалированный протест против социалистической действительности. Но почему? С Булгаковым и его «Собачьим сердцем» всё более или менее ясно. Бывший офицер белой армии, хотя и в должности врача, он с сожалением расстался с прежними надеждами. Когда-то рассчитывал выйти в люди после женитьбы на дочери действительного статского советника, затем многое сулила романтическая связь с красавицей княгиней. Всё это минуло, а новая власть не сулила ничего, кроме бесплодного хождения по редакциям журналов и издательств, да забот о добывании средств на пропитание. Поэтому и выбрал себе профессию юмориста-обличителя, высмеивающего нравы современников. Впрочем, даже завуалированных выпадов против власти он никогда не допускал, и только в 1937 году как бы «прозрел» – тогда и написал окончательный вариант главы «Великий бал у сатаны» из своего знаменитого романа. Да и то ведь – так всё зашифровал, что потребовалось семьдесят лет, чтобы в этом разобраться.
Причину оппозиционных взглядов Эрдмана следует искать и в его окружении, и в родословной. В 1919 году имажинисты, к которым примыкал в ту пору Эрдман, потребовали «отделения государства от искусства». Идеолог этого направления Шершеневич в своей статье писал:
«Государству нужно для своих целей искусство совершенно определенного порядка, и оно поддерживает только то искусство, которое служит ему хорошей ширмой. Все остальные течения искусства затираются. Государству нужно не искусство исканий, а искусство пропаганды… Мы открыто кидаем свой лозунг: Долой государство! Да здравствует отделение государства от искусства!»
Надо полагать, что юный Эрдман вполне серьёзно воспринял эту декларацию и даже впоследствии попытался воплотить её в жизнь весьма своеобразным способом. Что же касается происхождения Николая Эрдмана, то нам об этом известно лишь немногое. Отец, Роберт Карлович – выходец из прибалтийских немцев, почётный гражданин города Москвы. Не исключено, что был торговцем – люди этой профессий имели право на такое звание. Эрдманы жили и в Петербурге – кто-то из них владел портняжной мастерской, кто-то кожевенной. Была там и более солидная фирма – «К. Эрдман», картонажи и футляры. Кто знает, может быть, эту фирму основал дед Николая Эрдмана. Пожалуй, можно утверждать, что Эрдманы жили в те времена совсем не бедно – все современники в один голос утверждали, что Николай Робертович всегда был одет с иголочки. Да он и сам закончил коммерческое училище, намереваясь стать торговцем. Да вот не повезло – после октября семнадцатого пришлось осваивать новую профессию, где вскоре его ожидал успех.
Кстати, хотелось бы разобраться, кому пьеса Эрдмана «Мандат» всё-таки понравилась, помимо Всеволода Мейерхольда и поклонников его таланта. Иосиф Прут в своих воспоминаниях писал о впечатлении, которое произвела читка пьесы в редакции «Крестьянской газеты»:
«Присутствовали: главный редактор Семен Урицкий, его зам. Николай Одоев (Тришин), Андрей Платонов, Михаил Шолохов и я. Успех – огромный. Полное благословение.
– Искренне, по-доброму завидую, – сказал Андрей Платонов.
– Да, сильная штука!– поддержал его Шолохов, в ту пору совсем молодой, начинающий писатель, но уже приступивший к работе над материалом о событиях недавнего прошлого на Дону».
Надо сказать, что кроме Прута никто ничего подобного об отношении двух этих писателей к пьесе Эрдмана не написал. Мне кажется, что тут мемуариста подвела память – не мог убеждённый коммунист Платонов хвалить в 1924 году пьесу, напичканную обидными для него словами. Неужто так и не понял её скрытый смысл? Однако похвалить из вежливости всё же можно – написано талантливо, это настоящая сатира! Такое же сдержанное отношение к пьесе могло быть и у Шолохова, но не более того.
Приходилось слышать, будто Булгакову пьеса «Самоубийца» решительно не нравилась. Судя по записям в дневнике Елены Сергеевны, знакомство Булгакова с Николаем Эрдманом состоялось лишь в тридцать седьмом году. Поэтому высказанное утверждение вполне правдоподобно, так же как и то, что Эрдман терпеть не мог мхатовский спектакль «Дни Турбиных». Булгакову в пьесе Эрдмана мог не понравиться её стиль – слишком уж откровенное издевательство то ли над обывателем, то ли над советской властью, а может быть, и над тем, и над другим. И в фельетонах Булгакова, и в пьесах, и в «Собачьем сердце» всё было сделано гораздо тоньше – примерно тот же подтекст, однако нет упоминания ни марксизма, ни большевиков.
Трудно поверить в то, что Сталин в пьесе Эрдмана ничего не понял. Но вот что записала вдова Булгакова в 1956 году:
«Вспоминала… рассказ Александра Николаевича Тихонова. Он раз поехал с Горьким (он при нем состоял) к Сталину хлопотать за эрдмановского «Самоубийцу». Сталин сказал Горькому:
– Да что! Я ничего против не имею. Вот – Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он рукой показал – и интонационно.) Это мне нравится!
Тихонов мне это рассказывал в Ташкенте в 1942 году».
Можно предположить, что и Елену Сергеевну изредка подводила память – слишком уж мягко выразился Сталин. Однако не исключено, что вождь в тот раз слукавил – уж очень не хотел спорить с Горьким по поводу этой «антисоветской» пьесы, хотя ему наверняка был уже известен разгромный отзыв Главреперткома. Однако в «Книге воспоминаний» Павла Маркова эта коллизия с письмом представлена несколько иначе:
«По поводу "Самоубийцы" Станиславский написал письмо Сталину и как-то показывал нам в театре ответ, написанный от руки на странице из блокнота. Точного текста я не помню, но смысл был приблизительно таков: "Уважаемый Константин Сергеевич! Я не принадлежу к числу поклонников пьесы "Самоубийца", но надеюсь, что Ваше мастерство и сила придадут eй то значение, которого я в ней не нахожу". Константин Сергеевич был очень воодушевлен этой перепиской».
Эти слова – «я не принадлежу к числу поклонников» – снова отдают лукавством. Вполне возможно, что Сталин не хотел давить на Станиславского – пусть себе ставит. Это если позволит Главрепертком.
Итак, до поры до времени никто не хотел называть Эрдмана противником советской власти. Вроде бы не вяжется такое определение с амплуа сатирика, задача которого в том, чтобы разоблачать негативные стороны нашей жизни. Только Ангелина Степанова, в разное время близкая подруга то Эрдмана, то Фадеева, уже гораздо позже высказалась предельно откровенно:
«Я любила двоих мужчин. Один из них ненавидел советскую власть, а другой ее искренне восхвалял. Но власть, в сущности, погубила обоих».
Эту ненависть Эрдман тщательно скрывал, поскольку откровенные высказывания были чреваты неприятностями. Поэт и драматург Анатолий Мариенгоф в своих воспоминаниях описывал такой эпизод, участниками которого были Николай Эрдман и Сергей Есенин:
– Ты, Николаша, приколоти к памятнику «Свобода», что перед Моссоветом, здоровенную доску – "Имажинисту Николаю Эрдману".
– Так ведь на памятнике женщина, в древнеримской рубахе, – задумчиво возразил Эрдман. – А я, как будто, мужчина в брюках. Да еще в зеркальных.
– Это совершенно неважно! – заметил Есенин не без резона. – Доска твоя все равно больше часа не провисит. А разговоров будет лет на пять. Только бы в Чекушку тебя за это не посадили.
– Вот то-то и оно! – почесал нашлепку на носу имажинист Эрдман. – Что-то не хочется мне в Чекушку. Уж лучше буду незнаменитым.
Как-то не верится, что Эрдман не хотел быть знаменитым. Похоже, он рассчитывал добиться славы, избежав претензий со стороны большевиков. Какое-то время ему это удавалось. Но в мае 1933 года над головой Эрдмана начали сгущаться тучи. Заведующий отделом культпросветработы ЦК ВКП(б) пишет докладную записку Сталину и Кагановичу по поводу выхода в свет по инициативе Горького альманаха «Год шестнадцатый»:
«Этот альманах следовало задержать. Не сделал я этого только потому, что он вышел как раз в день приезда Горького сюда, и это было бы для него весьма неприятным сюрпризом. В альманахе помещено "Заседание о смехе" Масса и Эрдмана, представляющее злобную издевку над нами. Надо добавить, что основой произведения Масса и Эрдмана является некий контрреволюционный анекдот. Такой же издевательский характер имеет и басня тех же авторов "Закон тяготения".