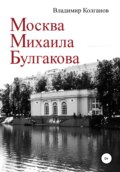Владимир Алексеевич Колганов
Писатели и стукачи
Спектакль готовился к двадцатилетию Октября и задумывался как высокая трагедия. Однако уже после второго просмотра спектакль был запрещён, а вслед за тем появилась та самая статья «Чужой театр», которая предшествовала решению о закрытии театра.
В книге Соломона Волкова «Свидетельство», написанной от лица Дмитрия Шостаковича, есть слова, дополняющие эту версию:
«Прямо перед тем, как Театр Мейерхольда был закрыт, на его спектакле побывал Каганович. Он был очень влиятелен: от его мнения зависело будущее как театра, так и самого Мейерхольда. Как и можно было ожидать, спектакль Кагановичу не понравился».
Видимо, Сталин послал Кагановича разобраться, после чего и была решена судьба театра. Но почему вождю этого показалось мало – зачем понадобился арест?
Режиссёр театра Мейерхольда Леонид Варпаховский считал, что во всём виноваты два письма Сталину, написанные женой Мейерхольда, Зинаидой Райх, втайне от своего мужа. Первое было написано весной 1937 года – это весьма сбивчивое изложение претензий к вождю и выражение надежды на то, что Сталин защитит Мейерхольда от нападок. Однако Варпаховский утверждал, что было ещё одно письмо, написанное примерно за месяц до ареста. И будто бы оно было оскорбительным для Сталина. Копия письма была изъята сотрудниками НКВД при обыске квартиры Мейерхольда, однако нет доказательств, что оно было отправлено.
Ещё одну версию изложил ближайший сотрудник Мейерхольда и его биограф Александр Гладков в своих воспоминаниях о событиях 1936 года:
«На спектакль "Дама с камелиями" трижды, почти подряд, приезжал один высокопоставленный товарищ из числа ближайших личных сотрудников Сталина. Однажды он зашел к З.Н. Райх или как-то передал ей (сейчас я уже не помню), что он очень сожалеет, что в помещении на улице Горького, 5, где тогда помещался ГосТИМ, нет правительственной ложи и поэтому Сталин не может приехать на спектакль, а то, он уверен, спектакль несомненно понравился бы ему, а это имело бы большие последствия для театра и самого Мейерхольда. Он добавил, что не исключена возможность специального приема Мейерхольда Сталиным, с тем, чтобы В. Э. высказал ему свои пожелания».
По словам Гладкова, Мейерхольд не смог самостоятельно принять решение и обратился за советом к друзьям. Гладков и Зинаида Райх предлагали согласиться на встречу, а вот Борис Пастернак категорически возражал:
«Он советовал не искать встречи со Сталиным, потому что ничего хорошего из этого все равно получиться не может. Он рассказал о печальном опыте своего телефонного разговора со Сталиным после ареста поэта О. Э. Мандельштама, когда Сталин, не дослушав его, повесил трубку. Он пылко доказывал В. Э., что недостойно его, Мейерхольда, являться к Сталину просителем, а в ином положении он сейчас быть не может, что такие люди, как Сталин и Мейерхольд, должны или говорить на равных, или совсем не встречаться… Когда, через много лет, я напомнил Б. Л. об этом разговоре, он застонал, как от внезапного приступа зубной боли, и стал обвинять себя в наивности и прекраснодушии».
Сама по себе встреча не могла Мейерхольду повредить, если бы он искренне признался в заблуждениях и убедил вождя в своей лояльности. Способен ли был Мейерхольд на это? Судя по текстам его выступлений на совещаниях работников театра, в оправдание своей позиции он произносил немало слов, однако его аргументы не могли убедить ни коллег, ни тем более вождя. Так что прав был Пастернак – встреча со Сталиным не помогла бы Мейерхольду. Однако и отказ от неё не мог ему повредить, поскольку официального приглашения к Сталину всё же не было.
Весьма несерьёзную, надуманную версию изложил на совещании в Союзе писателей в 1956 году Александр Фадеев:
«Я хорошо проинформирован и хорошо знаю, как произошло закрытие театров Мейерхольда и Таирова. Театр Мейерхольда был закрыт потому, что на него было два показания, что сам Мейерхольд является французским шпионом».
Столь же абсурдно и утверждение дочери Мейерхольда. По словам одного из учеников Мейерхольда, Сергея Паршина, Ирина Всеволодовна в аресте отца винила его недоброжелателей из театральной среды:
«Она как-то назвала имя человека, который написал донос. Это выдающийся артист Москвин».
О чём мог сообщить «органам» выдающийся артист, историкам осталось неизвестно. Не исключено, что Мейерхольд, а вслед за ним и дочь, испытывали неприязнь к Ивану Москвину – ещё в 1898 году при постановке спектакля «Царь Фёдор Иоаннович» Немирович отдал роль Шуйского Ивану Москвину, хотя она обещана была Мейерхольду. Вполне возможно, что Москвин своим исполнением этой роли загубил Мейерхольду актёрскую карьеру.
Если отвлечься от конкретных обстоятельств, то одна из причин трагической судьбы Всеволода Мейерхольда заключена была в его характере. Вот мнение режиссёра Михаила Левитина:
«Мейерхольд в своей жизни так много играл со всеми – и всех переигрывал. Возможно, уверившись в себе, он решил поиграть и со смертью?».
Похоже, что излишняя самоуверенность, вера в своё интеллектуальное превосходство над другими людьми помешали ему вовремя почувствовать, что заигрался.
Оказавшись в тюрьме НКВД, Мейерхольд понял, что жизнь устроена не так, как он воспринимал её, глядя на игру актёров своего театра. В жалобе на имя прокурора и в письме Молотову он описал жуткие пытки, которым подвергался после ареста. Трудно понять, зачем такие методы воздействия применялись к больному старику. Не та это фигура, чтобы выбивать из неё показания. Одно дело командарм или ответственный партийный работник, обвиняемый в подготовке к свержению советской власти, а тут какой-то театральный режиссёр. Проще всего предположить, что следователи перестарались. Неужели так трудно было убедить арестанта в том, что он японский шпион? Вот и Тухачевский признал существование заговора уже на следующий день после того, как оказался на Лубянке.
Видимо, Мейерхольд поначалу упирался, ну а затем стал оговаривать всех подряд. В этом списке были не только те, на кого следователи указали арестанту. Приведу лишь некоторые, наиболее известные фамилии: Юрий Олеша, Михаил Ромм, Борис Пастернак, Николай Эрдман, Илья Эренбург, Алексей Дикий, Дмитрий Шостакович, Сергей Эйзенштейн, Константин Федин, Лидия Сейфуллина… Цвет советского искусства, и многих из них Мейерхольд назвал заговорщиками, членами террористической троцкистской организации.
Тут не совсем понятно вот что. Если целью следователей было раскрытие заговора среди театральной общественности, то почему полученные признания так и не вошли в обвинительное заключение? Скорее всего, в НКВД накапливали обличительные материалы на тот случай, если придёт команда «сверху» арестовать того или иного человека из списка Мейерхольда.
Можно предположить, что по совету или под давлением следователей оговаривая своих коллег, Мейерхольд пытался купить себе свободу. Ну а когда понял, что всё равно будет осуждён, отказался от прежних показаний и стал писать жалобы в высшие инстанции. Отчасти этим можно объяснить суровый приговор: оставлять в живых такого «жалобщика» не стоило – потом хлопот не оберёшься.
Но главная причина, как мне кажется, в другом. Сталин наконец-то понял, что Мейерхольд – это закоренелый враг. Враг, который водил его за нос, маскировался, прикрываясь большевистской фразеологией. А вождь обмана не прощал. После жестокого разочарования в Тухачевском любое сомнение в человеке он толковал однозначно, отдавая приказ о его аресте.
Что касается обвинения Мейерхольда в шпионаже, тут всё предельно просто. Своих симпатий к Троцкому вплоть до его опалы Мейерхольд не скрывал. Если бы его обвинили лишь в «троцкизме», мог возникнуть вопрос, почему великий вождь позволял руководить театром, расположенным в нескольких сотнях метров от Кремля, стороннику врага советской власти? А вот если Мейерхольд работал на иностранную разведку, тогда всё без вопросов. На то он и шпион, чтобы уметь скрывать своё настоящее лицо. Ну а суровый приговор подводил жирную черту под сомнениями и делал излишними неудобные вопросы.
Конечно, оговор под нажимом следователя никому не придёт в голову назвать доносом. Мейерхольд был не последним, кто вынужден был оговаривать себя и других. И всё же есть свидетельства того, что он писал доносы ещё в ту пору, когда находился на свободе. Леонид Варпаховский, режиссёр, работавший в театре Мейерхольда, как-то в разговоре признал: после ареста первое, что показал следователь, был донос, написанный Мейерхольдом. О том же рассказывала дочь Варпаховского в интервью с Дмитрием Быковым – речь о конфликте её отца с Мейерхольдом:
«Анна Варпаховская: Он даже написал донос на отца в органы НКВД.
Дмитрий Быков: В это верю с трудом.
Анна Варпаховская: Он существует. Отец на него наткнулся, вернувшись с Колымы. В 60-е годы он нашёл это письмо. Это был запрос НКВД по поводу папы. Он там пишет, что Варпаховский – это элемент крайне нежелательный в системе нашей, что к нему нужно относиться с большой осторожностью».
На самом деле запрос пришёл из военкомата. Мейерхольда попросили дать на Леонида Варпаховского «подробную политическую характеристику с указанием в ней социально-политических, производственных и личных качеств». Вполне логично предположить, что истинные авторы этой просьбы сидели на Лубянке, однако формально они тут ни при чём. Видимо, было опасение, что в ответе на запрос из НКВД Мейерхольд будет осторожен, ну а в какой-то там военкомат напишет всё, что думает, не сдерживая своих эмоций. Так и получилось, в чём можно убедиться из отрывков письма, которое Мейерхольд направил в Краснопресненский военкомат:
«Варпаховский мыслил себе организовать научно-исследовательскую лабораторию не столько в интересах театральной культуры Союза, сколько в интересах личных: собирая материал, присутствуя на репетициях, добывая материал из стенограмм выступлений Мастера – Варпаховский замышлял выпускать большое количество рукописей, которые можно было бы печатать за соответствующий гонорар и в ВТО и в ГИХЛ’е. Эта тенденция Варпаховского была своевременно вскрыта и за его работами было организовано наблюдение».
Здесь ещё нет никакого компромата, но обращает на себя внимание почти профессиональный подход, который выразился в том, что организовали наблюдение.
«В отношении расходования средств, ассигнованных Наркомпросом на научноисследовательскую лабораторию Варпаховским была допущена небрежность. Заказывали аппараты без предварительного представления проектов и моделей и без предварительного утверждения смет. Действия Варпаховскиго заставили художественного руководителя написать ему письмо, копия которого представляется при этом».
А тут уже присутствует намёк на некоторые злоупотребления. Но дальше – больше:
«Потом он пытается улизнуть от новых своих обязательств: он пытается, засекретив свое обращение, вырвать у Наркомпроса разрешение на организацию Лаборатории вне ГОСТИМ’а (без контроля со стороны партийцев, следовательно?). Это вынудило Директора Лаборатории поставить вопрос перед Варпаховским о его карьеризме и его антисоветских методах работы».
«Антисоветские методы» – это уже кое-что. Наверное, так подумали в НКВД. И наконец, самое главное в характеристике – выводы:
«Какие бы не выставлял Варпаховский доводы в своё оправдание – Директор Лаборатории (Вс. Мейерхольд) и Директор ГОСТИМ’а (он же) глубоко убежден в том, что в лице Варпаховского мы имеем тип чуждый нам, с которым надо быть весьма и весьма осторожным».
Помимо Мейерхольда, письмо подписали парторг театра и председатель местного комитета профсоюза. Это было в ноябре 1935 года, а через два месяца Варпаховского арестовали. На первый раз суд ограничился ссылкой в Алма-Ату, потом последовал ещё один арест, однако тут Мейерхольд был уже «не при делах».
Видимо, объяснение этому «доносу» следует искать в характере Мейерхольда. Об этом пишет в своих воспоминаниях Александр Гладков:
«Самой странной для меня чертой в Мейерхольде была его подозрительность, временами казавшаяся маниакальной. Он постоянно видел вокруг себя готовящиеся подвохи, заговоры, предательство, интриги, преувеличивал сплоченность и организованность своих действительных врагов, выдумывал мнимых врагов и парировал в своем воображении их им же сочиненные козни».
Эта характеристика относится к 1930-м годам, однако бдительность Мейерхольд проявлял гораздо раньше. Вот фрагмент из письма руководителя ТЕО В.Э. Мейерхольда, направленного осенью 1920 года начальнику Главполитвод, главного политуправления на водном транспорте:
«Вследствие того, что в среде служащих ТЕО есть явно саботажнический элемент и лица, мало симпатизирующие проведению коммунистической идеологии в вверенном мне учреждении, я ходатайствую о временном прикомандировании к ТЕО восьми человек политработников из числа красных моряков в мое распоряжение».
Какие политработники из братишек-моряков – это для меня загадка. Скорее уж, одним своим видом они должны были навести страх на машинисток и письмоводителей ТЕО.
Известна ещё одна странная история, связанная с Мейерхольдом. Поздней весной 1919 года он отправился в Крым. Единственная причина поездки якобы заключалась в том, что у него обострился туберкулёз плеча, и вот по рекомендации врачей следовало подлечиться в санатории Красного Креста на территории Крымской советской республики. Но дело в том, что эта республика фактически просуществовала немногим более полутора месяцев, и трудно поверить, что Мейерхольд предпринял длительное и рискованное путешествие через воюющую страну только для того, чтобы подлечить плечо. В середине мая он ещё в Москве, выбивает в Наркомпросе средства для петроградских театров. Вероятно, там он и получил разрешение на поездку в Крым. Затем добирается до Ялты, а уже в июне, вроде бы спасаясь от белых, захвативших Крымский полуостров, Мейерхольд на рыбачьей лодке переправляется в Новороссийск. Надо учесть, что к этому времени Мейерхольд уже успел поставить «Мистерию-буфф» и имел репутацию убеждённого большевика.
Однако в этой истории всё ещё много неясного. Скажем, в программе Ивана Толстого на «Радио Свобода» события излагаются несколько иначе:
«Спасаясь от голода и разрухи, летом 1919 года Мейерхольд выписал себе командировку по делам ТЕО и уехал в Крым с женой и тремя дочерьми, а затем перебрался под Новороссийск, бывший тогда административным центром Белого движения и местопребыванием штаба Добровольческой Армии. Творческая интеллигенция, искавшая убежища от большевиков на Юге, отнеслась к красному Мейерхольду недоброжелательно».
Есть несколько уточнённая версия, согласно которой старшая дочь Мейерхольда еще в 1914 году перебралась в Новороссийск, позже звала родителей и остальных сестер к себе на сытные харчи. Когда в столице стало совсем голодно, Мейерхольд отправил жену и двух младших дочерей в Новороссийск, однако вскоре его заняли деникинцы. К своей семье Мейерхольд будто бы и намеревался пробраться через Крым. Дальнейшее описано в воспоминаниях Александра Гладкова:
«Аресту Мейерхольда в Новороссийске тоже предшествовала травля его столичной интеллигенцией, скопившейся на юге, будущими эмигрантами. Собственно, с их-то стороны и последовал донос на В. Э., который привел его в тюрьму».
К счастью, белые не решились расстрелять известного в прошлом актёра и режиссёра, а вскоре в город вошли красные.
Примерно в это же время в Новороссийске оказался и Булгаков. Если бы не заболел тифом, возможно, сел бы на корабль и прямиком отправился в Турцию – оттуда недалеко и до Европы. А что если у Мейерхольда появилось аналогичное желание? Но это вряд ли, поскольку с клеймом пособника большевиков он не рискнул бы совершить вояж в Париж и выйти на театральные подмостки. Скорее всего, поездка в Новороссийск стала бегством от голода, ну а ставить пьесы можно и в провинциальном театре. А впрочем, кто знает – возможно, оказавшись в Париже, Мейерхольд сумел бы доказать, что вся его революционная деятельность была всего лишь клоунадой.
Глава 11. Коваленков против Мандельштама
Весной 1951 года поэт-песенник Александр Коваленков написал покаянное письмо вождю:
«Дорогой товарищ Сталин! В статье "Неудачная опера", опубликованной в газете "Правда" от 19 апреля сего года, подвергается справедливой, всесторонне-обоснованной критике либретто оперы "От всего сердца". Являясь одним из авторов этого либретто и сознавая всю свою ответственность за плохие результаты недостаточно серьезной работы над созданием литературного текста оперы, я посылаю Вам, товарищ Сталин, это письмо и книгу стихов "Лирика"».
Далее автор письма попытался оправдаться, ссылаясь на то, что газета «Правда» приписала ему авторство чужих стихов, наряду с теми, в которых Коваленков искренне раскаивается – это не считая либретто всё для той же оперы. А тут ещё одна накладка – стихотворение «Слово о Великом Человеке», написанное ко дню семидесятилетия Сталина, было опубликовано через полгода после юбилея. Однако Коваленков ясно дал понять, что тут исключительно вина издательства.
Как ни странно, арестовали провинившегося поэта лишь через два года, на следующий день после смерти Сталина – видимо, карательные органы с опозданием сработали. Сразу после ареста поползли слухи о том, что поэт был агентом иностранных разведок. К подобным обвинениям уже привыкли, но возвращение Коваленкова домой всего-то через месяц – это было что-то совершенно нереальное.
Однако речь тут не о стихах Коваленкова и не о доносе на него, автор которого остался неизвестен. Вот какие строки посвятил ему поэт и переводчик Владимир Туркин:
Отходил по земле Коваленков,
Отгорел одиноким огнем.
Не осталось о нем киноленты,
Мемуаров не пишут о нем.
Человек бескорыстного долга, –
И не знаю я, как для кого, –
Для меня будет памятным долго
Иронический голос его.
Он носил в себе тайну – обиду,
Но с подчеркнуто гордой судьбой
Никому этой тайны не выдал,
А пронес до могилы с собой.
Так в чём же заключалась эта тайна? Возможно, ответ найдём в воспоминаниях выпускника Литинститута, израильского писателя Давида Маркиша:
«Жизнь Коваленкова сложилась удивительным образом: на склоне лет он пришел к выводу, что муравьи прилетели к нам с другой планеты, что они – истинные носители разума и знаний; он и книгу об этом написал. Партийные идеологи были неприятно удивлены аполитичностью взглядов известного литератора: на территории СССР даже птицам небесным должно было быть ясно, что единственным носителем разума и мирового прогресса является советский человек, а никакой не муравей. И обстоятельные разъяснения Коваленкова воспринимались слушателями недоверчиво, а то и с опаской. Дискуссия затягивалась, каждая из двух сторон стояла на своем; компромисс, действительно, тут был невозможен. Закончилось всё этот так, как и должно было закончиться: Коваленков умер, совершенно уверенный в своей правоте».
Не сомневался Коваленков и в том, что пишет очень хорошие стихи, однако и тут его ждало разочарование. В 1932 году стихотворный сборник под названием «Зелёный берег» был отдан на рецензию Осипу Мандельштаму. И вот какой отзыв маститый поэт написал в издательство:
«Несомненное лирическое дарование Коваленкова глохнет от засилия литературщины, то есть "условно-молодежного" лирического жанра. Поэт очень плохо слышит себя самого, но зато буквально оглушен ученической газетно-журнальной лирикой. Любопытно, что его нельзя назвать ни учеником Пастернака, ни Гумилева, ни Асеева, ни даже Багрицкого: он ученик их безответственных оборотней, тех профессиональных путаников и поставщиков неопределенной, подлаживающейся, уродливой сдельщины».
Несмотря на имеющиеся в стихах Коваленкова «начатки подлинной молодой советской лирики», Мандельштам предложил категорически отвергнуть этот сборник, дать автору «хорошего консультанта» и перенести издание на год вперёд.
Даже для начинающего поэта предложение приставить к нему консультанта было непереносимым унижением. Будь он физиком или математиком, не посмел бы отказаться, однако стихи возникают в глубине души! Так можно ли позволять кому-то в ней копаться? Понятно, что Коваленков затаил обиду.
Ответа ждать пришлось довольно долго. Уже скончался в лагерном пересыльном пункте Осип Мандельштам, уже закончилась война, и только в 1957 году в журнале «Знамя» появилась статья Коваленкова под названием «Письмо старому другу». Вот фрагмент из этой статьи:
«Мне довелось неоднократно встречаться с Мандельштамом. Он рецензировал мою первую книгу. Запомнились не только его желчные вздохи о невозможности реставрировать на буржуазный лад принципы античного искусства: "Греки сбондили Елену по волнам, ну, а мне соленой пеной по губам…" – но и попытки найти контакт с современностью, эстетизировать то, что для нас было самой жизнью, а для него – объектом для самонаблюдения…»
Здесь, по большому счёту, ничего особенного – любой литератор имеет право высказаться о творчестве покойного поэта, даже может дать политическую оценку его произведениям. Однако, по мнению вдовы Мандельштама, некоторые фразы в статье можно было квалифицировать как призыв к избиению поэта. Вот что написал Александр Коваленков:
«Мандельштам был одним из крупнейших представителей этого направления. Предметность, отточенность его стихов была соблазнительным противодействием абстрактному пафосу, которым грешили многие поэты тех лет. Но за каждой строкой этого оказавшего настолько заметное влияние на литературные течения начала тридцатых годов поэта, что даже появился термин "мандельштамп", стоял призрак буржуазной цивилизации Запада. Сергей Есенин однажды даже пытался бить Мандельштама. И было за что. Ведь это он написал…»
Далее была приведена слегка искажённая цитата из стихотворения Мандельштама, написанного в 1931 году и посвящённого ностальгическим воспоминаниям о старом Петербурге, о Париже, об Испании. Отношение Коваленкова к этим стихам понятно: как можно было не упомянуть в них, хотя бы мимоходом, советскую власть и руководящую роль КПСС?
Вдова Мандельштама была возмущена содержанием статьи. Это был трудный год для Надежды Яковлевны – пришлось решать квартирные дела. Речь шла о новом жилье, где бы она могла спокойно жить вместе с Анной Ахматовой, со своей подругой, причём поэтесса не должна была потерять свою квартиру в Ленинграде. В дело были вовлечены и Союз писателей, и даже Совмин РСФСР. Так что статья, унижающая достоинство Осипа Мандельштама, была совсем некстати. Пришлось написать жалобу в Союз писателей СССР:
«Некий Коваленков в № 7 журнала "Знамя" позволил себе непристойный выпад против покойного О. Мандельштама. Коваленков пишет: "Есенин пытался даже бить Мандельштама – и было за что". Далее Коваленков приводит искаженную цитату из стихотворения О. Мандельштама, написанного в 1931 г., считая, что этим он разоблачает буржуазный характер поэзии Мандельштама и тем самым обосновывает свой призыв к кулачной расправе. Этот призыв достаточно характеризует автора статьи, судя по статье, оскорбленного лет тридцать назад отрицательной рецензией Мандельштама на его книгу».
Как видим, месть Коваленкова достигла цели. Оказывается, отомстить можно и покойнику. Вряд ли он перевернётся от этого в гробу, однако важно заявить городу и миру, что поэт поэту обиды не прощает. Надежда Яковлевна была так расстроена журнальной статьёй, что потребовала снять с должности ответственного редактора этого издания, который «пропагандирует насилие и хулиганство как методы литературной борьбы», и в дополнение к этому предложила обсудить вопрос об исключении Коваленкова из Союза писателей. В опровержение злостной клеветы было заявлено:
«Прибавлю, что за всю мою жизнь с Мандельштамом (с 1921 по 1938 г.) никаких столкновений между Мандельштамом и Есениным не было, тем более что Мандельштам не посещал кабаков, где литературные споры могут принимать формы, рекомендуемые журналом "Знамя"».
Судя по всему, это конфликт замяли. К счастью, времена были уже не те, чтобы наказывать всего лишь за искажение цитаты. Что же касается попытки Есенина отметелить Мандельштама, то в этой истории стоит разобраться.
Кое-что поможет прояснить отрывок из книги Станислава Куняева «Сергей Есенин»:
«К Мандельштаму он относился, как к человеку чуждой литературной группы, и свое превосходство над ним всякий раз спешил продемонстрировать при немногочисленных личных встречах. Он мог, увидев Мандельштама за столиком какого-либо литературного кафе, подойти к нему и со спокойной ухмылкой произнести:
– А вы, Осип Эмильевич, пишете пла-а-а-хие стихи!
В другой раз, проходя мимо, мог издевательски бросить через плечо:
– Вы плохой поэт! Вы плохо владеете формой! У вас глагольные рифмы!
И прежде чем покрасневший от гнева Мандельштам успевал что-либо ответить, Есенин уже исчезал. Он любил подобным образом задирать поэтов, но делал это, поистине "резвяся и играя", не придавая в иных случаях своим репликам серьезного значения. В другой раз мог сказать: "Если судить по большому счету – чьи стихи действительно прекрасны, так это стихи Мандельштама. А то… То было как бы в сшибке поэтических школ…"»
Конечно, дружбой это не назовёшь, но и вражды на самом деле не было, то есть вряд ли у Есенина могла появиться серьёзная причина, что мутузить Мандельштама. Скорее уж разгневанный есенинской насмешкой Осип мог отомстить Сергею.
Но вот ещё один факт, опровергающий клевету Коваленкова на Мандельштама. Прочитав статью Коваленкова в журнале, Надежда Мандельштам писала Анне Ахматовой:
«Отношения были странные, но дружественные. Осмеркину Есенин говорил, что он "этого жида любит"; встретили мы его чуть ли не накануне самоубийства, он звал в трактир, и Ося долго каялся, что не пошел…»
По-видимому, Мандельштам и впрямь не любил ходить по кабакам, ограничиваясь посещением более приличных заведений вроде литературно-артистического кабаре «Бродячая собака». Однако следует признать, что это вовсе не исключает возможности пьяной ссоры. Ни что человеческое не чуждо было молодым поэтам. В автобиографическом очерке «Люди и положения» Борис Пастернак так вспоминал о своих взаимоотношениях с коллегами по перу в годы, предшествовавшие первой мировой войне:
«Хотя с Маяковским мы были на "вы", а с Есениным на "ты", мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние».
Станислав Куняев в своей книге пишет, что Есенин стихов Пастернака «на дух не выносил». Поэтому разговор на повышенных тонах нередко завершался дракой: «Пикировка закончилась рукопашной схваткой, и драка эта между поэтами была отнюдь не последней, причем Пастернак в подобных ситуациях был далек от «джентльменства», подчас атакуя Есенина в компании трех-четырех человек». О том же вспоминала и дочь главного редактора журнала «Красная новь» Александра Константиновича Воронского:
«Знаю историю о том, как Есенин и Пастернак подрались в кабинете у А. К. в редакции «Красной нови». А. К. бросился их разнимать, что было, вероятно, не очень эффективно, так как роста А. К. был небольшого, ниже среднего».
Рассказ о ещё более странной истории приписывают поэту Всеволоду Рождественскому. Будто бы он видел, как Пастернак и ещё двое, один их которых был Осип Мандельштам, избивали Есенина. Случилось это незадолго до самоубийства поэта. Верится с трудом, однако эта история не противоречит признаниям Бориса Пастернака. Если и впрямь Осип Эмильевич избивал Есенина, то будет вполне логичным допустить, что и Есенин мог хотя бы попытаться ударить Мандельштама – об этом и писал Коваленков в той статье, которая вызвала возмущение вдовы знаменитого поэта.
Что ж, остаётся подвести итог противостоянию Коваленкова и Мандельштама. Отвергнув ничем не обоснованную гипотезу о разумных муравьях, вынужден признать, что в своей статье о Мандельштаме Коваленков оказался недалёк от истины.