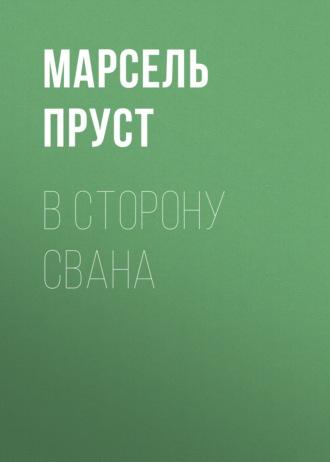
Марсель Пруст
В сторону Свана
– Ему стоило только быть любезным, и он находился бы еще здесь; хороший урок может быть полезным в любом возрасте.
Однажды, выйдя после завтрака сделать визит какому-то своему знакомому и не застав его дома, Сван, никогда не бывавший у Одетты в этот час, вздумал навестить ее, зная, что она всегда проводит это время дома, отдыхая после завтрака или занимаясь писанием писем в ожидании чая; ему очень хотелось на минутку повидать ее, если это ее не побеспокоит. Швейцар сказал ему, что она, вероятно, дома; он позвонил, ему показалось, что он услышал шум, услышал шаги, но ему не открыли. Расстроенный, раздраженный, он отправился на уличку, куда выходил другой фасад дома, и стал под окном спальни Одетты; занавески мешали ему что-либо разглядеть; он громко постучал в окно, стал кричать; никто не открыл ему. Он увидел, что начинает привлекать к себе внимание соседей, и ушел, думая, что, в конце концов, он, может быть, ошибся, когда ему послышался шум шагов; но подозрения до такой степени заполнили его мысли, что он не мог думать ни о чем другом. Через час он возвратился к ней. Он застал ее дома; она сказала ему, что была у себя, когда он звонил, но спала; колокольчик разбудил ее, она догадалась, что это был Сван, побежала встретить его, но он уже ушел. Она, конечно, слышала стук в окно. Сван сразу обнаружил в этом рассказе обрывки подлинного факта, которыми утешаются захваченные врасплох лжецы, вводя их в состав выдуманного ими ложного факта, в уверенности, что они без затруднения могут быть включены туда и сообщить всему их рассказу правдоподобность. Конечно, когда Одетта совершала поступок, которого она не хотела открывать, она всячески старалась поглубже затаить его в себе. Но едва только она оказывалась в присутствии того, кому она хотела солгать, так тотчас ее охватывало беспокойство, все мысли ее путались, всякая изобретательность и сообразительность бывала парализована, она находила у себя в голове одну только пустоту; между тем нужно было что-то сказать, и в пределах ее достижения оказывался как раз тот факт, что она хотела скрыть и который, будучи истинным, один только оставался в ее распоряжении. Она отрывала от него небольшой кусочек, сам по себе не имевший никакого значения, говоря себе, что, в конце концов, это наилучший выход, так как рассказанная ею подробность – подлинная и, следовательно, таит в себе меньше опасностей, чем подробность ложная. «Это, по крайней мере, правда, – говорила она себе, – правда всегда лучше; он может собрать справки, и убедится, что это правда; эта подробность, во всяком случае, меня не выдаст». Она ошибалась; эта подробность выдавала ее; она не отдавала себе отчета, что у этой подлинной подробности были углы, которые умещались только в смежные куски подлинного факта, откуда она произвольно вырвала ее, – углы, которые, каковы бы ни были вымышленные подробности, среди коих она помещала ее, всегда способны были выдать своими торчащими концами и незаполненными пустотами, что настоящее место этой подлинной подробности было отнюдь не среди них. «Она признаётся, что слышала мой звонок, затем стук, и угадала, что это я; она желала видеть меня, – говорил себе Сван. – Но все это не вяжется с тем фактом, что она меня не впустила».
Он, однако, не привлек ее внимания к этому противоречию, ибо думал, что, предоставленная себе самой, Одетта выскажет, может быть, какую-нибудь ложь, которая послужит ему слабой уликой истины; она говорила, – он не перебивал ее, жадно и благоговейно собирал эти терзавшие его слова, все время лившиеся из ее уст, чувствуя (и правильно чувствуя, ибо, говоря ему их, она все время прятала за ними истину), что, подобно завесе перед святилищем, они хранят смутный отпечаток, намечают неясные очертания этой бесконечно драгоценной и, увы, не поддающейся открытию истины: того, что она делала сегодня, в три часа, когда он пытался проникнуть к ней, – истины, от которой он никогда не будет владеть ничем, кроме этих лживых, неразборчивых и божественных следов, и которая не существовала больше нигде, кроме скрытной памяти этого существа, созерцавшего ее в совершеннейшем неведении ее ценности, но ни за что бы не согласившегося открыть ее ему. Конечно, временами он сильно сомневался, чтобы повседневные занятия Одетты способны были возбудить сами по себе особенно жгучий интерес и чтобы отношения, которые она могла иметь с другими мужчинами, излучали – естественно, постоянно и обязательно для всякого мыслящего существа – болезненную печаль, способную довести до лихорадочного бреда о самоубийстве. В такие минуты он отдавал себе отчет, что этот интерес, эта печаль существовали только в нем, подобно болезни, и что когда болезнь эта будет вылечена, то поступки Одетты, поцелуи, даримые ею, снова станут такими же безобидными, как поцелуи стольких других женщин. Но сознание, что источник мучительного любопытства, с каким он относился теперь к ним, заключается только в нем самом, было недостаточно для того, чтобы заставить его признать неразумными отношение к этому любопытству, как к вещи важной, и затрату огромных усилий для его удовлетворения. Дело в том, что Сван приближался к тому возрасту, философия которого – подкрепляемая философией эпохи, а также среды, окружавшей Свана в течение большей части его жизни, круга лиц, группировавшихся вокруг принцессы де Лом, где считалось установленным, что человек тем умнее, чем больше он сомневается во всем, и где неоспоримой реальностью признавались только вкусы каждого, – являлась уже не философией юноши, но философией позитивной, почти медицинской, свойственной людям, которые, вместо вынесения наружу предметов своих стремлений, пытаются выделить из уже прожитых ими годов некоторый отстоявшийся осадок привычек и страстей, рассматривают их как характерные и неизменные свойства своей личности и прилагают самые решительные усилия к тому, чтобы избранный ими род жизни мог прежде всего принести им удовлетворение. Сван находил благоразумным считаться в своей жизни с муками, причинявшимися ему незнанием того, что делала Одетта, совершенно так же, как он относился внимательно к обострению своей экземы, вызывавшемуся влажным климатом; находил благоразумным предусматривать в своем бюджете расходование значительной суммы на получение сведений относительно времяпрепровождения Одетты, без каковых он чувствовал бы себя несчастным, совершенно так же, как он оставлял ее на другие свои прихоти, удовлетворение которых, он знал, может доставить ему удовольствие – по крайней мере, в то время, когда он еще не был влюблен, – например, на коллекционирование или на хорошую кухню.
Когда он хотел проститься с Одеттой и ехать домой, она стала упрашивать его посидеть еще немного и даже удержала Свана силой, схватив его за руку в тот момент, как он собирался открыть дверь и выйти. Но он не придал этому значения, ибо неизбежно бывает так, что из множества жестов, реплик и других мелочей, наполняющих разговор, мы оставляем без внимания (не замечая в них ничего такого, на чем стоило бы останавливаться) те, что скрывают в себе истину, ощупью разыскиваемую нашими подозрениями, и останавливаемся, напротив, на таких, которые не таят в себе ровно ничего. Она все время повторяла ему: «Какая жалость, ты никогда не приходишь ко мне днем, и единственный раз, когда это случилось, я не увидела тебя». Он хорошо знал, что она не настолько была влюблена в него, чтобы выражать ему слишком живое сожаление по случаю неудачи его визита, но так как она была добра, всегда расположена доставить ему удовольствие и часто печалилась, когда вызывала у него досаду, то он нашел вполне естественным, что она опечалилась и в этом случае, лишив его удовольствия провести час в ее обществе, удовольствия очень большого, не для нее, правда, но для него. Впрочем, это было весьма малосущественным обстоятельством, и не оно послужило причиной того, что скорбное выражение, не сходившее с ее лица, в заключение поразило его. Она напоминала ему таким образом больше, чем когда-либо, женские лица автора «Весны». У нее был в эту минуту их поникший и удрученный вид, вследствие которого они кажутся изнемогающими под непосильным для них бременем какого-то горя, между тем как они просто дают поиграть младенцу Иисусу гранатом или смотрят, как Моисей наливает воду в каменный желоб. Он уже видел однажды на лице ее такую печаль, но не знал, когда именно. И вдруг вспомнил: это было, когда Одетта лгала г-же Вердюрен на другой день после того обеда, на котором она не присутствовала будто бы под предлогом нездоровья, а на самом деле потому, что проводила время наедине со Сваном. Конечно, будь она даже самой совестливой женщиной, она едва ли могла чувствовать угрызения по поводу столь невинной лжи. Но Одетте случалось говорить и гораздо менее невинную ложь с целью помешать открытиям, которые могли поставить ее в весьма неприятное положение по отношению к тем или другим из ее знакомых. Вот почему, когда она лгала, охваченная страхом, чувствуя себя слабо вооруженной для защиты, неуверенная в успехе, то ей очень хотелось плакать от усталости, как плачут иногда невыспавшиеся дети. Кроме того, она знала, что ложь ее обыкновенно тяжело оскорбляла человека, которому она лгала и в полной власти которого могла оказаться, если лгала плохо. Поэтому она чувствовала себя в его присутствии униженной и виноватой. И когда ей случалось говорить незначительную ложь по поводу несоблюдения какой-нибудь мелкой светской условности, то в силу ассоциации ощущений и воспоминаний она испытывала неприятное чувство переутомления и раскаяния в совершенном дурном поступке.
Какую же уничижительную ложь плела она теперь Свану, ложь, являвшуюся причиной этого скорбного взгляда, этого жалобного голоса, казалось, изнемогавших от производимых ею над собой усилий и просивших пощады? У него было впечатление, что она силится скрыть от него не только правду по поводу происшедшего сегодня днем события, но нечто более существенное, нечто, может быть, еще не случившееся, но готовое случиться каждую минуту и способное пролить свет и на сегодняшнее событие. В этот момент раздался звон колокольчика. Одетта продолжала говорить без умолку, но слова ее превратились в сплошной стон: ее сокрушение по поводу того, что она не увидела Свана днем, не открыла ему, обратилось в подлинное отчаяние.
Послышался шум закрываемой входной двери, и с улицы донесся звук экипажа, как если бы кто-то уезжал – по всей вероятности, тот, кого Сван не должен был встречать, – после того, как ему было сказано, что Одетты нет дома. Тогда, увидев, что одним только своим приходом в необычный час он произвел такое смятение, расстроил столько вещей, о существовании которых он не должен был знать, которые она желала скрыть от него, он почувствовал упадок духа, почти отчаяние. Но так как он любил Одетту, так как он привык обращать к ней все свои помыслы, то жалость, которою он должен был наполниться к себе самому, он почувствовал только к ней и пробормотал: «Бедняжка!» Когда он наконец простился с ней, она взяла несколько писем, лежавших на столе, и спросила, не может ли он сдать их на почту. Он взял их и, возвратившись домой, заметил, что письма остались у него. Тогда он снова вышел на улицу, отправился на почту, вынул их из кармана и, прежде чем опустить в ящик, взглянул на адреса. Все они были написаны разным поставщикам, за исключением одного – письма к Форшвилю. Он держал его в руке. Говорил себе: «Если я увижу, что там внутри, то узнаю, как она называет его, что она говорит ему, есть ли действительно что-нибудь между ними. Может быть даже, не заглянув в него, я совершаю неделикатность по отношению к Одетте, ибо это единственный способ избавиться от подозрения, может быть, совсем неосновательного, но, во всяком случае, способного причинить ей страдание и которое уже ничем не может быть рассеяно после того, как письмо будет опущено в ящик».
Сван покинул почту и возвратился домой, оставив в кармане это последнее письмо. Он зажег свечу и приблизил к ней конверт, который не посмел вскрыть. Сначала ему не удалось разобрать ничего, но конверт был тонкий, и, прижимая его к плотному листу почтовой бумаги, лежавшей внутри, он мог прочесть несколько последних слов. Это была весьма холодная заключительная формула. Если бы не он заглянул в письмо, адресованное Форшвилю, а Форшвиль прочел бы письмо, обращенное к Свану, то он мог бы увидеть совсем другие слова, гораздо более нежные. Он крепко держал листок почтовой бумаги, танцевавший в конверте большего формата, чем он, затем, подвигая его большим пальцем, он стал подводить одну за другою его строчки под ту часть конверта, где не было подкладки, сквозь которую только и можно было что-нибудь разобрать.
Несмотря на такой прием, буквы были видны недостаточно отчетливо. Впрочем, это было и не важно, потому что ему все же удалось разобрать, что речь там идет о каком-то совершенно незначительном событии, не имевшем никакого отношения к любви; Одетта писала что-то по поводу своего дяди. Сван ясно разобрал начало строчки: «Я принуждена была», но не понимал, что именно Одетта принуждена была сделать, как вдруг одно слово, которое он не мог сначала расшифровать, ясно обрисовалось перед ним и осветило смысл целой фразы: «Я принуждена была впустить, это был мой дядя». Впустить! Значит, Форшвиль был у нее, когда Сван звонился, и она выпроводила его, откуда и шум, который он слышал.
Тогда он прочел все письмо; в конце она извинялась за свое столь бесцеремонное обращение с Форшвилем и писала ему, что он забыл у нее папиросы, – буквально то же самое, что писала Свану после одного из первых его визитов. Но Свану она прибавила: «Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно». В письме к Форшвилю не было этого добавления; там не было ни одного намека, дававшего основание предположить наличность какой-либо интриги между ними. К тому же, по правде говоря, Форшвиль был тут обманут гораздо больше, чем он сам, потому что Одетта послала это письмо, с тем чтобы уверить его, будто посетителем был ее дядя. Таким образом, выходило, что именно он, Сван, был человеком, с которым она считалась и ради которого спровадила другого. И все же если между Одеттой и Форшвилем ничего не было, то почему ей было не впустить его сразу, почему она говорила: «Я должна была открыть, это был мой дядя». Должна? Если она не сделала ничего дурного в этот момент, то как вообще Форшвилю могло прийти в голову, что она не должна впускать к себе никого? Опечаленный, растерянный и все же счастливый, Сван сидел некоторое время перед этим конвертом, который Одетта без колебания вручила ему: так безусловно доверяла она его деликатности; через прозрачное окошечко в этом конверте открывался ему, вместе с тайной происшествия, в которую он отчаялся когда-нибудь проникнуть, кусочек жизни Одетты, словно сквозь узенькую светлую щелочку, прорезанную в самом неведомом. И его ревность обрадовалась этому открытию, как если бы она была независимым существом, эгоистическим, жадно пожиравшим все, что способно было питать ее, хотя бы насчет самого Свана. Пищи же у нее было теперь вдоволь, и Сван каждый день мог вновь испытывать беспокойство относительно визитов, которые Одетта принимала около пяти часов, мог разузнавать, где находится Форшвиль в этот час. Ибо любовь Свана к Одетте продолжала сохранять характер, с самого начала наложенный на нее неведением, в котором он пребывал относительно времяпрепровождения Одетты, а также умственной ленью, мешавшей ему восполнить неизвестное воображением. Сначала он не ревновал всей жизни Одетты, но только те моменты ее, когда какое-нибудь обстоятельство, может быть даже неверно им истолкованное, приводило его к предположению, что Одетта, пожалуй, обманывает его. Его ревность, подобно спруту, выпускающему сначала одно свое щупальце, затем другое, затем третье, прочно присасывалась к одному определенному моменту – к пяти часам вечера, – затем к другому, затем к третьему. Но Сван не умел измышлять страданий. Все они сводились к воспоминаниям, все были увековечением страдания, пришедшего к нему извне.
Но этим путем страдания приходили к нему в изобилии. Он хотел разлучить Одетту с Форшвилем, увезти ее на несколько дней на юг. Но ему казалось, что она явится предметом желания всех мужчин, находившихся в гостинице, и что сама она желает их. И вот Сван, который искал когда-то во время путешествия новых людей, посещаемых публикой мест, теперь обратился в нелюдима, бежал общества, как если бы оно жестоко оскорбило его. И как же ему было не сделаться мизантропом, если во всяком мужчине он видел возможного любовника Одетты? Так ревность еще больше, чем страстное и радостное желание, которое он чувствовал сначала к Одетте, меняла характер Свана и делала совершенно неузнаваемыми, в глазах окружающих, даже внешние проявления этого характера.
Через месяц после прочтения письма Одетты к Форшвилю Сван отправился на обед, который Вердюрены давали в Булонском лесу. Когда все уже собирались расходиться, он обратил внимание на секретные переговоры между г-жой Вердюрен и некоторыми из ее гостей и расслышал, как пианисту напоминали непременно принять участие в завтрашней поездке в Шату; между тем он, Сван, не получил на нее приглашения.
Вердюрены все время говорили вполголоса, неопределенными фразами, но художник, вероятно по рассеянности, воскликнул:
– Не нужно никакого освещения, пусть он играет «Лунную сонату» в темноте, чтобы ничем не отвлекалось внимание!
Г-жа Вердюрен, увидя, что Сван стоит в двух шагах, приняла то выражение, когда желание заставить говорящего замолчать и в то же время сохранить в глазах слушающего невинный вид выливается в деланную беззаботность взгляда, где искорка, свидетельствующая о том, что вы являетесь соумышленником в заговоре, маскируется улыбками простачка, – выражение, которое неизменно появляется у нас, когда мы замечаем чью-нибудь оплошность, и сразу выдает ее если не тому, кто ее совершил, то, во всяком случае, тому, в присутствии кого ее не следовало совершать. На лице Одетты вдруг изобразилось отчаяние человека, отказывающегося продолжать борьбу с сокрушительными невзгодами жизни, и Сван с тоскою принялся считать минуты, отделявшие его от момента, когда, покинув этот ресторан, он получит возможность, по дороге домой вместе с нею, потребовать у нее объяснения, добиться от нее либо отказа от завтрашней поездки в Шату, либо получения у Вердюренов приглашения также и для него, и успокоить в ее объятиях мучившую его тоску. Наконец велено было подавать экипажи. Г-жа Вердюрен сказала Свану:
– До свиданья, надеюсь, до скорого, не правда ли? – стараясь быть как можно более любезной и принужденно улыбаясь, чтобы отвлечь его внимание от мысли, почему она не сказала ему, как делала это всегда до сих пор: «Значит, завтра увидимся в Шату, а послезавтра у меня?»
Г-н и г-жа Вердюрен пригласили в свой экипаж Форшвиля; экипаж Свана стоял поодаль, и он ожидал, когда они тронутся, чтобы предложить Одетте ехать вместе с ним.
– Одетта, мы возьмем вас, – сказала г-жа Вердюрен, – у нас найдется маленькое местечко для вас рядом с г-ном де Форшвилем.
– Благодарю вас, г-жа Вердюрен, – отвечала Одетта.
– Как! А я рассчитывал, что вы поедете со мной, – воскликнул Сван, отбросив прочь всякое притворство, потому что дверца была открыта, секунды сосчитаны, и в своем теперешнем состоянии он не мог возвратиться домой без нее.
– Но г-жа Вердюрен просила меня…
– В чем дело? Вы можете отлично ехать один; мы уже столько раз предоставляли вам ее, – сказала г-жа Вердюрен.
– Но мне нужно сказать одну важную вещь г-же де Креси.
– Так что же? Вы ей напишите…
– До свиданья, – сказала Одетта, подавая ему руку.
Он попытался улыбнуться, но вид у него был самый несчастный.
– Как тебе нравятся выходки, которые Сван позволяет теперь с нами? – обратилась г-жа Вердюрен к мужу, когда они возвратились домой. – Я боялась, что он съест меня за то, что мы предложили отвезти Одетту. Это положительно неприлично! Ведь этак может дойти до того, что он станет утверждать, будто мы держим дом свиданий! Не понимаю, как Одетта терпит подобные манеры. У него положительно такой вид, точно он каждую минуту заявляет: вы принадлежите мне! Я откровенно скажу Одетте, что я думаю об этом, надеюсь, она меня поймет.
И через минуту прибавила в бешенстве:
– Нет, подумайте только, какой паршивец! – бессознательно употребляя и, может быть, повинуясь той же темной потребности оправдать себя – подобно Франсуазе в Комбре, когда цыпленок не хотел издыхать, – слова, вырывающиеся у крестьянина при виде предсмертных судорог безобидного животного, когда он убивает его.
Когда экипаж г-жи Вердюрен тронулся и подкатил экипаж Свана, то кучер Реми, взглянув на Свана, спросил, не болен ли он, или не случилось ли какого несчастья.
Сван отослал его; он не хотел ехать и пошел домой пешком по Булонскому лесу. Он громко разговаривал сам с собой тем же немного деланным тоном, каким расписывал до сих пор прелести «маленького клана» и превозносил великодушие Вердюренов. Но подобно тому, как речи, улыбки, поцелуи Одетты стали ненавистны ему в такой же мере, в какой раньше он находил их прелестными, если они были обращены не к нему, а к другим, так и салон Вердюренов, недавно еще казавшийся ему интересным, дышавшим неподдельной любовью к искусству и даже своего рода моральным благородством, теперь, когда Одетта собиралась встречать там, любить без стеснения, не его, а другого, обнажал перед ним все свои смешные стороны, всю свою глупость, все свое постыдное ничтожество.
Он с отвращением рисовал себе картину завтрашнего вечера в Шату. «Прежде всего что за идея: отправиться в Шату! Точно лавочники после закрытия магазина! Положительно, эти люди живые воплощения буржуазного духа; не может быть, чтобы они действительно существовали; это, должно быть, персонажи из какой-нибудь комедии Лабиша!»
Там будут Котары, вероятно, также Бришо. «Что может быть смешнее и уродливее, чем жизнь этих человечков, цепляющихся вот так друг за друга. Они вообразят себя буквально потерянными, ей-богу вообразят, если не соберутся завтра все вместе в Шату!» Увы! там будет также художник, художник, любивший «устраивать свадьбы», и он пригласит Форшвиля посетить, вместе с Одеттой, его мастерскую. Он видел Одетту в слишком шикарном для этой загородной прогулки туалете, «ибо она так вульгарна, а главное, бедная крошка, ужасно глупа!».
Он слышал шутки, которые г-жа Вердюрен будет отпускать после обеда; кто бы из «скучных» ни являлся их мишенью, шутки эти всегда забавляли его, потому что он видел, как они смешат Одетту, как она смеется вместе с ним, почти что в нем. Теперь же он чувствовал, что г-жа Вердюрен, вероятно, заставит смеяться Одетту над ним. «Какое вонючее веселье! – говорил он, придавая губам выражение такого сильного отвращения, что эта гримаса напрягала даже его шейные мускулы и воротничок вонзался ему в тело. – И как только существо, созданное по образу Божию, может находить смешным эти тошнотворные остроты? Всякий сколько-нибудь чувствительный нос с омерзением отвернулся бы, чтобы не задохнуться в этом зловонии. Кажется положительно невероятным, чтобы разумное существо было не способно понять, что, позволяя себе улыбку по отношению к себе подобному существу, лояльно протянувшему ему руку, оно погружается в болото, откуда, даже при самых лучших намерениях, больше невозможно его вытащить. Я стою слишком высоко над ямой, где барахтается и шумит вся эта мразь, чтобы меня могли запачкать грязные шуточки какой-то Вердюрен! – воскликнул он, откидывая назад голову и гордо выпрямляя туловище. – Бог свидетель, что я искренно хотел вытащить Одетту из этой помойной ямы и окружить ее более свежим и более чистым воздухом. Но человеческое терпение имеет границы, и мое готово истощиться», – заключил он, как если бы эта священная миссия вырвать Одетту из атмосферы язвительных насмешек существовала уже давно, а не возникла всего несколько минут тому назад, и он взял ее на себя только после того, как подумал, что насмешки г-жи Вердюрен направлены, может быть, на него самого и имеют целью отдалить от него Одетту.
Он видел пианиста, готового играть «Лунную сонату», и гримасы г-жи Вердюрен в предвосхищении нервного потрясения, будто бы причиняемого ей музыкой Бетховена. «Дура, лгунья! – воскликнул он. – И этакое чучело воображает, будто оно любит Искусство!» Она скажет Одетте, предварительно ловко отпустив несколько хвалебных словечек по адресу Форшвиля, как она часто отпускала их по его собственному адресу: «Вы ведь дадите местечко подле себя г-ну де Форшвилю…» «В темноте! Проклятая сводня!..» Он называл «сводней» также музыку, заставлявшую их сидеть молча, мечтать вместе, заглядывать друг другу в глаза, пожимать друг другу руку. Он находил вполне справедливым суровое отношение к искусствам Платона, Боссюэ и старого французского воспитания.
Словом, жизнь, которую вели у Вердюренов и которую он так часто называл «настоящей жизнью», казалась ему теперь наихудшей из всех, а их «кружок» составленным из последних отбросов общества. «Поистине, – говорил он, – это самая нижняя ступень социальной лестницы, девятый круг Дантова ада. Нет никакого сомнения, что величественные стихи флорентийца относятся к Вердюренам! Когда начинаешь думать обо всем этом, то приходишь к убеждению, что люди общества – как их ни ругают, они все же стоят бесконечно выше этой банды хулиганов – обнаруживают глубокую мудрость, отказываясь водить знакомство с ними и даже пачкать свои пальцы прикосновением к ним. Какая прозорливость в этом Noli me tangere[28] Сен-Жерменского предместья». Он давно покинул аллеи Булонского леса и подходил уже к своему дому, но все еще, опьяненный своим горем и неискренним возбуждением, которое все больше и больше подогревалось фальшивой интонацией и искусственной звучностью его голоса, продолжал громко ораторствовать в тишине ночи: «У светских людей есть свои недостатки, и никто не знает их лучше, чем я; но, в конце концов, это все же люди, с которыми вещи известного рода невозможны. Та элегантная женщина, с которой я был знаком, далека от совершенства, но, в конце концов, она все же в глубине души является деликатной, лояльной в своем поведении, так что ни при каких условиях не была бы способна на вероломство, ее душевные качества вырыли бы пропасть между нею и такой мегерой, как Вердюрен. Вердюрен! Что за фамилия! О, можно сказать, что они совершенны, что они прекрасны в своем роде! Да, давно уже следовало прекратить общение с этими подонками, с этой мразью!»
Но – как добродетели, которые еще час тому назад он приписывал Вердюренам, даже если бы Вердюрены действительно обладали ими, но не оказывали содействия и не покровительствовали его любви, были недостаточны, чтобы вызвать у Свана горячее умиление их великодушием, умиление, источником которого, даже когда оно возбуждалось посредством других лиц, могла быть одна только Одетта, – так и порочность, будь она даже подлинной, которую он находил сейчас у Вердюренов, была бы бессильна, если бы они не пригласили Одетту с Форшвилем и без него, дать волю его негодованию и заставить его клеймить их «подонками и мразью». И несомненно, голос Свана обнаружил больше искренности, чем сам он, поскольку голос этот соглашался произнести слова, полные отвращения к Вердюренам и их кружку и радости по случаю разрыва с ними, только деланным, риторическим тоном, как если бы они были выбраны им скорее для утоления его гнева, чем для точного выражения его мыслей. В самом деле, мысли эти, в то время как он негодовал и бранился, заняты были, вероятно, хотя он и не сознавал этого, совсем другим предметом, потому что, едва только придя домой и закрыв за собой дверь подъезда, он вдруг хлопнул себя по лбу и снова выбежал на улицу, воскликнув на этот раз своим естественным голосом: «Мне кажется, я придумал способ добиться приглашения на завтрашний обед в Шату!» Но способ этот оказался, вероятно, плохим, потому что Сван не получил приглашения. Доктор Котар, который, по случаю поездки в провинцию на консилиум к одному серьезному больному, не видел Вердюренов несколько дней и не мог быть в Шату, сказал на другой день после этого обеда, садясь за стол:
– Неужели мы не увидим сегодня Свана? Его действительно можно назвать личным другом…
– Надеюсь, что нет! – воскликнула г-жа Вердюрен. – Сохрани нас от него Бог, – он так убийственно скучен, глуп и невоспитан.
При этих словах на лице Котара изобразилось крайнее изумление, соединенное с полной покорностью, как если бы он услышал истину, противоречившую всем его доселешним убеждениям, но обладавшую непререкаемой очевидностью; испуганно уткнувшись носом в тарелку, он ограничился тем, что протянул: «А-а-а-а-а!», последовательно пройдя, – в отступательном движении, выполненном им в полном порядке, по нисходящей гамме, – все ноты, заключенные в диапазоне его голоса. С тех пор у Вердюренов не было больше речи о Сване.
Таким образом, салон этот, соединивший Свана и Одетту, стал препятствием для их свиданий. Она не говорила ему больше, как в первые времена их любви: «Во всяком случае, мы увидимся завтра вечером: у Вердюренов ужин», – но: «Нам нельзя будет увидеться завтра вечером: у Вердюренов ужин». Или же Вердюрены приглашали ее с собой в Комическую Оперу посмотреть «Ночь Клеопатры», и Сван читал тогда в глазах Одетты страх, как бы он не вздумал ее упрашивать не ходить туда, еще недавно, когда выражение этого страха пробегало по лицу его любовницы, он не мог удержаться от того, чтобы не расцеловать ее, теперь же оно приводило его в негодование. «Я вовсе не сержусь, однако, – уверял он себя, – видя, как она рвется порыться в навозной куче этой ужасной музыки. Я опечален, не за себя, конечно, но за нее; опечален мыслью, что, прожив более шести месяцев в ежедневном общении со мной, она оказалась не способной перевоспитать себя настолько, чтобы проникнуться отвращением к Виктору Массе! Или хотя бы настолько, чтобы понять, что есть вечера, когда женщина, мало-мальски чуткая, должна уметь отказаться от удовольствия, если ее просят об этом. У нее должно было найтись столько такта, чтобы сказать: «Я не пойду», хотя бы из простой деликатности, если от этого ответа зависит окончательное мнение о ее душевных качествах». И, убедив себя в том, будто он желает удержать Одетту в тот вечер подле себя, не пустив ее в Комическую Оперу, только для того, чтобы составить себе более благоприятное суждение о ее духовной ценности, Сван обратился и к ней с теми же доводами, обнаружив при этом такую же неискренность, как и в его обращении к самому себе, и даже, может быть, большую, ибо при этом он повиновался также желанию задеть ее самолюбие.







