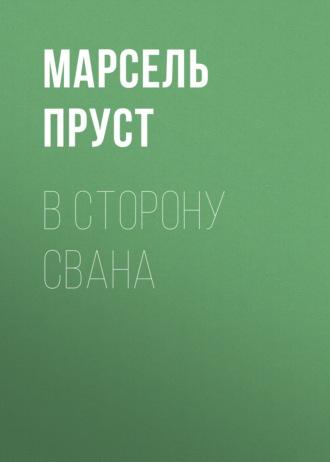
Марсель Пруст
В сторону Свана
– Ну, вот видите, Франсуаза, – говорила тетя, – ведь я же говорила вам, что они пошли в сторону Германта! Боже мой, они, должно быть, проголодались как волки! А ваше жиго, наверное, все высохло, простоявши столько времени в духовке. Ну разве можно приходить так поздно!.. Так, значит, вы ходили в сторону Германта!
– Право же, я думала, что вы знаете об этом, Леония, – отвечала мама. – Мне казалось, что Франсуаза видела, как мы выходили через садовую калитку.
В самом деле, в окрестностях Комбре было две «стороны» для прогулок; они были настолько противоположны, что мы выходили из дому через разные двери, смотря по тому, в какую сторону мы хотели идти: в сторону Мезеглиз-ла-Винез, которую мы называли также стороной Свана, так как, гуляя в этом направлении, мы проходили мимо усадьбы г-на Свана, или же в сторону Германта. Что касается Мезеглиз-ла-Винез, то, по правде говоря, я знал только дорогу, ведущую туда, и чужих людей, приходивших по воскресеньям прогуляться по Комбре, – людей, которых на этот раз никто из нас, даже сама тетя, «совсем не знал» и которые по этому признаку считались «людьми, пришедшими, должно быть, из Мезеглиза». Что касается Германта, то однажды я познакомился с ним поближе, но это случилось значительно позже; и если Мезеглиз в течение всей моей юности был для меня чем-то столь же недоступным, как горизонт, если он оставался скрытым от наших взоров, как бы далеко мы ни шли, складками местности, не похожей больше на местность, окружавшую Комбре, то Германт рисовался мне скорее идеальным, чем реальным пределом стороны, носившей его название, своего рода абстрактным географическим термином, подобно терминам «экватор», «полюс», «восток». В те времена попасть в Мезеглиз, взявши путь «в сторону Германта» или наоборот, мне показалось бы чем-то столь же неосуществимым, как попасть на запад, взявши путь на восток. Так как отец всегда говорил о местности в направлении к Мезеглизу как о самой красивой равнине, которую он когда-либо видел, и о местности в направлении к Германту как о типичном речном пейзаже, то я наделял их, представляя их таким образом в качестве двух сущностей, той связностью и тем единством, какие принадлежат только созданиям нашей мысли; малейшая частица каждой из них казалась мне драгоценной, блиставшей присущим им великолепием, между тем как пролегавшие рядом с ними, перед тем как мы вступали на священную почву той или другой, чисто материальные дороги, на определенном расстоянии которых они были расположены в виде идеальной равнинной перспективы и идеального речного пейзажа, так же мало заслуживали внимания с нашей стороны, как соседние с театром улички заслуживают такового со стороны восторженного энтузиаста драматического искусства. Но гораздо большим расстоянием, чем действительно существовавшее между ними расстояние в километрах, я отделял друг от друга участки моего мозга, при помощи которых я о них думал; это мысленное расстояние принадлежало к числу тех, что с течением времени все увеличиваются, роют между вещами пропасть и размещают их в разных планах. И грань между ними сделалась еще более абсолютной вследствие того, что наше обыкновение никогда не ходить в один и тот же день, во время одной прогулки, в обе стороны, но один раз в сторону Мезеглиза, другой раз в сторону Германта, заключало их, так сказать, вдали друг от друга, за пределами взаимного кругозора, в наглухо закрытые и не сообщавшиеся между собой сосуды различных послеполуденных часов.
Собираясь отправиться в сторону Мезеглиза, мы выходили из дому (не очень рано, и даже не считаясь с тем, было ли небо облачным, так как прогулка предстояла непродолжительная и не заводила нас слишком далеко) через парадную дверь тетиного дома на улицу Сент-Эспри, как если бы мы шли все равно куда. Нам кланялся оружейник, мы опускали письма в ящик, передавали по пути Теодору от имени Франсуазы, что у нее вышло прованское масло или кофе, и выходили из города по дороге, тянувшейся вдоль белой ограды парка г-на Свана. Еще далеко от него нас приветствовал выходивший навстречу прохожим запах сирени. Сами же сиреневые кусты с любопытством высовывали над оградой парка окруженные маленькими зелеными сердцами свежих листьев султаны из лиловых или белых перьев, лоснившиеся, даже в тени, от солнечных лучей, в которых они выкупались. Некоторые из них, наполовину скрытые домиком с черепичной крышей, называвшимся Домом Стрелков, где жил сторож, увенчивали его готический щипец розовым минаретом своих цветов. Нимфы весны показались бы вульгарными рядом с этими юными гуриями, сохранявшими в французском саду живые и чистые тона персидских миниатюр. Несмотря на мое желание обвить руками их гибкую талию и привлечь к себе звездочки кудрей их благоуханных головок, мы проходили мимо не останавливаясь; после женитьбы Свана мои родные перестали посещать Тансонвиль; и чтобы не создавать впечатления, будто мы заглядываем в парк, мы не шли по дороге, тянувшейся вдоль ограды и поднимавшейся прямо в открытое поле, а избирали другой путь, тоже приводивший туда, но лишь после длинного обхода, заставлявшего нас забираться слишком далеко от дома. Однажды дедушка заметил отцу:
– Вы помните, Сван сказал вчера, что по случаю отъезда его жены и дочери в Реймс он хочет прокатиться на сутки в Париж. Мы могли бы пройти мимо парка: ведь дам теперь нет здесь; это очень сократит наш путь.
На несколько мгновений мы остановились подле ограды. Пора сирени приходила к концу; некоторые кусты изливали еще высокими лиловыми люстрами крохотные пузырьки своих цветов, но во многих частях листвы, где всего неделю назад волнами бушевала благоуханная пена, теперь увядала осевшая и потемневшая накипь, полая, сухая и лишенная запаха. Дедушка показывал отцу, в каких своих частях вид местности остался тем же и в каких частях он изменился со времени прогулки, совершенной им с г-ном Сваном в день смерти жены покойника; воспользовавшись случаем, он еще раз рассказал об этой прогулке.
Перед нами поднималась по направлению к дому ярко освещенная солнцем аллея, обсаженная настурциями. Направо, по ровному месту, раскинулся парк. Виден был затененный окружавшими его большими деревьями пруд, выкопанный родителями Свана; но даже в самых искусственных созданиях человека материал, над которым он работает, есть природа; иные места навсегда остаются окруженными символами своеобразной суверенной ее власти и водружают незапамятно древние ее атрибуты посреди разбитого человеком парка, как они делали бы это вдали от всякой человеческой культуры, в пустыне, которая всюду снова поглощает их, необходимо возникая из самого их расположения и накладываясь на произведение человеческого искусства. Таким именно образом в конце аллеи, спускавшейся к искусственному пруду, составился двухъярусный, сплетенный из незабудок и барвинка, изящный естественный голубой венок, обвивавший испещренную световыми бликами водную гладь; между тем как сабельник, с царской величавостью преклоняя мечи свои, простирал, над посконником и водяными лютиками, растрепанные фиолетовые и желтые лилейные цветы своего прудового скипетра.
Отсутствие м-ль Сван, которое – охраняя меня от страшной возможности увидеть ее появление на одной из дорожек, быть узнанным и презрительно отвергнутым этой девочкой, наслаждавшейся дружбой с Берготом и осматривавшей с ним старинные соборы, – лишало для меня интереса впервые мне доступный вид Тансонвиля, – в глазах дедушки и отца, напротив, казалось, сообщало усадьбе Свана какую-то особую зыбкую прелесть и – подобно совершенно безоблачному небу во время экскурсии в горы – делало этот день исключительно благоприятным для прогулки в сторону Мезеглиза; мне хотелось, чтобы их расчеты были опрокинуты, чтобы каким-нибудь чудом м-ль Сван появилась со своим отцом так близко от нас, что мы не успели бы незаметно скрыться и нам пришлось бы с нею познакомиться. Вот почему, когда я вдруг заметил знак ее возможного присутствия – забытую на траве корзинку и рядом с нею лесу, поплавок которой качался на поверхности пруда, – я приложил все усилия для отвлечения взглядов отца и дедушки в другую сторону. Впрочем, так как Сван сказал нам, что ему не следовало бы уезжать в этот день, ибо у него в доме гости, то леса могла принадлежать также кому-нибудь из этих гостей. Однако ничьи шаги не раздавались на аллеях. Какая-то невидимая птица, спрятанная в листве одного из деревьев парка, в отчаянных попытках сократить бесконечно тянувшийся день, исследовала протяжной нотой обступавшую ее со всех сторон пустынность, но получала от нее такой единодушный отклик, такой мощный отпор тишины и неподвижности, что создавалось впечатление, будто птица эта навсегда остановила мгновение, которое пыталась заставить пройти скорее. Солнце так безжалостно лило свой свет с неподвижно застывшего неба, что хотелось укрыться в какое-нибудь недосягаемое для его лучей место, и даже уснувший пруд, сон которого непрестанно беспокоили насекомые, – грезивший, наверное, о каком-то фантастическом Мальстреме, увеличивал тревогу, в которую поверг меня вид пробкового поплавка, ибо у меня было впечатление, что сейчас он умчит его со страшной скоростью по безмолвным просторам отраженного в нем неба; поплавок этот, стоявший почти вертикально, казалось, вот-вот погрузится в воду, и я уже спрашивал себя, не следует ли мне, не считаясь с моим страстным желанием и страхом познакомиться с м-ль Сван, дать ей знать, что рыба клюет, – но тут мне пришлось бегом догонять отца и дедушку, которые звали меня, удивленные, что я не пошел за ними по тропинке, поднимавшейся в гору, по направлению к полям, куда они уже повернули. Я нашел тропинку всю жужжавшей запахом боярышника. Изгородь похожа была на ряд часовен, совсем утопавших под грудами цветов, наваленных на их алтари; внизу, на земле, солнце рисовало световые квадратики, словно лучи его проникали через оконные стекла; от изгороди распространялось такое же густое, такое же ограниченное в пространстве благоухание, как если бы я стоял перед церковным алтарем, и цветы, такие же нарядные, держали каждый, с небрежным видом, блестящий букетик тычинок, – изящные лучистые стрелки «пламенеющего» стиля поздней готики, вроде тех, что украшают в церквах перила амвона или средники окон, но распускавшиеся здесь телесной белизною цветов земляники. Какими наивными и деревенскими покажутся по сравнению с ними цветы шиповника, которые через несколько недель тоже будут взбираться на солнцепеке по этой самой глухой тропинке, одетые в розовые блузки из лоснящегося шелка, расстегиваемые и срываемые малейшим дуновением ветерка.
Но напрасно я останавливался перед боярышником вдохнуть, поставить перед своим сознанием (не знавшим, что делать с ним), утратить, чтобы затем вновь найти, невидимый характерный запах его цветов, слиться с ритмом, разбрасывавшим эти цветы там и сям с юношеской легкостью на расстояниях столь неожиданных, как бывают неожиданны некоторые музыкальные интервалы, – цветы без конца изливали передо мной, с неистощимой расточительностью, все то же очарование, но не позволяли проникнуть в него глубже, подобно тем мелодиям, которые переигрываешь сто раз подряд, нисколько не приближаясь к заключенной в них тайне. На несколько мгновений я отворачивался от них, чтобы затем вновь подойти со свежими силами. Я следовал взором по откосу, круто поднимавшемуся за изгородью по направлению к полям, останавливался на каком-нибудь затерявшемся маке или на нескольких лениво залежавшихся васильках, там и сям декорировавших этот откос своими цветами, словно бордюр ковра, где слегка намечен сельский мотив, который будет торжествовать на самом панно; еще редкие, разбросанные подобно одиноким домам, возвещающим о приближении города, они являлись для меня предвестниками широкого простора, на котором волнами ходят хлеба и кудрявятся облака; и вид одинокого мака, взвивавшего на верхушку гибкого своего стебля трепавшийся на ветру красный вымпел над черным бакеном – жирной землей, – заставлял радостно биться мое сердце, как у путешественника, замечающего на низменной равнине первую потерпевшую аварию лодку, которую конопатит какой-нибудь рыбак, и восклицающего, еще прежде, чем он увидел полоску воды на горизонте: «Море!» Затем я снова обращался к боярышнику, словно к тем шедеврам искусства, которые, как нам кажется, мы способны воспринять лучше, если на несколько мгновений отведем свой взгляд куда-нибудь в сторону; но напрасно приставлял я к глазам руки, чтобы в поле моего зрения не попадало ничего, кроме боярышника: пробуждаемое им во мне чувство оставалось темным и неопределенным, тщетно пытаясь освободиться, преодолеть отделявшее меня от цветов расстояние и слиться с ними. Они не помогали мне уяснить природу этого чувства, и я не мог обратиться к другим цветам для удовлетворения своего любопытства. И вот, – наполнив меня той радостью, какую мы ощущаем при виде неизвестного нам произведения любимого нами художника, не похожего на его другие произведения, или, лучше еще, когда нам показывают картину, известную нам раньше только в форме карандашного эскиза, или же когда музыкальная пьеса, которую мы слышали только в исполнении на рояле, предстает перед нами в великолепном оркестровом наряде, – в этот миг дедушка подозвал меня и сказал, показывая на изгородь тансонвильского парка: «Ты так любишь боярышник; погляди же на этот куст с розовыми цветами – не правда ли, он красив?» В самом деле, этот куст розового боярышника был еще красивее, чем белые кусты. Он тоже был в праздничном наряде – том наряде, который надевают во время церковных праздников, единственно подлинных, потому что случайная прихоть не приурочивает их к дням, специально для них не предназначенным, не содержащим в себе ничего, по существу, праздничного, – но наряд его был еще более богатым, чем наряд остальных кустов, ибо цветы, лепившиеся по его ветвям, один над другим, так густо, что не было ни одного местечка, не украшенного ими, словно помпончики, обвивающие пастушьи посохи в стиле рококо, имели «окраску» и, следовательно, обладали более высоким качеством, согласно эстетике Комбре, если судить о ней по лестнице цен в «магазине» на площади или у Камю, где самыми дорогими бисквитами были розовые. Я сам выше ценил творог с розовыми сливками, то есть тот, что мне позволяли приправить мятыми ягодами земляники. Розовые цветы боярышника избрали именно окраску вкусной съедобной вещи или же трогательного украшения на туалете для большого праздника, одну из тех красок, которые, поскольку принцип их превосходства несложен, кажутся наиболее очевидно красивыми в глазах детей, и по этой причине всегда содержат для них нечто более живое и более естественное, чем другие краски, даже после того как дети поняли, что они не сулят им ничего вкусного и не были выбраны портнихой. И в самом деле, я сразу почувствовал, как чувствовал это при виде белого боярышника, но с большим восхищением, что праздничное настроение было передано цветами не искусственно, с помощью ухищрений человеческой изобретательности, но его выразила сама природа (с наивностью деревенской торговки, работающей над украшением уличного алтаря для какой-нибудь процессии), перегрузив куст этими слишком нежного тона розочками в стиле провинциального «помпадур». На концах ветвей, как мы можем наблюдать это на тех розовых деревцах в горшках, задрапированных бумажным кружевом, которые раскидывают тонкие свои веточки на престоле в дни больших праздников, тысячами сидели маленькие бутончики более бледной окраски; приоткрываясь, они позволяли видеть, словно на дне чаши из розового мрамора, кроваво-красные крапинки и еще больше, чем цветы, выдавали своеобразную, бесконечно притягательную сущность боярышника, которая всюду, где на нем распускались бутоны, где он начинал зацветать, могла быть только розовой. Являвшийся составной частью изгороди, но отличавшийся от нее так, как отличается молодая девушка в праздничном наряде от одетых по-будничному своих сестер, которые останутся дома, уже совсем готовый для майских служб, чьей необходимой принадлежностью он, казалось, был, так блистал, радостно улыбаясь, в свежем розовом своем наряде восхитительный католический кустарник.
Сквозь изгородь виднелась внутри парка аллея, обсаженная жасмином, анютиными глазками и вербеной, между которыми левкои раскрывали свежие свои розовые сумочки, пахучие и блеклые, как старая испанская кожа, между тем как на песке аллеи длинный рукав для поливки, выкрашенный в зеленый цвет, извиваясь своими кольцами, веером метал над цветами, из конца, усеянного крошечными отверстиями, жадно вдыхая их запах, вертикальный и призматический дождь многоцветных капелек. Вдруг я остановился и застыл словно изваяние, как это случается, когда появившийся перед нами предмет обращается не только к нашему зрению, но требует более глубокого восприятия и захватывает все наше существо. Подняв лицо, усеянное розовыми пятнышками, на нас смотрела белокурая рыжеватая девочка, казалось, только что вернувшаяся с прогулки и державшая в руке маленький заступ. Ее черные глазки блестели, и так как я не умел тогда и не научился никогда впоследствии разлагать сильное впечатление на его объективные элементы, так как я не обладал, как говорится, достаточной наблюдательностью, чтобы составить себе отчетливое представление об их цвете, то в течение долгого времени, каждый раз, когда я о ней думал, в моем воспоминании блеск ее глаз тотчас вставал передо мной как ярко-лазурный, ибо она была блондинка; впечатление это было настолько сильно, что, если бы глаза ее не были такими черными – эта чернота наиболее поражала всякого, кто видел ее впервые, – я, может быть, не влюбился бы, как это случилось со мною, главным образом в ее воображаемые голубые глаза.
Сначала я смотрел на нее тем взглядом, в котором принимают участие не только глаза, но все чувства, застывшие в немом восторге, – взглядом, который хотел бы прикоснуться, завладеть, унести с собой пленившее его тело, а вместе с телом также и душу; затем – настолько я боялся, что каждую секунду дедушка и отец, заметив девочку, заставят меня оторваться от нее, прикажут идти впереди них, – взгляд мой бессознательно сделался умоляющим, старался принудить ее обратить на меня внимание, увидеть меня, познакомиться со мною! В это время девочка посмотрела в сторону отца и дедушки, как бы желая узнать, что это за люди, и мы, несомненно, произвели на нее неблагоприятное впечатление, потому что она отвернулась с равнодушным и презрительным видом и стала в таком положении, чтобы лицо ее оказалось вне поля их зрения, и в то время как, продолжая свой путь и не заметив ее, дедушка и отец обогнали меня, глаза ее блуждали в моем направлении, не меняя равнодушного выражения и не подавая виду, будто они заметили меня, но взгляд их был пристальным и светился какой-то замаскированной улыбкой, которую я не мог истолковать, на основании полученных мною понятий о хорошем воспитании, иначе как свидетельство величайшего презрения; и ее рука в это самое время описывала в воздухе непристойное движение, которому, когда оно бывает публично обращено к незнакомому лицу, маленький словарь правил приличия, запечатлевшийся в моем уме, давал единственное значение – значение намеренного оскорбления.
– Жильберта, пойдем; что ты делаешь? – крикнула резким и повелительным тоном дама в белом, которой раньше мне не случалось видеть, между тем как стоявший невдалеке от нее господин в полотняном костюме, тоже незнакомый мне, пристально смотрел на меня, выпучив глаза; улыбка девочки вдруг исчезла, она схватила свой заступ и удалилась, не оборачиваясь в мою сторону, с видом послушным, непроницаемым и лукавым.
Так прозвучало подле меня имя Жильберты, врученное мне словно талисман, позволявший мне, может быть, вновь найти когда-нибудь женщину, только что наделенную им определенной личностью, между тем как несколько мгновений тому назад она была лишь неясным образом. Так пронеслось оно над жасмином и левкоями, едкое и свежее, словно капельки, струившиеся из зеленого насоса; так пронеслось оно над садом, напитывая и окрашивая зону чистого воздуха, пройденную им – и обособленную от окружающего, – радужными цветами таинственной жизни той, которую называли так счастливые существа, жившие, гулявшие и путешествовавшие с нею, – обдавая меня, сквозь просвет в кустах розового боярышника, открывавшийся на уровне моего плеча, квинтэссенцией их коротких – для меня таких мучительных – отношений с нею, со всем неведомым для меня миром ее жизни, в который мне никогда не удастся проникнуть.
На миг (в то время как мы удалялись и дедушка бормотал: «Бедный Сван, какую роль они заставляют играть его: его сплавляют, чтобы она могла остаться наедине со своим Шарлюсом, ибо это Шарлюс, я узнал его! И этой малютке приходится присутствовать при всех их гадостях!») впечатление, оставленное во мне деспотическим тоном, которым мать Жильберты обратилась к ней, и она беспрекословно послушалась, – изображая мне ее как существо, вынужденное кому-то повиноваться, а не стоящее превыше всего в мире, – успокоило немного мои страдания, подало мне некоторую надежду и умерило мою любовь. Но очень скоро любовь эта вспыхнула во мне с новой силой, как реакция, при помощи которой мое униженное сердце пыталось подняться до уровня Жильберты или опустить ее до собственного уровня. Я любил ее; я сожалел, что у меня не было времени и не хватило находчивости оскорбить ее, сделать ей больно и заставить ее сохранить воспоминание обо мне. Я находил ее такой красивой, что страстно хотел вернуться и крикнуть ей, пожимая плечами: «Как вы безобразны, уродливы, как вы противны мне!» Однако я удалялся, навсегда унося с собой, – словно первый образ счастья, недоступного подобным мне детям в силу непреложных законов природы, – образ рыжеволосой девочки, с кожей, усеянной розовыми пятнышками, державшей в руке заступ и с улыбкой направлявшей на меня долгий, лукавый взгляд. И уже очарование, которым имя ее, подобно облаку фимиама, наполнило этот просвет в кустах розового боярышника, где я и она вместе услышали его, начало охватывать, покрывать, напоять благоуханием все, что окружало ее: ее дедушку и бабушку, с которыми имели такое несказанное счастье быть знакомыми мои собственные дедушка и бабушка, почетнейшую профессию биржевого маклера и даже меланхолический квартал Елисейских полей, где она жила в Париже.
– Леония, – сказал дедушка по возвращении с прогулки, – как мне хотелось, чтобы ты была сейчас вместе с нами. Ты не узнала бы Тансонвиля. Если бы я был посмелее, я срезал бы для тебя ветку розового боярышника, который ты когда-то так любила. – Дедушка рассказал всю нашу прогулку тете Леонии, желая развлечь ее или, может быть, питая некоторую надежду побудить ее встать с постели и начать выходить из дому. Ибо в прежние времена тетя очень любила эту усадьбу, и визиты Свана были последние, которые она соглашалась еще принимать, после того как дверь ее была уже закрыта для остальных ее знакомых. И тем же тоном, каким она приказывала ответить ему, когда он осведомлялся в настоящее время о ее здоровье (она была единственным лицом из живших в нашем доме, которое он хотел бы еще видеть), что сейчас она чувствует себя утомленной, но разрешит ему подняться к ней в следующий его визит, тетя сказала дедушке в тот вечер: «Да, когда-нибудь в хорошую погоду я прокачусь в экипаже до ворот парка». Она говорила это совершенно искренно. Ей очень хотелось снова увидеть Свана и Тансонвиль; но простое желание сделать это поглощало весь остаток ее сил, исполнение этого желания превысило бы их. Иногда хорошая погода наполняла ее некоторой бодростью, тетя вставала, одевалась, но не успевала она дойти до соседней комнаты, как уже снова чувствовала усталость и требовала, чтобы ее уложили в постель. Процесс, начинавшийся в ней – несколько раньше, чем он происходит обыкновенно во всех нас, – был процессом великого отречения старости, приготовляющейся к смерти, хоронящейся в свою куколку, – процессом, который можно наблюдать в жизни каждого, если она чрезмерно затянулась, даже у людей, долгие годы любивших друг друга самой страстной любовью, даже у друзей, соединенных узами самой преданной дружбы, когда, с наступлением известного года, они перестают совершать необходимую поездку или даже просто переходить улицу, чтобы повидаться друг с другом, перестают переписываться и знают, что между ними не будет больше общения в этом мире. Тетя, должно быть, прекрасно сознавала, что она не увидит больше Свана, что она никогда больше не покинет своего дома, но это пожизненное заточение она, казалось, принимала совершенно безропотно по тем самым причинам, которые, по нашему мнению, должны бы сделать его для нее более тягостным, именно: она была обречена на него ежедневно подмечаемым ею угасанием своих сил, которое, делая каждое ее движение, каждый жест утомительным, даже мучительным, сообщало в ее представлении бездействию, уединению, молчанию благословенную, укрепляющую и освежающую сладость покоя.
Тетя не поехала смотреть изгородь из розового боярышника, но я то и дело спрашивал своих родных, когда же она наконец поедет и часто ли она бывала раньше в Тансонвиле, стараясь таким образом заставить их говорить о родителях и о дедушке м-ль Сван, казавшихся мне великими, как боги. Имя Сван стало для меня почти что мифологическим, и, разговаривая с родителями, я ощущал болезненную потребность услышать его из их уст; сам я не осмеливался произносить его, но постоянно заводил разговор на темы, близкие к Жильберте и ее семье, касавшиеся ее, во время обсуждения которых я не чувствовал себя отделенным от нее бесконечной пропастью; и я вдруг принуждал отца, – притворившись, например, будто считаю, что должность моего дедушки уже и раньше принадлежала членам моей семьи или что изгородь из розового боярышника, которую хотела видеть тетя Леония, проходила по общественной земле, – исправить мои утверждения, сказать мне, как бы вопреки моей воле, по собственному желанию: «Нет, это неверно, эта должность принадлежала отцу Свана, эта изгородь составляет часть парка Свана». Тогда я бывал вынужден перевести дух: таким тяжелым грузом давило на то место, где оно навсегда было записано во мне, это имя, которое, когда я его слышал, казалось мне полновеснее всех других, ибо было уже отягчено моими бесчисленными мысленными повторениями его. Оно вызывало во мне удовольствие, которого я стеснялся просить у своих родных, ибо удовольствие это было так велико, что доставление его мне должно было требовать от них огромного труда, притом ничем не вознаграждавшегося, так как сами они его вовсе не испытывали. Поэтому из скромности я переводил разговор на другие темы. А также вследствие некоторого беспокойства совести. Дело в том, что я вновь находил в имени Сван все вкладываемые мною в него обольщения, едва только мои родные произносили его. Мне вдруг казалось тогда, что они не могут не испытать моего волнения, что они непременно должны стать на мою точку зрения, что в них тоже зарождаются мои мечтания, что они прощают их мне и даже прельщаются ими, и мне бывало не по себе, словно я их соблазнил и развратил.
В том году мои родные назначили день возвращения в Париж несколько раньше, чем обыкновенно. Перед отъездом меня решили свести к фотографу и по этому случаю с утра завили мне волосы, осторожно надели на меня шляпу, которой я еще не носил, и нарядили в бархатное пальто. Спустя несколько времени по окончании моего туалета мать моя, после безуспешных поисков во всех уголках нашего сада, нашла меня на упомянутом выше крутом пригорке, подле ограды тансонвильского парка, где я в слезах прощался с боярышником, заключив в объятия колючие ветки, и – подобно принцессе из трагедии, отягченной ненужными драгоценностями, – без всякой признательности к докучной руке, собравшей мне на лоб, в заботливо выведенных колечках, все мои волосы, топтал сорванные с головы папильотки и свою новую шляпу. Мама нисколько не была тронута моими слезами, но не могла удержаться от крика при виде растрепавшейся прически и изорванного пальто. Но я не слышал ее. «О мои бедные цветочки, – с плачем говорил я, – это не вы хотите доставить мне огорчение, не вы принуждаете меня разлучиться с вами! Вы, вы никогда, никогда не причиняли мне неприятностей! И я всегда буду любить вас». И, вытирая слезы, я обещал им, когда вырасту большой, не подражать безрассудному поведению других людей и, даже живя в Париже, вместо хождений с визитами и выслушивания глупой болтовни, ездить весною в деревню взглянуть на первые цветы боярышника. Выйдя в поля, мы уже не расставались с ними в течение всей прогулки в сторону Мезеглиза. По ним непрестанно пробегал невидимым бродягой ветер, казавшийся мне добрым гением Комбре. Каждый год в день нашего приезда, желая убедиться, что я действительно нахожусь в Комбре, я взбирался на пригорок снова ощутить, как он надувал мой плащ и подгонял меня в направлении своего движения. Ветер всегда бывал попутным, когда я ходил в сторону Мезеглиза, по этой возвышенной равнине, где на протяжении многих лье ничто не нарушает спокойной гладкости почвы. Я знал, что м-ль Сван часто ездила на несколько дней в Лан, и, хотя до этого города было довольно далеко, расстояние сокращалось вследствие отсутствия всяких помех на пути; поэтому когда в жаркие послеполуденные часы я видел, как дуновение ветерка, рождавшегося где-то на самом горизонте, пригибает к земле колосившиеся хлеба на далеких полях, волной разливается по всей необъятной равнине и, обдавая теплом, с мягким шелестом ложится у моих ног, между эспарцетом и клевером, то эта общая для нас обоих равнина, казалось, сближала нас, соединяла, – мне представлялось, что этот ветерок пронесся мимо нее, что он был весточкой от нее, что он нашептывает мне что-то, чего я не мог понять; я ловил и целовал его на лету. Слева была деревня, называвшаяся Шампье (Campus Pagani[13], по объяснению кюре). Справа, за хлебами, виднелись два узорчатых купола деревенской церкви Сент-Андре-де-Шан, конические, чешуйчатые, ячейчатые, в косых квадратиках, буро-желтые и шероховатые, словно два колоса.
На фоне неподражаемого орнамента своих листьев, которые невозможно смешать с листьями какого-нибудь другого фруктового дерева, яблони в симметрическом порядке раскрывали широкие белые атласные лепестки или подвешивали робкие букетики бледно-розовых бутонов. Во время прогулок в сторону Мезеглиза я впервые обратил внимание на круглую тень, отбрасываемую яблонями на освещенную солнцем землю, а также на те неосязаемые золотистые шелковые нити, что наискось прядет под их листвою закатное солнце; я видел, как отец разрывал их своею палкой, но они по-прежнему оставались прямыми и неподвижными.







