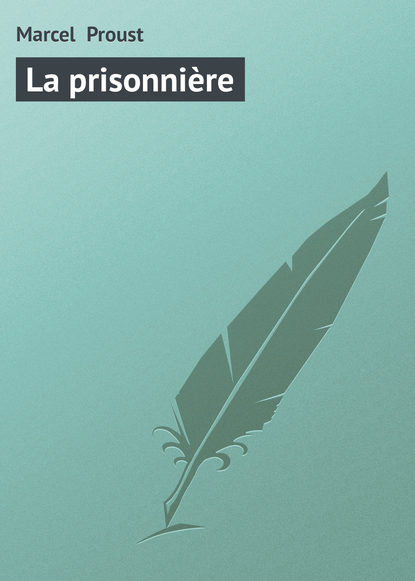Полная версия:
Марсель Пруст Утехи и дни
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Марсель Пруст
Утехи и дни
Marcel Proust
Les plaisirs et les jours
© Марков А. В., вступительная статья, 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
* * *Рассвет Пруста
Есть писатели, подводящие итоги своему поколению, своей эпохе, пережитому или не пережитому за отведенный им срок жизни. Пруст выделяется среди них тем, что подводит итоги исканиям сразу множества поколений, – во всяком случае, нескольких поколений Франции после Наполеона, – и говорит не просто о завершении эпохи, а о возможности одной эпохи очароваться другой, заглядеться в нее как в зеркало. Конгениален Прусту, вне сомнения, Лев Толстой, показывавший несводимость жизни как целого к опыту отдельных персонажей. Но для Пруста было важнее показать, как возможен персонаж, который может вообще как-либо отнестись к жизни как целому. В великом романе Пруста таков персонаж, вспоминающий себя, но при этом не торопящийся самоуверенно настаивать на своей неизменности, а попросивший у времени отсрочки собственным неизбежным заблуждениям. В «Утехах и днях», произведении очень юношеском, рассказывается о разных отсрочках: любующейся и робкой, задумчивой и ликующей. В любом случае, когда очередной герой этой небольшой книги показывает себя, время должно немного подождать в недоумении, как перед чем-то небывалым, даже если речь идет о мелочах и подробностях светской жизни.
Казалось, ни природой, ни воспитанием Марсель Пруст не был направляем к тому, чтобы стать великим писателем. Отец его, Адриан Пруст, врач-эпидемиолог, уже к рождению сына был европейской знаменитостью, а его высокое положение, с годами только укреплявшееся, обязывало слишком ко многому – например, в защиту Дрейфуса он смог говорить только через своих учеников. Адриан Пруст внимательно изучал санитарный опыт разных стран (в том числе, как в России организуется карантин) и давал советы всему миру по здоровому образу жизни. Но если мы бы побывали в его квартире, где Марсель и прожил почти до тридцати лет, то мы бы не увидели там никакой легкости, которая для нас сопровождает мысль о здоровом образе жизни. Тяжелая мебель, панели и ковры, глубокие пещеры важности, при этом в новейшем доме с ванной и лифтом, недалеко от вокзала Сен-Лазар на обустроенном бароном Османом бульваре самоуверенных архитектурных новинок, всё это меньше всего вязалось с будущим дендизмом Марселя – в этих комнатах, казалось, никогда не сможет задержаться легкомыслие вместе со своим свойственником вдохновением.
Год рождения Марселя Пруста, 1871, был годом поражения Франции в войне с Германией, взрывом Парижской коммуны, ямой разорений и разочарований, нехватки самого простого продовольствия в городе, когда даже молоко надлежало добывать с большими усилиями. Чувствительность была назначена мальчику как светским воспитанием в эпоху, когда все светское должно было заново пробивать себе дорогу в век позитивизма, и значит, так остро переживать свою ненужность, чтобы обретать лишь в себе новые силы для бытия, – так и состоянием тогдашней медицины. Тяжелейшая болезнь будущего писателя, астма, в те времена имела во мнении светил медицины не биологическую, а психологическую этиологию. Считалось, что астматический кашель – это особое нервное состояние; и достаточно спокойных занятий и регулярных гигиенических процедур, чтобы ослабить симптомы. Марсель привык к этой спокойной строгости наблюдений за собой, но недуг навсегда остался с ним.
В 1882 г. Марсель выдержал экзамены в лицей Кондорсе, где часто недужно отсутствовал на занятиях, но пылкая дружба и благоговение как перед преподавателями, так и перед товарищами определяли его стремительный духовный рост. В школьные годы он знакомится с двумя важнейшими товарищами, Люсьеном Доде, сыном романиста Альфонса Доде, и Жаком Бизе, сыном прославленного композитора, и уже не представляет жизни без общения с ними. Отношение к ним у него было особое: смесью застенчивости и требовательности, желанием видеть каждую минуту жизни своих друзей и при этом страсть к письму, которое и даст нужное место всем вольным мыслям и чувствам. Эта особая заинтересованность, конечно, формировала писательский дар Марселя, не меньше чем школьные сочинения, в которых нужно было отстаивать какой-то тезис: здесь ему надлежало отстоять самого себя.
Но кроме этих друзей, интерес к которым был больше чем дружбой, будущий прозаик охотно общался с будущим живописцем Морисом Дени, одним из создателей группы «Наби» (1890–1905, в переводе с древнееврейского «Пророк»), которые следуя густому аллегоризму де Шаванна, всем этим образом «вечной весны» или «сна», возвещали о способности искусства преодолеть не только сковывающие привычки и артроз чувств, но и время. Пруст и Дени одинаково чтили философию Бергсона (мужа кузины Пруста!), а любовь к новой философии им привил, с одной стороны, их учитель философии Альфонс Дарлю, а с другой стороны – еще один лицеист, Фернан Грег, который в 1896 г., вспомнив о лицейских товарищах, решил собрать их в журнале «Пир»: в этом издании, наравне с набросками Пруста, печатались и работы Бергсона. В «Пире», хотя журнал просуществовал меньше года, хотели увидеть свет многие, например, Леон Блюм, будущий премьер-министр социалистического правительства, который тогда публиковал небольшие эссе, а потом в 1901 г. создал новые разговоры Эккермана с Гёте, в которых обсуждал от лица мастера современную литературу от «Анны Карениной» до «Крестового похода детей» Марселя Швоба. Дарлю, которого Пруст бесконечно чтил и благоговейно поминал в том числе в начале «Утех и дней», создал «Журнал метафизики и морали», с целью противопоставить новую науку дилетантским рассуждениям моралистов, и на страницах журнала появился однокурсник Бергсона социолог Эмиль Дюркгейм, чьи идеи о разделении общественного труда очень близки отказу Пруста рассматривать общество просто как борьбу интересов: общество оказывается соперником природы по непредсказуемости, – и как природа в конце концов обретает покой в пространстве, общество должно найти покой во времени.
Философия Бергсона очень важна для понимания всех замыслов Пруста. Бергсон утверждал, что ни материя, ни форма не обладают достаточно длительной памятью, чтобы игра бытия никогда не промахивалась мимо нее. Поэтому память – единственный мир человека, в котором он у себя дома. Когда 14-летний Пруст, отвечая на вопросы анкеты Антуанетты Фор, дочери будущего президента Франции Феликса Фора (а мода на анкеты английская) заметил, что хотел бы жить «в стране идеала, точнее, моего идеала», он этим притяжательным местоимением лучше всех учебников обозначил философию Бергсона, в которой важнее всего не переживание времени, а способность сохранить себя и свое переживание его даже в виду несомненности идеала.
Пруст-лицеист стремился найти идеал особого рода, о чем тоже говорил в анкете, что он не может назвать любимый цвет, потому что все цвета – любимые, и не способен назвать любимый цветок, потому что не разбирается в цветах. Он смотрел на цветы как на принадлежность салонов, на необходимое сопровождение тех переживаний, которые только тогда для нас окрашены, когда мы не привязываем их к готовым ситуациям. Таков и был Пруст, в школьные годы издававший рукописные журналы в лиловых тетрадках, следивший за блеском манишки, а не просто белизной, и способный увлечься женской красотой, только бы она была не только стыдливой, но и удивительной. Так он увлекся Марией Бенардаки, будущей Радзивилл, которая стала прототипом Жильберты Сван в его романе – внучкой Дмитрия Бенардаки, создателя Сормовского завода под Нижним Новгородом и греческой церкви в Петербурге (всем нам известной из элегии Бродского «Остановка в пустыне»), спонсора второго тома «Мертвых душ» Гоголя, выведенного там под именем Костанжогло; дочерью Николая Бенардаки, бывшего церемониймейстера, придворного генерала, лишившегося службы за женитьбу на разведенной и уехавшего в Париж. О его жене злословили в России, что ее волнует лишь шампанское и любовь, но то же самое о ней за спиной говорили и в Париже. Увлечение Марией было сильнейшим, но Пруст женщин побаивался: когда отец отправил его за взрослением в дом постыдных удовольствий, Марсель не просто не выполнил ту единственную задачу, которая была ему поставлена, но случайно разбил ночную вазу, что пришлось оплачивать дополнительно.
При этом в женские салоны он был более чем вхож. Так, мать его товарища Жака Бизе Женевьева, которая овдовев (великому композитору было всего 37 лет), стала потом женой богача Штрауса, была самым желанным корреспондентом Пруста. В мадам Штраус его привлекала способность перевоплощения, играть любые роли без всякого нажима или нарочитости, просто избирая тот образ жизни, который сейчас желанен – а роль уже последует за ним. Другой салон, госпожи де Кайаве (прототип госпожи Вердюрен в романе), возлюбленной Анатоля Франса, одарил Пруста множеством впечатлений и предисловием мэтра к «Утехам и дням». Этот салон стал за два года до выхода «Утех и дней» штабом защитников Дрейфуса, в противовес салону мадам де Луан, молодой возлюбленный которой, Жюль Леметр, охотно возглавил противников Дрейфуса. Неприязнь Пруста к литературному импрессионизму Леметра, с убеждением, что, дескать, нет ничего, кроме впечатлений, оказалась в очередной раз более чем оправданной.
Важным опытом, подготовившим «Утехи и дни» за несколько лет до их выхода отдельной книгой, стала для Марселя Пруста служба в армии в Орлеане: он записался в добровольцы – что обязывало покупать обмундирование и амуницию на свои средства, но служить тогда разрешалось всего лишь год вместо положенных пяти. В опроснике, заполненном по окончании службы, Пруст заметил, что самый замечательный момент всемирной военной истории для него – когда он записался в добровольцы. Это, конечно, не мания величия, а просто единственный способ осмыслить военную историю как нечто значимое не только для полководцев, которые сами путаются, кому подражают, и поэтому уж никак не способны оценить, какое событие военной истории самое важное. Марсель в дни службы так пугался выстрела собственного ружья, что забывал прицелиться, астма его не давала спать солдатам, пришлось устроить ему кровать в конторе, но и там он не стал писарем из-за того, что его почерк был слишком беглым и капризным. В конце концов он был переведен ближе к Версалю, и Версаль стал одним из мест-героев «Утех и дней». Пруст гордился тем, что во время службы мог отдать честь внуку Наполеона I Шарлю Валев-скому от Марии Валевской, той самой, которая навещала поверженного императора на острове Святой Елены, сыну Александра Колонна-Валевского, любовника знаменитой актрисы Элизы Рашель («так, негодующая Федра, стояла некогда Рашель»), и Марианны де Риччи-Понятовской, любовницы Наполеона III. Армейская дисциплина только усилила в Прусте англоманию, которая его как переводчика Рёскина сопровождала всегда – английский дух был для него духом автономии, которая не покушается на соседей ни своими законами, ни своим гордым самоутверждением, но просто только так позволяет культуре прожить расстояние между одним и другим открытием формы.
Итак, «Утехи и дни» создавались во Франции, накаленной спорами вокруг дела Дрейфуса, не просто поссорившего писателей, но подорвавшего навсегда идею единой национальной литературы. Оказалось, что нет просто литературы, которая создается присутствием в ней чувств или мыслей: напротив, изобилие чувств может только повредить действию лучших книг. Важнее всякого наполнения страниц мыслями и чувствами переклички между совестливыми книгами, при чтении которых можно не только задуматься, но и поговорить с собой, пока бытие разучивает гимн, предложенный ему чутким литератором. «Утехи и дни» не могли бы состояться без опыта салонов, где родство, знакомство, дружба и любовь не могут быть только предметом хвастовства, как в старой светской жизни, – но становятся вещью благоговейной стыдливости, которая одна лишь и может снискать достойное литературы уважение. Наконец, при всем трагикомизме и армейской службы Пруста, и его сдачи экзамена, и недолгой юридической практики, прерванной тяжелым ходом болезни, этот опыт отрешенного взгляда на мир и сформировал его умение схватывать в беглом сюжетном повествовании те черты мира, которым хочется побыть подольше с читателем.
Нужно немного объяснить название книги двадцатипятилетнего Марселя Пруста. «Утехи и дни» – напоминание о названии моралистической поэмы Гесиода «Работы и дни», посвященной годовому циклу работ. Для Гесиода благоразумие и своевременность работ не просто помогут вести хозяйство наилучшим образом, но и сделают его каким надо, придадут ему наилучшую форму. Пруст говорил об утехах, которые тоже должны стать наилучшими, должны стать той формой, которая только и может растрогать, которая только и может помочь пережить всю жизнь как единую сердечную заинтересованность.
Рассказы «Утех и дней» изображают разные варианты необходимого расставания с идеалом. Мучительно умирает виконт и, подрывая все представления племянника-подростка о блистательной красоте явления аристократа, впервые наставляет его заботиться о себе и не стыдиться нежных чувств. Виконтесса, совсем другого рода, впервые узнает телесную любовь, и понимает, что если настоящую искру любви не вмещает ее взор или нерв, то тем более не вместит сжавшаяся от страха душа. Новые Бувар и Пекюше, герои знаменитого романа-памфлета Флобера, пытаются стать писателями-импрессионистами, считая, что искусство передаст им дар перевоплощения и тем самым избавит от пошлости. Госпожа из высшего общества пытается понять его механику, чтобы разгадать, как именно люди вызывают у других людей интерес и влюбленность, – и в результате находит себя в обмороке неинтересного. Девушка, раскрывающая свою порочность лишь как слабоволие, вынуждена признать, что слабоволием можно объяснить только поступки, но не чувства, лежащие глубже любых поступков. Воспоминания об аристократии былых времен за обедом оказываются разве что необязательным поводом к небрежности мыслей и чувств. Калейдоскоп воспоминаний учит, что явиться вовремя в мир пейзажа или в мир музыки важнее, чем развить в себе сверхчувственность. Наконец, трагикомические сцены ревности оказываются аргументом для самой живой жизни – уже не быть прежней.
Таков кратчайший конспект «Утех и дней». Но важнее в этой книге не сюжеты, а общее отношение к речи и молчанию, воспоминанию и впечатлению. Пруст отказывается от литературной техники постепенного знакомства читателя с героем: если герой рассказывает о себе, то он сразу говорит, что все его или ее тайны уже выданы, и поэтому не надо думать, что умение следить за судьбой героя может научить проникновенности чувств или глубине нравственного долга. Лучше при чтении о герое проследить за своей судьбой: посмотрев, как герой или героиня пугается тени своих же поступков, попадает в переплет своих же вроде бы самых простых переживаний, мы лучше понимаем, что смотреть на вещи просто – не значит стать понастоящему искренним.
Герои книги Пруста, хотя и принадлежат к высшему обществу, вовсе не «сложные» люди, вовсе не люди с тонкой нервностью, как это было бы у писателей-импрессионистов. Напротив, они всё делают просто: они знают, при каких условиях в них вспыхивает любовный жар, а после какого воспоминания они точно устыдятся самих себя. В этом и гениальность Пруста: он не выводит проблемы людей из их сложности, из порчи, отличающей светского «сына века» (как некогда сказал де Мюссе) от первоначального человека глубокого и потому якобы с полной ответственностью переживаемого чувства. Наоборот, его герои прекрасно знают, чего они хотят, знают границы своей мечты, очертили круги для своих поступков и замыслов – но при этом они все равно терпят крушение, пока живая жизнь не обратила на них своего пристального внимания и не объяснила, что лучше прожить скучную заботу о самих себе, чем отдаться спонтанным переживаниям, которые становятся уже порчей века, а не отдельного человека. Лучше светлая меланхолия заботы, чем темная меланхолия порчи.
Наконец, важно мастерство Пруста, его умение останавливать внимание не просто на деталях, а на тех магнитных полях, в которых вещи только и заняли привычные им и благие для них места. Эта астрофизика Пруста далека от той простой «детализации», любующегося внимания, которое возникло бы в литературе и без него. Любой другой писатель мог бы, постаравшись, описать, скажем, слабое пламя свечи, вызвав целую гамму чувств. Но говорить о «неторопливости» или «нетерпеливости» свечи, о способности рощи «ждать» или дома – гадать о собственной крепости, это мог только Пруст, и не один раз, а в каждом слове. Не вызвать взрыв чувств или убаюкивающее их колебание, но показать, как прочувствованность природы только и может диктовать единственный закон нашим догадкам – это задача Пруста.
После выхода книги едва не случилась дуэль с Жаном Лорреном, поэтом фей и деталей, которому книга Пруста однозначно не понравилась. Браня книгу, Лоррен метил скорее в Анатоля Франса, стремясь обвинить писателя в том, что такие как он любят не радости жизни, а свою маленькую славу, что они готовы производить шум вокруг чего угодно. В целом рецензия была не особо злая, даже отдающая должное искусству молодого автора, но в конце стоял ужасающий совет, что к следующему тому этих бесконечных любований должен написать предисловие славный Альфонс Доде, вообще непримиримый в вопросах стиля, но который на этот раз не сможет указать как надо писать. Это был коварный намек на чрезмерную, начавшуюся в лицее, дружбу Пру-ста с сыном Доде Люсьеном. Лоррен, денди и наркоман, увлекавшийся мужчинами и при этом состоявший в близких отношениях с Лианой де Пужи, танцовщицей и романисткой, которая стала прототипом прустовской Одетты, интимной подругой поэтессы Натали Клиффорд Барни, той самой роковой для всего Парижа американки, в которую был влюблен Реми де Гурмон, а через много лет она же счастливая жена, мать и монахиня, опекавшая умственно отсталых детей, – некогда едва не подрался на дуэли с Мопассаном, товарищем юности, которого окарикатурил в одном романе, так что и новая дуэль, к счастью, не состоявшаяся, была предрешена.
Вероятно, слух о дуэли привлек некоторое внимание к книге, но в целом она долго оставалась непрочитанной и ценимой немногими. Ее не признавали своей ни импрессионисты, как главные враги Пруста, ни символисты, с их поспешным возведением мостов от тонкости стиля к тонкости духовной проницательности – Пруст всегда напоминал, что ассоциативные мосты только мешают побывать на действительно торжественном бракосочетании смыслов, а пестование символов оскорбляет столь необоримую дружбу самых подходящих слов. Только великий роман Пруста объяснил широкому читателю, что воспоминание не измеряется количеством срочных уроков, но лишь срочностью действительно пережитого.
На русский язык «Утехи и дни» перевели Е. Тараховская, родная сестра поэтессы Софьи Парнок, сценарист фильма А. Роу «По щучьему веленью», и Г. Орловская. Редактор советского издания, Евгений Ланн, поэт и филолог, автор книг о Диккенсе и о литературных мистификациях, в поэзии последователь Максимилиана Волошина, был мэтром «буквалистов». В истории советского перевода буквалисты, торжествовавшие в 1920-е годы, со временем уступили место сторонникам художественного перевода, часто далеко отступающего от оригинала ради того, чтобы создать более цельный и сходный с духом оригинала образ: если буквалисты были гегельянцами, для которых буква участвует в диалектике Духа, то художественный перевод – кантианский, здесь важно, чтобы дух сразу присутствовал в произведении, независимо от тех конструкций, с помощью которых мы его понимаем. Евгений Ланн в чём-то был похож на Пруста, хотя салоны заменял ему театр – он был влюблен в актрису театра Вахтангова Любовь Синельникову и считал, что учится у нее ощущению бытия как постоянно усыновляемого смыслом. Пруста в те времена пытались переводить многие и в России, и в эмигрировавшей России, в частности Галина Кузнецова, возлюбленная Бунина, решившая создать и прустианство в своих стихах, например:
О, как легко над временем взлетать!Лети, лети, лазурная трирема!Отсюда нам не трудно вспоминатьСверкающие пастбища Эдема.Конечно, такой вариант воспоминания слишком напряжен, но Пруст бы оценил, что и в самом бурном полете, преодолевшем время, может быть «не трудно». Пусть легкость Пруста пребудет и с любым читателем этой книги. Дышать уже не будет больно, а поминать Пруста можно теперь с достаточным благоговением для того, чтобы его разглядеть.
А. В. Марков,
Профессор РГГУ и ВлГУ, в.н.с. МГУ имени М. В. Ломоносова
25 марта 2018 г.
Предисловие к первому французскому изданию
Почему он попросил меня рекомендовать его книгу вниманию любопытных читателей? И почему я обещал ему взять на себя этот чрезвычайно приятный, но бесполезный труд? Его книга подобна юному лицу, преисполненному редкого очарования и изысканной прелести. Она сама рекомендует себя, сама за себя говорит и, не желая того, сама предлагает себя читателю.
Несомненно, книга эта молода. Она молода молодостью автора. Но в то же время она стара старостью мира. Это весна листьев на древних ветвях столетнего леса. Кажется, будто новые побеги хранят печаль вековых лесов и носят траур по бесчисленным умершим веснам. Важный Гесиод посвятил пастухам из Геликона, пасшим коз, свои «Труды и Дни». Если, как утверждает английский государственный муж, жизнь может быть сносной без утех, – то и тогда книга «Утехи и Дни», посвященная светским людям – мужчинам и женщинам, – все же была бы печальнее «Трудов и Дней». И в книге нашего юного друга мы найдем усталые улыбки и утомленные позы, не лишенные, однако, ни красоты, ни благородства. Но в сочетании с необычайной наблюдательностью, гибкостью, проницательностью и подлинной тонкостью ума печаль этой книги в том виде, в каком она дана автором, покажется читателю приятной и разнообразной. Этот календарь Утех и Дней отмечает прекрасными изображениями неба, моря и лесов – дни природы и точными портретами и законченными жанровыми картинами – дни человека.
Марсель Пруст с одинаковым удовольствием описывает наскучившее великолепие заходящего солнца и суетное тщеславие сноба. Мастерски он изображает изящные горести и надуманные страдания, не уступающие, по крайней мере в своей жестокости, страданиям, которыми с материнской расточительностью наделяет нас природа. Я должен сознаться, что эти надуманные страдания, эти найденные человеческим гением горести – горести, созданные искусством, – кажутся мне бесконечно интересными и ценными, и я благодарен Марселю Прусту за то, что он изучил, с большим вкусом отобрал и описал несколько таких переживаний.
Он заманивает нас в тепличную атмосферу и держит там среди мудрых орхидей, чья странная и болезненная краса не вскормлена земными соками. Внезапно в насыщенном и восхитительном воздухе пролетает светящаяся стрела, молния, пронзающая тело, как луч немецкого доктора. А одной стрелой поэт проникает в глубину сокровенной мысли, невысказанного желания. В этом его манера и его мастерство. Делает он это с удивительной для такого молодого стрелка уверенностью. Он вовсе не невинен. Но в нем столько искренности и прямоты, что благодаря этому он кажется наивным и таким нравится нам. Он напоминает развращенного Бернардена де Сен-Пьера и наивного Петрония.
Счастливая книга! Она пройдет по городу, разукрашенная, благоухающая цветами, которыми осыпала ее Мадлен Лемер, расточающая своей божественной рукой и розы, и росы.
Анатоль Франс <1896>
Предисловие к первому русскому изданию
Мы как будто знаем современную литературную Францию. Переведены сотни книг современных французских мастеров, за истекшие несколько лет мы узнали десятки новых крупных имен. Мы следим за французской литературой сегодняшнего дня с большим вниманием, чем в дореволюционные годы; по статьям наших критиков и заметкам рецензентов мы знаем кривую ее послевоенного развития.
И однако, наша осведомленность весьма относительна – до сих пор мы не знаем Пру-ста! А ведь по неполным данным, имеющимся у нас, о Прусте с 1919 года во Франции написано сто пятьдесят пять статей и очерков, о нем издана монография, а в Англии, Америке (США), Германии, Бельгии и Швеции появилось восемнадцать очерков, не считая тех девяти, что были помещены в специальном номере «Nouvelle Revue Française», посвященном памяти Пруста, и подписаны были именами английских критиков.
Не всегда показательны цифровые данные, но в этом случае их убедительность сомнений не вызывает: Марсель Пруст – крупнейшее явление французской литературы, явление настолько значительное, что с выпадением Пруста из нашего поля зрения искажается для нас лицо сегодняшней литературной Франции. Подчеркивая принадлежность Пруста сегодняшнему дню, мы имеем в виду не только влияние Пруста на молодых французских романистов (Eugene Monfort в «Les Marges» за август 1924 г. останавливается на этом влиянии). Хотя Пруст умер в 1922 году – и по сей день еще не закончен печатанием основной труд его жизни – роман «А la recherche du temps perdu» («В поисках утраченного времени»), роман, который Пруст вначале хотел назвать «Содом и Гоморра», а затем, изменив это первоначальное решение, озаглавил «Содом и Гоморра» пятую часть своего романа – в три тома. Этот многотомный роман (редактирование которого взял на себя после смерти Пруста Jacques Riviere, умерший совсем недавно) еще и в наши дни целиком не опубликован (ныне последнюю часть романа «Le temps retrouve» – «Обретенное время» – редактирует Робер Пруст, брат писателя), и тем самым Пруст остался в «сегодняшнем дне» не только в силу своего влияния на молодых писателей Франции.