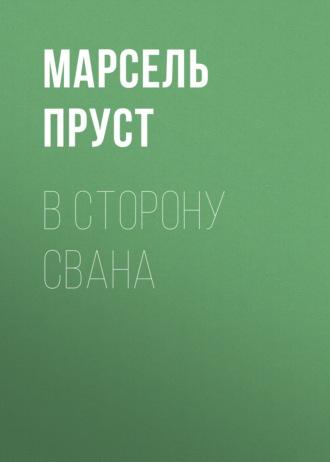
Марсель Пруст
В сторону Свана
– Ах, вы приехали слишком поздно, – сказала г-жа Вердюрен в ответ на приветствие одного «верного», которого она пригласила только к вечеру, – Бришо был у нас сейчас бесподобен, воплощенное красноречие! Но он уехал. Не правда ли, господин Сван? Я думаю вы в первый раз встречаетесь с ним, – сказала она с целью подчеркнуть, что именно ей Сван обязан знакомством с ученым. – Не правда ли, он прелестен, наш Бришо?
Сван вежливо поклонился.
– Нет? Он не заинтересовал вас? – сухо спросила г-жа Вердюрен.
– Нет, почему же, мадам, очень, я в восторге от него. Он только, пожалуй, немножко категорически высказывает свои суждения и немножко шумен, на мой вкус. Хотелось бы, чтобы иногда он высказывался с большей осторожностью, с большей мягкостью, но чувствуется, что у него много знаний, и в целом он производит впечатление очень симпатичного человека.
Разошлись очень поздно. Первыми словами Котара жене были:
– Редко случалось мне видеть г-жу Вердюрен в таком ударе, как сегодня вечером.
– Что такое, собственно, эта мадам Вердюрен? Сводня? – спросил Форшвиль у художника, которому предложил отправиться домой вместе.
Одетта с сожалением смотрела, как он уходил; она не посмела отказать Свану проводить ее, но была в дурном настроении в экипаже и, когда он спросил, можно ли войти к ней, отвечала: «Разумеется», нетерпеливо пожав плечами.
Когда все гости разошлись, г-жа Вердюрен сказала мужу:
– Обратил ты внимание, каким дурацким смехом смеялся Сван, когда мы говорили о г-же Ла Тремуй?
Она заметила, что, произнося фамилию этой дамы, Сван и Форшвиль несколько раз опускали частицу «де». Не сомневаясь, что это было сделано ими намеренно, с целью показать отсутствие почтительного преклонения перед титулами, г-жа Вердюрен желала бы подражать их независимому отношению к герцогине, но она не уловила в точности, какой грамматической формой должна выражаться эта независимость. И так как ошибочные обороты речи брали у нее верх над республиканской непримиримостью, то ей все еще невольно хотелось сказать «де Ла Тремуй» или, скорее, сделав сокращение в духе шансонеток или надписей под карикатурами, затушевывавших частицу «де», – «д'Ла Тремуй», но она вовремя спохватилась и сказала: «госпожа Ла Тремуй». «Герцогиня, как говорит Сван», – прибавила она с иронической улыбкой, показывавшей, что она только цитирует его слова, но не берет на себя ни малейшей ответственности за столь ребяческое и смешное величание.
– Доложу тебе, что я нашла его непроходимым дураком.
Г-н Вердюрен поддержал ее:
– Он неискренен, всегда лукавит, всегда виляет. Всегда хочет устроить так, чтобы и овцы были целы и волки сыты. Полная противоположность Форшвилю. Вот это человек, говорящий вам в глаза то, что он думает. Вам это или нравится, или не нравится. Совсем не то, что этот господин, который вечно ни рыба ни мясо. Впрочем, Одетта как будто отдает решительное предпочтение Форшвилю, и я вполне одобряю ее. И к тому же если Сван пытается разыгрывать перед нами роль светского человека, поборника герцогинь, то Форшвиль сам, по крайней мере, имеет титул; он всегда остается графом де Форшвиль, – деликатно заключил он свою речь, как если бы, будучи хорошо знаком с историей этого титула, он самым тщательным образом взвешивал его относительную ценность.
– Доложу тебе, – продолжала г-жа Вердюрен, – что он счел нужным направить несколько ядовитых и в достаточной мере нелепых замечаний по адресу Бришо. Понятное дело, раз он видел, что Бришо окружен любовью и уважением в нашем доме, то это было сделано с целью задеть нас, испортить наш обед. Знаю я таких: сердечные друзья семьи, ругающие вас на чем свет, едва только за ними закрылась дверь вашего дома.
– Но ведь я же всегда говорил это, – сказал в ответ г-н Вердюрен, – это просто неудачник; ничтожество, которое завидует всему, что обладает какой-нибудь значительностью.
В действительности ни один из «верных» не отличался большей благожелательностью к Вердюренам, чем Сван; но все они предусмотрительно сдабривали свое злословие какими-нибудь общеизвестными остротами, небольшой дозой душевной теплоты и сердечного участия; между тем как малейшая сдержанность, которую позволял себе Сван, не замаскированная в такие условные формулы, как: «Конечно, я не хочу сказать ничего дурного» (Сван гнушался унизить себя до них), казалась Вердюренам вероломством. Есть прекрасные оригинальные писатели, малейшая вольность которых возмущает публику, потому что они пренебрегли польстить ее вкусам и состряпать для нее общие места, к которым публика привыкла; точно такая же манера Свана приводила в негодование г-на Вердюрена. Как и у этих писателей, новизна языка была качеством, вселявшим подозрение, будто весь он наполнен черными намерениями.
Сван ничего не знал еще о немилости, грозившей ему со стороны Вердюренов, и продолжал видеть все их смешные ужимки в самом розовом свете, через призму своей любви.
Свидания с Одеттой, по крайней мере в большинстве случаев, происходили у него только по вечерам; дневными посещениями он боялся утомить ее; но ему все же хотелось непрестанно занимать ее мысли, и каждую минуту он старался найти повод привлечь к себе ее внимание, но так, чтобы это было приятно ей. Если его пленяли на витрине цветочного или ювелирного магазина цветочный куст или украшение из драгоценных камней, он тотчас решал послать их Одетте, воображая, что удовольствие, доставленное ему ими, будет испытано также и ею, что оно усилит ее нежные чувства к нему; и он приказывал немедленно отнести их на улицу Лаперуз, чтобы ускорить минуту, когда, благодаря вручению ей этого подарка, он почувствует себя как бы находящимся подле нее. Особенно хотелось ему, чтобы этот подарок был получен ею до ухода из дому, так, чтобы ее признательность обеспечила ему более нежную встречу, когда он увидит ее у Вердюренов, или, может быть, даже – кто знает? – если хозяин магазина выполнит его поручение с достаточной расторопностью, – побудила ее прислать ему до обеда письмо, а то и лично посетить его, сделать ему неожиданный визит, в знак благодарности. Как в прежние времена, когда притворно-негодующими письмами он вызывал у Одетты прилив особенной нежности, так теперь, пробудив в ней благодарность, он пытался извлечь из нее самые интимные частицы ее чувства, которые она никогда еще не открывала ему.
Часто бывали у нее денежные затруднения, и тогда, теснимая кредиторами, она просила Свана выручить ее. Он бывал счастлив помочь ей, как бывал счастлив сделать все, что могло укрепить в Одетте представление о его любви к ней или просто о его влиянии, о пользе, какую он способен был принести ей. Конечно, если бы в начале их знакомства кто-нибудь сказал ему: «Твое положение – вот что привлекает ее», и в настоящее время: «Только ради твоих денег она любит тебя», – он не поверил бы этому, да, впрочем, и не почувствовал бы большого негодования при мысли, что, в глазах его знакомых, она привязана к нему – они соединены друг с другом – такими мощными силами, как снобизм или деньги. Но если бы даже он допустил такую возможность, ему, пожалуй, не причинило бы никакого страдания открытие, что любовь к нему Одетты основывается на вещи более длительной, чем нежные чувства или привлекательные качества, которые она могла найти у него: на соображениях выгоды – выгоды, которая навсегда предотвратит наступление дня, когда у нее могло бы возникнуть желание порвать с ним. В данную минуту, осыпая ее подарками, оказывая ей всевозможные услуги, он мог положиться на преимущества, не содержащиеся в его личности, в его уме, мог отказаться от изнурительных усилий делать привлекательным себя самого. И это наслаждение быть влюбленным, жить одной только любовью, реальностью, в которой он иногда сомневался, еще больше повышалось в его глазах благодаря значительным, в общем, деньгам, которые ему приходилось платить за него, в качестве любителя нематериальных ощущений, – вроде того как люди, сомневающиеся, действительно ли зрелище моря и шум морских волн способны доставить им наслаждение, приобретают в этом уверенность, как равно и в высоком благородстве и полнейшем бескорыстии своих чувств, уплачивая по сто франков в день за комнату в отеле, из которой можно наблюдать это зрелище и слышать этот шум.
Однажды размышления такого рода привели ему на память время, когда кто-то охарактеризовал ему Одетту как женщину, живущую на содержании, и он снова позабавился сопоставлением этого странного персонажа: женщины, живущей на содержании, – отливавшего радужными цветами сплава каких-то неведомых дьявольских качеств, украшенного, словно одно из видений Гюстава Моро, ядовитыми цветами вперемежку с драгоценными камнями, – и Одетты, на лице которой он подмечал выражение тех же самых чувств жалости к несчастным, возмущения несправедливостью, благодарности за оказываемые ей услуги, какие он наблюдал когда-то на лице своей матери и на лицах своих друзей, – Одетты, так часто касавшейся в своих разговорах вещей, известных ему как нельзя лучше, его коллекций, его комнаты, его старого слуги, банкира, у которого он держал свои бумаги; тут мысль о банкире напомнила ему, что скоро он должен будет обратиться к нему за деньгами. В самом деле, если в текущем месяце он не окажет Одетте такой щедрой помощи в ее материальных затруднениях, какая была оказана им в минувшем месяце, когда он подарил ей пять тысяч франков, и если не поднесет ей бриллиантового ожерелья, о котором она так мечтала, то убудет ее восхищение его щедростью, убавится ее признательность, наполнявшая его таким счастьем, и он рискует даже посеять в ней мысль, что сама его любовь к ней, как она может заключить об этом по большей скромности ее внешних проявлений, пошла на ущерб. Тогда он вдруг спросил себя, не есть ли это как раз то, что называют «содержанием» женщины (как если бы понятие «содержания» могло быть действительно построено не из таинственных элементов распутства, а из самых повседневных мелочей его интимной жизни, вроде, например, тысячефранкового кредитного билета, такого простого и обыденного, разорванного и подклеенного, который его камердинер, оплатив его счета и внеся деньги за квартиру, запер в ящик старого письменного стола, откуда Сван достал его и послал Одетте, вместе с четырьмя другими такими же билетами), и нельзя ли приложить к Одетте, с тех пор как он познакомился с нею (ибо ни на одну секунду он не допускал, чтобы она могла раньше брать деньги от кого-нибудь другого), этот так, по его мнению, несовместимый с нею эпитет: «содержанка». Он не способен был исследовать эту мысль глубже, потому что приступ умственной лени, которая у него была наследственной и периодически посещала его, приводя часто к роковым последствиям, потушил в этот миг в его мозгу всякий свет с такой быстротой, с какой впоследствии, когда повсюду было проведено электрическое освещение, можно было выключить электричество в целом доме. Мысль его одно мгновение брела ощупью в потемках, он снял очки, вытер стекла, провел рукою по глазам и увидел свет, только оказавшись лицом к лицу с совсем другой мыслью, именно, что ему нужно постараться послать Одетте в ближайший месяц шесть или семь тысяч франков вместо пяти, просто для того, чтобы сделать ей сюрприз и обрадовать ее.
В те вечера, когда Сван не оставался у себя дома в ожидании часа встречи с Одеттой у Вердюренов или, вернее, в одном из излюбленных Вердюренами ресторанов на открытом воздухе: в Булонском лесу и особенно в Сен-Клу, он шел обедать в один из тех элегантных домов, где был когда-то завсегдатаем. Он не хотел терять связей с людьми, которые – как знать? – может быть, когда-нибудь окажутся полезными Одетте и благодаря которым ему и теперь часто удавалось доставлять ей удовольствие. К тому же так давно приобретенная им привычка к светскому обществу, к роскоши поселила в нем, наряду с презрительным отношением к этому миру, острую потребность в нем, так что в тот момент, когда самые скромные квартирки стали казаться ему совершенно равноценными пышным княжеским дворцам, чувства его настолько свыклись с этими дворцами, что ему было несколько не по себе, когда он находился в обстановке среднего буржуазного дома. Он относился совершенно одинаково – до такой степени одинаково, что они никогда не поверили бы этому – к мелким чиновникам, приглашавшим его на танцевальные вечера (лестница Д, пятый этаж, площадка налево), и к принцессе Пармской, задававшей самые блестящие балы в Париже; но он не получал впечатления, что находится действительно на балу, помещаясь с отцами семейства в спальне хозяйки дома, и вид умывальников, прикрытых салфетками, и кроватей, превращенных в раздевальные, на парадные одеяла которых сваливались пальто и шляпы, действовал на него приблизительно так, как может подействовать в настоящее время на людей, уже два десятка лет привыкших к электрическому освещению, запах коптящей лампы или чадящего ночника. Когда он обедал в городе, то приказывал закладывать лошадей в половине восьмого; переодеваясь, он все время думал об Одетте, так что не чувствовал себя в одиночестве, ибо постоянная мысль об Одетте сообщала минутам, когда он находился вдали от нее, то же самое своеобразное очарование, какое было присуще минутам, проведенным в ее обществе. Он садился в экипаж, но чувствовал, что вслед за ним туда вскакивает его мысль и усаживается у него на коленях, как балованное животное, которое водят с собой повсюду и которое будет сидеть подле него за обеденным столом, оставаясь не замеченным соседями. Он гладил и ласкал свою мысль, согревался ее теплом и, засовывая в петличку букетик голубков, ощущал некоторую томность, отдавался во власть нервной дрожи, щекотавшей, ему шею и нос и совсем для него новой. Чувствуя себя с некоторых пор нездоровым и печально настроенным, особенно после того как Одетта познакомила Форшвиля с Вердюренами, Сван хотел бы съездить в деревню немного отдохнуть. Но он не мог набраться мужества покинуть Париж хотя бы на один день, в то время как Одетта оставалась там. На дворе было жарко; стояли самые прекрасные весенние дни. Напрасно колесил он по каменному городу, отправляясь с визитами в закупоренные особняки: перед глазами у него непрестанно стоял принадлежавший ему парк под Комбре, где с четырех часов дня, не доходя до рассадника спаржи, благодаря ветерку, веявшему с полей Мезеглиза, можно было наслаждаться в тени грабовой беседки или на берегу пруда, опоясанного лентой незабудок и сабельника, предвечерней свежестью, и где вокруг обеденного стола протягивались выращенные его садовником кусты смородины и розы.
После обеда, если свидание в Булонском лесу или в Сен-Клу было назначено рано, Сван, встав из-за стола, уезжал так поспешно – особенно когда собирался дождь и можно было опасаться, что «верные» разойдутся раньше обычного, – что однажды принцесса де Лом (у которой обедали поздно, и Сван уходил еще до кофе, чтобы успеть встретиться с Вердюренами на острове в Булонском лесу) заметила:
– Право, если бы Свану было на тридцать лет больше и он страдал недержанием мочи, то его поспешный уход можно было бы извинить. Но все же он издевается над обществом.
Он говорил себе, что очарование весны, которым он не может насладиться в Комбре, будет им найдено, по крайней мере, на Лебедином острове или в Сен-Клу. Но так как он мог думать только об Одетте, то не знал даже, ощутил ли он запах листьев и светила ли луна. Появление его приветствовалось коротенькой фразой из сонаты, исполнявшейся в саду на ресторанном рояле. Если рояля в саду не оказывалось, то Вердюрены принимали все меры, чтобы он был туда доставлен из кабинетов или из общей залы; объяснялось это вовсе не тем, что Сван снова вошел к ним в милость, ничуть. Но мысль организовать затейливое развлечение для кого-нибудь, даже для человека, которого они не любили, вызывала у них, во время необходимых приготовлений, мимолетные и неглубокие чувства симпатии и сердечности. Иногда он говорил себе, что вот проходит еще один весенний вечер, и принуждал себя взглянуть на деревья, на небо. Но возбуждение, в которое приводило его присутствие Одетты, а также легкий озноб, не покидавший его с некоторых пор, лишали его спокойствия и душевного равновесия, этого необходимого фона для восприятия впечатлений, доставляемых нам природой.
Однажды, приняв приглашение Вердюренов пообедать вместе с ними, Сван заявил за столом, что на следующий день ему необходимо быть на банкете, устраиваемом группой его старых товарищей: в ответ на это заявление Одетта воскликнула во всеуслышание, в присутствии Форшвиля, который был теперь одним из «верных», в присутствии художника, в присутствии Котара:
– Да, я знаю, что у вас завтра банкет; я увижу вас, значит, только у себя, но приходите не очень поздно!
Хотя Сван никогда еще не относился сколько-нибудь подозрительно к знакам дружеского внимания Одетты, обращенным к тому или другому из «верных», но ему было очень приятно, когда она признавалась таким образом при всех, со спокойным бесстыдством, в их ежедневных вечерних свиданиях, в его привилегированном положении возле нее, то есть в том, что ему оказывается предпочтение. Конечно, Сван часто сознавал, что Одетта ни в какой мере не была женщиной замечательной; и верховная власть, которой он располагал над существом, стоявшим столь бесконечно ниже его, не содержала в себе ничего сколько-нибудь лестного, так что ею не стоило хвастать перед «верными»; однако с той поры, как он заметил, что многим мужчинам Одетта казалась женщиной обольстительной и желанной, обаяние, заключенное для них в ее теле, пробудило в нем мучительную потребность добиться безраздельной власти над нею, подчинить себе самые сокровенные движения ее сердца. И он начал придавать огромное значение минутам, проведенным у нее вечером, когда он усаживал ее себе на колени, заставлял говорить, что она думает о той или другой вещи, – когда перебирал те единственные земные блага, обладание которыми было ему еще дорого. Вот почему после этого обеда он отвел Одетту в сторону и стал горячо благодарить ее, стараясь показать ей размерами своей признательности, какие огромные наслаждения она способна была доставить ему; самым высшим из этих наслаждений было оградить его на время, пока будет длиться его любовь и он будет уязвимым в этом отношении, от приступов ревности.
Когда он покинул на другой день банкет, шел проливной дождь, а между тем в его распоряжении была одна только виктория; кто-то из друзей предложил отвезти его домой в закрытом экипаже, и так как Одетта самым фактом его приглашения к себе вселила в него уверенность, что она никого не ожидает, то он мог бы с душевным удовлетворением и спокойным сердцем возвратиться домой спать, вместо того чтобы ехать, таким образом, под дождем в виктории. Но вдруг Одетта, увидя, что он недостаточно дорожит своим правом проводить с нею всегда, без единого исключения, конец вечера, перестанет уделять ему эти поздние часы как раз в то время, когда они будут особенно необходимы ему?
Он приехал к ней после одиннадцати часов, и в ответ на извинение, что он не мог вырваться раньше, Одетта стала жаловаться, что действительно сейчас очень поздно, гроза вызвала у нее недомогание, головную боль; она объявила, что не позволит ему оставаться больше получаса и в двенадцать часов выпроводит вон; вскоре она почувствовала усталость и захотела спать.
– Значит, сегодня не будет катлей? – спросил он. – А я так рассчитывал на одну хорошую маленькую катлею.
Но она ответила немного раздражительным и нервным тоном:
– Нет, дорогой, не нужно сегодня катлей; разве ты не видишь, что я больна?
– Может быть, тебе от этого станет лучше, но, впрочем, я не настаиваю.
Она попросила его потушить свет перед уходом; он задернул занавески у ее кровати и удалился. Но когда он возвратился домой, ему вдруг пришло в голову, что, может быть, Одетта ожидала кого-нибудь сегодня вечером, что она только притворилась усталой и попросила его потушить свет только для того, чтобы внушить мысль, будто она собирается спать, что тотчас по его уходе она вновь зажгла огонь и впустила того, кто должен был провести с нею ночь. Он взглянул на часы. Прошло уже почти полтора часа с тех пор, как он покинул ее; он вышел из дому, взял извозчика и велел ему остановиться у самого ее дома, в переулке, перпендикулярном той улице, куда выходила задняя часть ее дома и откуда он стучал иногда в окно ее спальни, чтобы она вышла ему открыть; он сошел с экипажа; было совершенно пустынно и темно в этом квартале; едва только сделав несколько шагов, он очутился у самого ее дома. Посреди ряда тускло блестевших окон, за которыми свет давно уже был погашен, он увидел только одно, откуда изливался – сквозь щели ставен, как бы выжимавших из него таинственный золотистый сок, – свет, который наполнял комнату и столько раз, едва только он издали замечал его, дойдя до этой улицы, радовал его сердце и возвещал ему: «Она там и ожидает тебя», и который теперь терзал его, говоря ему: «Она там с тем, кого она ожидала». Он хотел узнать, с кем именно; прокрался вдоль стены до окна, но не мог ничего увидеть между косыми полосами решетчатых ставен; расслышал только в тишине ночи ночные звуки разговора. Как он страдал при виде этого света, в золотистой атмосфере которого двигалась по ту сторону наглухо закрытого окна невидимая омерзительная парочка, при звуках доносившихся до него голосов, выдававших присутствие того, кто проник туда после его ухода, лживость Одетты и наслаждения, которые в этот миг она вкушала с незнакомцем!
И все же он был доволен тем, что пришел: душевная мука, вынудившая его бежать из дому, потеряв неопределенность, потеряла также и остроту – теперь, когда другая жизнь Одетты, над которой впервые в этот миг для его бессильных взоров внезапно приоткрылась завеса, была вот здесь, рядом, так что он почти прикасался к ней, ярко освещенная лампой, в не сознаваемом ею плену у этой комнаты, куда, если он захочет, он может проникнуть и захватить ее врасплох; или, скорее, он постучит в ставню, как он часто делал это, когда приходил очень поздно; таким образом, Одетта будет осведомлена, по крайней мере, что ему все известно, что он видел свет и слышал разговор; и он, минуту тому назад представлявший ее себе насмехавшейся над ним, радовавшейся вместе с другим тому, как ловко ей удалось провести его, – он видел теперь, как, продолжая пребывать в своем заблуждении, они сами были проведены и пойманы в западню не кем иным, как им, Сваном, который, по их мнению, был за версту отсюда, между тем как он находился здесь, своей собственной особой, и знал уже, что сейчас постучит в ставню. И может быть, то почти приятное ощущение, которое он испытывал в настоящий момент, было совсем не успокоением сомнения, не облегчением боли: может быть, оно было удовольствием чисто интеллектуального порядка. Если с тех пор, как он стал влюбленным, вещи вновь приобрели для него до некоторой степени привлекательность, которую он находил в них когда-то, но только в тех случаях, когда они бывали освещены мыслью, воспоминанием об Одетте, то теперь ревность оживляла в нем другую способность его любознательной юности: страсть к истине, но истине, тоже помещавшейся между ним и его любовницей, получавшей свой свет только от нее, истине чисто личной, единственным объектом которой, бесконечно драгоценным и почти лишенным субъективной окраски в своей абсолютной красоте, были поступки Одетты, ее знакомства, ее планы, ее прошлое. Во всякий другой период его жизни повседневные поступки и слова какого-нибудь лица всегда казались Свану лишенными значения; если ему передавались сплетни о таких вещах, он пропускал их мимо ушей, а когда слушал их, то интерес к ним проявляла только самая низменная, самая вульгарная часть его ума; в такие минуты он явственно ощущал свою посредственность. Но в этом странном периоде любви личность другого человека приобретает такую необыкновенную глубину, что любопытство по отношению к самым мелким подробностям повседневных занятий какой-то заурядной женщины, пробуждение которого он теперь чувствовал в себе, было тем самым любопытством, с каким он изучал когда-то историю. И все поступки, которых он устыдился бы до сих пор: выслеживание под окном, а завтра – кто знает? – может быть, искусно заданные вопросы каким-нибудь случайным свидетелям, подкуп слуг, подслушивание у дверей, – казались ему теперь, подобно расшифрованию текстов, сопоставлению показаний и интерпретации старинных памятников, только методами научного исследования, обладающими бесспорной логической ценностью и вполне позволительными при отыскании истины.
Собираясь уже стукнуть в ставню, он почувствовал приступ стыда при мысли, что Одетта узнает о его подозрениях, о его возвращении, о его стоянии под окном на улице. Она часто говорила ему о том, как противны ей ревнивые мужчины, выслеживающие любовники. Поступок, который он собирался совершить, был крайне бестактным, и отныне она навсегда возненавидит его, между тем как сейчас, в настоящую минуту, покуда он еще не постучал, она, может быть, даже его обманывая, любит его. Сколь часто возможное счастье приносится таким образом в жертву нетерпеливо требуемому немедленному наслаждению. Но желание знать истину было сильнее и показалось ему более благородным. Он был уверен, что за этим изборожденным световыми полосками окном, – как за тисненным золотом переплетом одной из тех драгоценных рукописей, к самому художественному богатству которых обращающийся к ним ученый не в силах отнестись равнодушно, – можно прочесть какие-то важные события, за точное восстановление которых он отдал бы жизнь. Он испытывал страстное желание знать до глубины души волновавшую его истину, заключенную в этом единственном, летучем и драгоценном списке, на этой просвечивающей странице, такой прекрасной, так согретой жизненным теплом. И к тому же преимущество, которое он чувствовал – которое так жадно хотел чувствовать – над ними, заключалось, может быть, не столько в знании, сколько в возможности показать им, что он знает. Он стал на цыпочки. Стукнул. Его не услышали; он стукнул еще раз, сильнее; разговор оборвался. Мужской голос – он напряг слух, чтобы различить, кому из известных ему знакомых Одетты он мог принадлежать, – спросил:
– Кто там?
Ему не удалось разобрать. Он стукнул еще раз. Окно открылось, затем открылись ставни. Теперь было поздно идти на попятный, и так как сейчас она узнает все, то, чтобы не показаться слишком несчастным, слишком ревнивым и любопытным, он крикнул небрежным и веселым тоном:
– Не беспокойтесь, я проходил мимо, увидел свет и захотел узнать, лучше ли вам.
Он взглянул. Перед ним в окне стояли два старика, один из них с лампой в руке; и тогда он увидел комнату, комнату незнакомую. Привыкнув во время поздних своих посещений Одетты узнавать ее окно по тому признаку, что из всех похожих окон оно одно только было освещено, он ошибся и постучал в следующее окно, принадлежавшее соседнему дому. Кое-как извинившись, он удалился и поспешил домой, обрадованный тем, что удовлетворение его любопытства не нанесло их любви никакого ущерба и что, после столь продолжительной симуляции некоторого равнодушия к Одетте, он не дал ей, проявлением ревности, доказательства чрезмерной любви к ней, доказательства, навсегда освобождающего любовника, который получает его, от обязанности любить достаточно сильно. Он ничего не сказал ей об этом злоключении, сам даже перестал думать о нем. Но по временам мысли его, блуждая, встречали на своем пути не замеченное ими воспоминание, задевали его, погружали глубже, и Сван внезапно чувствовал глухую боль. Боль эта была как бы физической, ибо мысль Свана была бессильна облегчить ее; но хорошо, если бы она была только физической, ибо физическая боль независима от мысли, мысль может сосредоточиться на ней, констатировать, что она уменьшилась, что она на мгновение прекратилась! Его же боль мысль воссоздавала, воссоздавала простым припоминанием ее. Решение не думать о ней само было мыслью о ней, само заставляло страдать от нее. И когда, в разговоре с друзьями, он забывал свою боль, вдруг чье-нибудь случайное слово искажало ему лицо, как оно искажается у раненого, когда чья-нибудь неловкая рука неосторожно прикасается к больному месту. Покидая Одетту, он бывал счастлив, чувствовал спокойствие, вспоминал насмешливые улыбки, с какими она говорила о том или другом из их знакомых, и улыбки нежные, обращенные к нему; вспоминал тяжесть ее головы, которую она выводила из положения равновесия и наклоняла, роняла, почти против воли, на его губы, как сделала это впервые в экипаже; вспоминал томные взгляды, которые она бросала на него, находясь в его объятиях и то и дело зябко прижимаясь к его плечу своей склонившейся головой.
Но тотчас его ревность, словно она была тенью его любви, рисовала ему двойника этой новой улыбки, которою она приветствовала его не далее как сегодня вечером – и которая теперь, напротив, насмехалась над Сваном и была полна любовью к другому, – этого наклона головы, но в сторону других губ, и всех знаков нежности, выказанных ею к нему и даримых теперь другому. И все сладостные воспоминания, которые он уносил от нее, являлись как бы эскизами, набросками (подобно тем, что представляет декоратор), позволявшими Свану составить себе представление об исступленных или замирающих позах, которые она могла принимать в чужих объятиях. Доходило до того, что он начинал сожалеть о каждом наслаждении, которое он вкушал с нею, о каждой придуманной им ласке, в сладости которой он имел неблагоразумие ей признаваться, о каждой прелести, которую он открывал в ней, ибо он знал, что мгновение спустя они обогатят новыми орудиями его пытку.
Пытка эта делалась еще более жестокой, когда Сван припоминал одно беглое выражение, впервые подмеченное им несколько дней тому назад в глазах Одетты. Это было после обеда, у Вердюренов. Оттого ли, что Форшвиль, почувствовав, в какой у них немилости Саньет, его зять, решил избрать его своей мишенью и блеснуть перед ними на его счет, оттого ли, что он был раздражен неудачным замечанием, которое Саньет сделал ему, хотя это замечание прошло не замеченным остальными гостями, не понимавшими, какой оскорбительный намек оно могло заключать в себе, тем более что Саньет произнес его без всякой задней мысли, оттого ли, наконец, что с некоторых пор Форшвиль искал повода выпроводить из дома человека, который знал о нем слишком много и был настолько деликатен и благороден, что в иные минуты он чувствовал себя смущенным одним только его присутствием, – во всяком случае, он ответил на это неудачное замечание Саньета так грубо, начав пересыпать свои слова оскорблениями и все более подзадориваемый, по мере того как он кричал громче, испуганным и страдальческим видом, а также мольбами своей жертвы, что несчастный Саньет, спросив у г-жи Вердюрен, может ли он оставаться, и не получив ответа, удалился, невнятно бормоча извинения, со слезами на глазах. Одетта безучастно созерцала всю эту сцену, но когда дверь за Саньетом закрылась, она, так сказать, понизила на несколько ступенек обычное выражение своего лица, чтобы, в смысле пошлости, оказаться на уровне Форшвиля; в глазах ее блеснула лукавая улыбка, одобрявшая дерзкую выходку Форшвиля и проникнутая ироническим сожалением по отношению к его злополучной жертве; она бросила на Форшвиля взгляд соучастницы в преступлении, так явственно говоривший: «Ну, с ним теперь покончено, или я ничего в этом не понимаю. Обратили вы внимание на его пристыженный вид? Он плакал навзрыд», – что Форшвиль, встретив этот взгляд, мгновенно отрезвел от гнева, или симуляции гнева, которым он еще пылал, улыбнулся и ответил:







