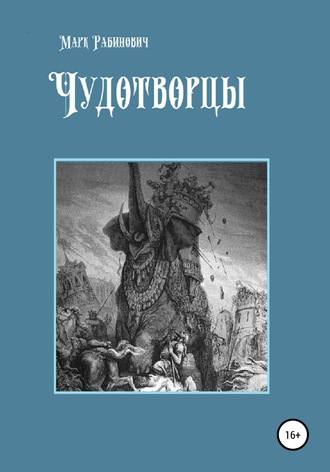
Марк Рабинович
Чудотворцы
– Горит? – взволновано спрашивал он первым делом.
– Горит – подтверждал маккавей, и больше они об этом не упоминали до конца вечера.
– Храм, конечно, не тот, что был до осквернения – рассказывал Симон – Но все же он снова стал Храмом. И люди идут в него не только со всех концов Иудеи, но и из-за ее пределов.
Так прошло семь дней, наступил восьмой, а Менора все еще горела и масло в ней все не кончалось. Неужели, я так удачно изменил форму лампад, думал он. Наконец, пришел радостный Симон и рассказал, что прибыло новое масло из Галилеи. Маккавей явно испытывал облегчение, Публий тоже, но он никак не мог понять странные взгляды, которые бросал на него Симон.
– В чем дело? – спросил Публий.
– Как ты думаешь, что произошло в храме? Тебе не кажется это чудом?
– Тоже мне чудо – скептически сказал инженер – Просто удачная конструкция.
– Возможно, не спорю. А ты не хочешь проверить?
Публий хотел, очень даже хотел. На следующий день ему принесли лампаду, такую же, какие были на Меноре, и такой же по размеру кувшинчик масла. Забросив все дела и оставив Ниттая присматривать за строительством машин, он наблюдал как горит в лампаде осьмушка масла из кувшина. Он пытался изменить форму лампады и так и этак, но с большим трудом ему удалось добиться двух с половиной дней горения.
– Это что же получается? То, что случилось там, в Храме было чудом? Не делом рук человека, а волей вашего Бога? Значит я понапрасну колдовал над лампадами?
– Дурак! – вскричал Симон – Нет, зря я тебе ухо не проколол! Да если бы ты не сделал того, что ты сделал, то не было бы и никакого чуда! Дурак!
– Не понимаю – огорчился Публий – Кто же чудотворец? Я или Он?
– Вы оба! – взревел маккавей – Как ты еще до сих пор этого не понял? Только еврей и его Господь могут творить чудеса! И только вместе!
– Но я же не еврей! – возразил инженер.
– Ты уверен?
Последнее было сказано так ехидно, что Публий принял бы это за насмешку, если бы не успел уже немного узнать своего собеседника. Нет, насмешка присутствовала, но была ли это только насмешка? Об этом следовало подумать наедине. И, чтобы сменить тему, он задал вопрос, который давно его мучил:
– Что произошло с Шуламит?
– С кем?
– С моей женой…
– Тебе виднее, ты там был.
– Не лукавь, Симон. Я о том, что случилось с ней до того.
Симон тяжело вздохнул, пошевелил угли в очаге и, наконец решившись, начал:
– Как ты уже слышал, она называет меня дядей, но это лишь потому, что я много старше ее. На самом деле она мне двоюродная сестра, а наши отцы было братьми. И все дело не в ней, а в ее отце…
– Как его звали?
– Он утратил свое имя, когда поменял его на эллинское, а его новое имя забыто.
– Он был филоэллином?
– Если бы он был всего лишь эллинистом! Тогда отец просто порвал бы с ним и на этом бы все кончилось. Все было много хуже.
Публий хотел было спросить, что могло быть хуже, но вспомнил рассказы Никандра и промолчал. А Симон продолжал свой тихий, неторопливый и очень тяжелый для него рассказ:
– Ее отец был не просто эллинистом, он был убежденным эллинистом. Поэтому он преследовал тех из нас, кто не готов был молиться чужим богам. А еще он был верным слугой Менелая. Ты знаешь, кто это?
Публий знал это имя только по бессвязным рассказам Агенора, но на всякий случай кивнул.
– У нас уже давно первосвященниками становились не самые достойные, а самые хитрые и беспринципные, особенно после того как на эту должность стали назначать иноземные цари – продолжал маккавей – Разумеется, они назначали не нее филоэллинов, суди хоть по их именам.`С времен Александра эта ползучая зараза проникала в наши дома и наши сердца. Ну подумай сам, как отличить то, что действительно хорошо в эллинизме, от того, что всего лишь привлекательно? Многие купились на это и попались на удочку эллинизма. Наверное, они все еще не вышли из египетского рабства и таскают свой "мицраим" с собой. Но, когда Антиох Великий, отец нашего Антиоха, начал быстрыми темпами закручивать гайки, многие филоэллины опомнились и поняли, что кроется за красивым фасадом олимпийских игр, красивой одежды и красивых святилищ, славящих красивых богов. Но отец твоей Шуламит был не из таких, он был упертым фанатиком эллинизации, почище наших хасидеев. Ты не забыл, что сын Великого Антиоха, Антиох Эпифан запретил нам молится по своему? И все это под страхом смерти. А кто должен следить за выполнением его указов в Иудее? Правильно, высокопоставленные филоэллины, и отцов брат стал одним из них. Тут уже одними словами не отделаешься, да он и не пытался. Поэтому на нем кровь многих из наших…
Симон, наверное, устал говорить горькие слова и несколько минут сидел молча, а потом продолжил:
– Однажды, отец пришел домой и сказал нам: "Мой брат заслуживает смерти и сегодня я пытался убить его. Это было бы милосердно, но у меня не поднялась рука на родную кровь. Горе мне – теперь его ждет худшая участь!". Я не понял тогда, что он имеет ввиду, но Йоханан, который умнее всех нас, сразу спросил с дрожью в голосе: "Неужели, херем?". Я не сразу понял, что в этом такого страшного, ведь дядя уже и так давно не общался с нами. Постой, да ты знаешь ли что такое "херем"?
Публий слышал это слово в разговорах и был уверен, что это такое ругательство.
– О, нет, это намного, намного хуже – грустно сказал Симон – "Херем" это нечто вроде проклятия. И отец проклял своего брата проклятием четвертой степени. Двадцать раз подряд он произнес, называя его по имени: "Проклят ты от земли, проклят ты от Бога, проклят ты от неба, проклят ты от всех животных". Этим он отлучил его от себя, от нас, от всего нашего мира. С тех пор ни один из тех, кто верил нашему отцу, а ему верили многие, не подал проклятому ни еды ни воды, ни слова, ни даже кивка головой. Он пыжился изо всех сил, делал вид, что ничего не случилось, но даже эллинисты отворачивались, когда проходили мимо. Куда бы он не пошел, вокруг него была пустыня, бесплодная и молчаливая. Ему оставалось или покинуть наши края или умереть. Уйти ему не хватило сил и воли, и он умер.
– Как он умер? – тихо спросил Публий.
– Он умер как трус и раб – процедил Симон – Тебе нужны подробности?
Публий помотал головой и вопросительно посмотрел на маккавея, как бы спрашивая: "А она?"
– После того, что произошло с ее отцом, она решила, что тоже проклята. Ее никто ни в чем не обвинял, мы все относились к ней с теплотой и осторожностью, но она сама считала себя виноватой. Что бы мы не говорили, в какие бы объяснения не пускались, ничего не помогало. Теперь, если с ней происходило что либо плохое, то она принимала это как кару и считала, что это наказание за преступления ее отца.
Публий продолжал смотреть на Симона и теперь его вопрошающий взгляд говорил: "А что бывало, когда с ней случалось хорошее?"
– А если с ней случалось хорошее, то она бежала этого, считая этот дар незаслуженным, а себя – недостойной. Именно так она и убежала от многого и многих.
– Где она сейчас? – Публий вскочил на ноги.
Он не сомневался, что его собеседник знает ответ, и он не ошибся.
– Она вернулась в Модиин.
– Почему, она избегает меня?
– Может быть потому, что считает это тем хорошим, что с ней произошло и чего она, по ее мнению, недостойна? А вот почему ты ее избегаешь?
– Потому, что дурак – обреченно сказал Публий – Мне срочно надо в Модиин.
– Боюсь, не выйдет – сказал внезапно возникший ниоткуда Иуда – Надо срочно укрепить Бейт-Цур. Его стены совсем обветшали. Ниттай справится без тебя?
Однорукий Ниттай быстро становился толковым инженером и, несмотря на свое увечье, вполне мог заменить его на строительстве машин. Особенно он увлекся идеей тяжелого онагра, предложенной Публием, но онагра пришлось отложить, так как осаждать крепости Иуда пока не планировал.
– Справится – проворчал он и поймал понимающий взгляд Симона.
Да, подумалось ему, Модиин придется отложить. Следующим утром он был в Бейт-Цуре, стены которого действительно держались на честном слове. Отсюда не было видно того склона, на котором он стоял с Ниттаем и Сефи против фаланг Лисия. А ведь тогда, перед боем, он даже не подозревал, что Бейт-Цур – это город, ему это казалось названием местности. Город оказался не бог весть каким большим, но стены, а точнее – останки стен, у него были. Разумеется, это были все те-же саманные кирпичи. На известковые стены у маккавеев не было ни времени ни средств, и восстанавливать пришлось теми же самыми глиняно-соломенными блоками, но на этот раз Публий предусмотрел на стенах позиции тяжелых баллист. Закончить работу ему не дали: гонец от Иуды привез устный приказ присоединиться к войску отправляющемуся в карательную экспедицию против аммонитян, устроивших на своей территории еврейские погромы. К армии он присоединился под стенами Храма и первым, кого он увидел, был Сефи. Красавец-хилиарх, выступавший во главе тысячи пехотинцев, встретил инженера веселым воплем:
– Кого я вижу? Публий, если не ошибаюсь? Кто ты теперь, раб или свободный?
– Свободный – улыбнулся Публий – А ты, я посмотрю, все также весел.
– Веселого-то мало – Сефи помрачнел – Не дают нам пожить спокойно.
– Я вроде слышал, что это мы идем на аммонитян, а не они на нас.
– Это сегодня, а знаешь сколько раз они на нас нападали? Вот и не говори… Пойдем на Гезер и покажем им как нападать на Иудею.
– Это для Иуды плевое дело, но почему ты так расстроен?
– Потому, что плохие вести доходят буквально отовсюду. Иудея всегда была лакомым куском, не случайно эллины на нее облизываются еще со времен Александра. А теперь всяким там адомитам и баянитам ох как не по душе пришлись наши победы. На нас они пойти не осмелятся, а вот со своими, местными евреями, они готовы расправиться хоть сейчас. И в Галилее сейчас плохо и в Идумее не лучше. Вот и приходится Иуде посылать войска в разные стороны. Симон бен Маттитьяху, к примеру, повел рати на север, в Галилею. Надеется он, слышал я, дойти до самой Птолемаиды. Вот где я бы побывал, люблю я море, хоть и видел его всего один раз. Говорят, от Гезера можно увидеть страну филистимлян, а там и море.
Публий удивился, представив Тасси ведущим войска, ведь до сих пор тот предоставлял Иуде возглавлять армию. Видно дела и вправду не слишком хороши.
– Смотри, Иуда едет – толкнул его Сефи – А конь у него хорош!
– Кто это рядом с ним? – спросил Публий.
Рядом с Маккабой, усевшись по-женски на мула, ехала женщина. Несомненно очень красивая, но совершенно непохожая на Шуламит, она поражала цветом своих волос. Если чудные темные волосы второй отблескивали медью на солнце, то спутница Иуды обладала целой гривой ярко-медных волос, выпущенных ею на плечи из-под наголовной повязки. Такие повязки носили замужние женщины и Публий воскликнул:
– Это его жена?
– Ее зовут Дикла – каким-то странным голосом отозвался Сефи – И она не жена. Она разведенная. а он коэн, поэтому они не могут поженится.
– Ты ее знаешь?
– Знаю – глухо ответил он.
За этим что-то крылось и Публий счел за лучшее ни о чем не расспрашивать. Иуда и Дикла проследовали вперед, армия тронулась за ними. Начались дожди и поход запомнился Публию чередой переходов и возней с баллистами. Дешевая древесина то разбухала от дождей то рассыхалась на солнце, кроме того повозки все время застревали на размытых дорогах и их приходилось вытаскивать, допрягая мулов. К счастью, баллисты и не понадобились. Осада Гезера с его земляными стенами, длилась недолго и его правитель, Тимофей, быстро сдал город иудеям, опасаясь разграбления. Иуда поставил там небольшой гарнизон во главе с Сефи и тот действительно увидел вдалеке море с невысоких городских стен. Сразу после занятия города произошло необычное…
Аммонитяне, несомненно, были родственны иудеям и говорили на похожем на иврит языке, который Публий с трудом, но понимал. Уже в Гезере выяснилось, что чуть ли не у половины иудейского войска обнаружились там родственники, а, вследствие того, что иудеи часто брали аммонитянок в жены, добрая часть воинов Иуды была по сути наполовину аммонитянами. На Тимофея, ставленника Антиоха, они имели зуб, но ничего не имели против своих двоюродных братьев, дядей и внучатых племянниц. Более того, они ожидали, что к аммонитянам будут относиться как к евреям. Несколько хасидеев, затесавшихся в войско пытались было затеять теологический спор, путая при этом аммонитян с моавитянами, а царя Давида, внука моавитянки с его сыном Соломоном, женатом на аммонитянке. Разозленные воины хотели их побить, хасидеям удалось бежать, а разгоряченные головы направились к Иуде, потрясая оружием. Маккаба, симпатии которого были на стороне его бойцов, сделал вид, что рассердился и заорал:
– Интересно, кто это ко мне пришел? Мои славные воины, защитники веры, или ученые мужи, сражающиеся стилами на папирусе? Я что, обидел кого-нибудь из местных или продал здесь кого-либо в рабство? Я и сам по молодости заглядывался на девиц из Гезера, мне ли вас не понять? Клянусь, что никого не обижу в этом городе, до тех пор, пока он не посягнет на нашу веру. Ну а вопросы крови будем решать так, как в Книге заповедано. По мне, так пусть примут обрезание, наденут тфилин и про пост не забывают. А после этого ждем их в нашем храме – места хватит.
Эта проникновенная речь сразу остудила страсти, а Публия заставила задуматься о том, кого же следует считать евреем. После этого, Иуда и Йонатан повернули свои войска и направились в Галаад, где доведенные до отчаяния евреи из последних сил отбивались от селевкидов в крепости Датема. Инженера Иуда оставил в Гезере и, помогая Сефи укреплять городские стены, тот неоднократно собирался отлучиться в Модиин, до которого был всего день пути, но что-то его все время останавливало. Наверное, это был просто постыдный страх, боязнь обнаружить, что его мечты – это всего лишь фантазии распаленного воображение, и что никто его там не ждет. Он понимал, что обязан объясниться с Шуламит, но малодушно оттягивал момент этого объяснения, все время клял себя за малодушие и постепенно становился противен самому себе, пока откладывать решение еще дальше стало невозможно. Наконец, он вышел в путь, сопровождаемый Сефи, который сам напросился в сопровождающие. Дорога до Модиина была хорошо утоптана и путники, выйдя утром по зимней прохладе, к полудню увидели цель своего пути далеко на холме.
– Кстати, Публий, а зачем мы туда идем? – спросил Сефи.
– Не знаю, зачем идешь ты, а я собираюсь наведаться к жене.
– Вот как? Так у тебя есть жена?
– Вроде бы…
– Ты что, не уверен в этом? – Сефи даже остановился и удивленно уставился на Публия.
Тот тоже остановился и сел на камень. Идти в Модиин ему расхотелось, точнее он безумно боялся и искал предлог, чтобы оттянуть встречу. Видя его колебания, Сефи достал из дорожной сумки хлеб, финики, вяленую козлятину и предложил перекусить. Когда они насытились, он пристально посмотрел на инженера и тихо сказал:
– Рассказывай, ты же хочешь рассказать…
Удивленный инженер вскочил на ноги, хотел было возмутиться, посмотрел в спокойные глаза хиллиарха и, не полностью отдавая себе отчет в том, что делает, рассказал ему про Шуламит почти все, опустив лишь подробности их первой встречи и их первой ночи. Закончив рассказ, Публий тут же пожалел о своей откровенности и с ужасом ждал первой фразы Сефи. Что это будет? Скабрезное замечание, выражение сочувствия или мудрый совет? Неважно! Сейчас он начнет говорить и мне захочется его тихо прирезать, чтобы он не сказал. Но то что он услышал не было ни тем, ни другим, ни третьим…
– Помнишь ту женщину, спутницу Иуды Маккаби, Диклу? – тихо сказал Сефи – Мы выросли с ней в соседних домах. Она всегда мне весело улыбалась, а у меня от этого замирало сердце… У тебя было так, что сердце пропускает удар? Наверно было… Вот я как раз об этом. Если сосчитать все удары сердца, которые я потерял, глядя на нее, то наверное получится небольшая жизнь. А она всего лишь улыбалась… Потом ее выдали замуж. Ты, наверное, спросишь, как же я? Но разве я, простой сын землепашца, мог пойти к ее отцу, знаменитому ученому. Впрочем, она могла бы и не послушаться отца, такой уж у нее характер. Вот только меня она не хотела, я был ей всего лишь другом, не более.
Он отвернулся и смотрел теперь куда-то вдаль, между недалеким Модиином, полями и стеной кедровника на горизонте. Надо бы ему что-то сказать, ободрить, подумал Публий, но тогда и ему захочется меня тихо прирезать. Нельзя тут ничего говорить, решил он, надо просто молча слушать. Сефи вздохнул и продолжил:
– Хотелось бы мне сказать, что ее муж был редкостной сволочью, но не скажу. Хотя и порядочным евреем он тоже не был, иначе не примкнул бы к эллинистам. Из-за этого Дикла от него и ушла, хорошо хоть детей у них не было. Она вернулась к отцу, а ко мне вернулась надежда. Ты же видишь, я отнюдь не урод, мне об этом говорили многие… женщины. Но оказалось, что ей не нужен красавец, у которого в голове даже меньше, чем в кошельке. То, что она искала, она нашла в Иуде, и я не удивился. Мне даже не было обидно, всего лишь горько. Ведь я готов отдать жизнь за любого из них. Ну, как тебе моя история?
Публий, не отвечая, поднялся и посмотрел на Сефи. Не знаю, сколько у него в кошельке, и сколько в голове, подумал он, а вот в сердце у него хватит на двоих. Теперь все было сказано, решение принято и он был благодарен Сефи, хотя вряд ли смог бы объяснить – за что. До Модиина оставалось всего-ничего и они дошли туда часа за два, а там их дороги разминулись.
Он снова вспомнил красавца-хилларха перед домом Хайи, потому что сердце начало давать сбои и он не мог заставить себя открыть дверь. Но открывать ее и не понадобилось – Шуламит стояла снаружи, прислонившись к камням стены и закрыв глаза. Неужели она ждала, подумал он. Да нет, невозможно, я же никого не предупредил. Он подошел и осторожно взял ее руку в свою. Ее пальцы безвольно повисли, а глаза по-прежнему были закрыты. Казалось, она не замечает его, не замечает ничего вокруг: ни дома, ни улицы, ни кривой акации за углом дома, ни колодца напротив. Ну, конечно, подумал он, у нее же закрыты глаза. Но даже открой она глаза, казалось она все так же будет смотреть в никуда, не видя ничего вокруг. Неимоверным усилием он пересилил темное отчаяние, нахлынувшее неоткуда, и заговорил. Потом он так и не смог вспомнить те слова, что порой шептал, а порой и кричал ей там у двери симонова дома. Кажется, он рассказывал ей о своей жизни, пустой и бессмысленной, потому что ее, Шуламит, не было в этой жизни. Еще он говорил о далекой стране, в которой родился и о доме, в котором вырос. Но это было так давно и теперь у него не было своего дома, а ведь каждому человеку нужно то место, куда он может вернуться и где его ждут. И он мечтал о доме и думал о той, что будет его ждать, а вот теперь оказалась, что ему нужна только она, и, если она не будет его ждать, то у него не будет места в этом мире. Вроде бы, он рассказал ей об отражении луны в глазах цвета темного песка и о солнце, проблескивающем через темную медь волос. А, может быть, он только хотел это сказать… И тогда она открыла глаза.
Как назло, тучи затянули небо и луны не было, а может быть – был безлунный конец месяца. Но над дверью догорал факел и он впился взглядом в ее глаза, как страстный любовник впивается в вожделенные губы. Если раньше в ее глазах не было ничего, то теперь там было все: безумие, страх, отчаяние и безысходность. А еще… Может быть ему это показалось, но еще там была робкая надежда. Потом она отвернулась и вошла в дом. Наверное, он мог бы последовать за ней, но он боялся спугнуть этот слабый проблеск надежды и, поэтому, ночевал на крыше, хотя ночи еще были прохладными.
Утром его разбудил Сефи, получивший приказ присоединиться к войску, выступающему на Явниэль. Вначале Сефи был безумно доволен своим новым назначением и убедил в этом Публия. Он рассказывал о богатстве приморского города, на который шел их корпус, о значении его для Иудеи, но на самом деле, как вскоре догадался инженер, он просто хотел искупаться в море.
Публий со своими двумя баллистами и Сефи с шестью сотнями его хиллиархии, присоединились к экспедиционному корпусу на приморской равнине южнее Гезера. Возглавляли войско два бывших хиллиарха, Азария бен Моше и Йосеф бен Закария. Были они молоды, энергичны, доброжелательны и веселы, а, к тому же, прекрасно ладили между собой, что редко бывает с полководцами одинакового ранга. Тем не менее, чем-то они не угодили Сефи. Пока войско медленно двигалось на юго-запад через приморскую равнину, он нашел нескольких друзей, из тех, что стояли вместе с ним при Бейт Цуре, и узнал странные новости. Оказалось, что Азария и Йосеф получили четкие указания от Иуды охранять Ерушалаим и ни в коем случае не двигать войска. Однако, узнав о преследовании евреев в Явниэле, они ослушались приказа и двинулись с четырехтысячным войском на юг. К тому же, выяснилось, что Явниэль находится вовсе не на море, а в четырех милях от него, что совсем уже расстроило хиллиарха.
– Не будет добра от этого похода – ворчал он – Ну посуди сам, какой нам резон штурмовать хорошо защищенный город с четыремя хиллиархиями? Я, конечно, не стратиг, но вовсе не обязательно лезть на стены, чтобы защищать наших братьев в Явниэле. По мне, так надо ударить на их порт, Явне-Ям, чтобы они образумились. От Явниеля до Явне-Ям стен нет, а без подвоза продуктов из Антиохии, им придется туго. Я уверен, что сожги мы десяток кораблей в гавани, как Горгий сразу воспылает любовью к евреям своего города.
Так Публий узнал, что они идут воевать с его старым знакомым. Возможно Сефи и влекло море, но его рассуждения показались инженеру разумными. Горгий же, считал Публий, хоть и потерпел постыдное поражение от Иуды под Эммаумом, продолжал оставаться опытным стратигом и опасным противником.
На следующий день войско вступило в филистимлянские земли, а еще через день вдали показались невысокие стены Явниэля. Уставшие воина рассчитывали на отдых, но Горгий их упредил. Только они приблизились к городу, как его ворота распахнулись и оттуда стали выбегать многочисленные гоплиты и пельтасты. Не успели иудеи опомниться, как под стенами города выстроились двенадцать фаланг гоплитов с отрядами пельтастов и немногочисленными всадниками на флангах. Затрубили фанфары и ощетинившиеся бронзой квадраты двинулись вперед по идеально гладкой равнине навстречу иудейскому войску. Мерный грохот сандалий, едва слышимый поначалу из-за расстояния, начал медленно приближаться и нарастать, поддерживаемый пением флейт и заунывным гудением фанфар. Азария и Йосеф, оба конные, понеслись в разные стороны, выстраивая и подбадривая бойцов. Публий с двумя помощниками начали лихорадочно выпрягать мулов и устанавливать баллисты. Мимо пробежал взволнованный Сефи и проорал:
– Несчастные придурки вышли без разведки и напоролись. Мы же не успеем подготовиться, а эти двое уже не успеют поумнеть! Надо отступать…
Но иудейские стратиги выкрикивали уже новые приказы и нестройные линии воинов потянулись навстречу врагу. Сефи схватился руками за голову:
– Что они делают?! Нельзя же так лезть на фалангу. Публий, стреляй скорее. Ну скорей же! Куда они прут, эти идиоты?
Однако баллисты успели дать только два залпа по наступающим. Каменная картечь проделала две бреши в передних рядах гоплитов, которые тут же затянули опытными ратники вторых рядов. Второй залп пришлось направить на задние ряды фаланг, потому что иудейские войны уже схватились с первыми рядами фалангистов. Стоя у заряженных баллист, Публий пытался понять, что происходит там, за пыльным облаком, скрывшем сражение. А там творилось страшное… Иудеям удалось, ценой больших потерь остановить продвижение центральных фаланг, но не расстроить ряды гоплитов. Вооруженные лучше сариссофоров, бившихся под Бейт-Цуром, они несли огромные, обитые бронзой щиты-гоплоны, непробиваемые ни мечом, ни копьем. Все же иудеи бились отчаянно и, в конце концов, даже начали теснить центральные фаланги, но это оказалось западней, хорошо продуманной опытным Горгием. По его команде, хорошо управляемое сирийское войско начало загибать фланги, окружая сражающихся иудеев своими крайними фалангами. В середине схватки иудеи бросались на острые копья-дори гоплитов, поднимали их вверх, доставали передних фалангистов мечом или секирой и гибли сами, заколотые сбоку гоплитским ксифосом или дротиком пельтаста. А в это время свежие фаланги гоплитов планомерно и неторопливо замыкали кольцо под непрерывный зуд флейт.
– Инженер, твою мать! – крикнул прибежавший Сефи – Да сделай же ты что-нибудь!
Публий опомнился и бросился к баллистам. Мысли бешенными скачками неслись в его голове под старым легионерским шлемом. Ударить по фланговым фалангам? Разбить эти стройные квадраты? Дать людям выбраться из ловушки? Но у них же бронза на щитах! На левом фланге поднимается невысокий холм… Это их, конечно, не остановит, даже не задержит, но можно будет бить снизу по ногам. Да, все верно, не трогать правую сторону, а бить только по левым фалангам!
И снова, как уже неоднократно бывало ранее, время разбилось на куски, на рваные отрезки. Вот он накатывает баллисту, кто-то помогает ему с другой стороны, навалившись на колесо, а ложка уже наполнена камнями. Вот он выстреливает раз за разом из каждой баллисты по очереди и видит, как смешались ряды гоплитов. Ага, сбоку-то щитов нет! Потом он видит как из-за его спины бегут куда-то вбок растерянные люди и их много. Внезапно раздается крик "спасайте инженера!". Это кричит Сефи, но о ком это он? Смотреть некогда, надо стрелять. Но что-то явно происходит за спиной, и теперь можно наконец обернуться, потому что в ложке нет камней. Он обернулся и в единый миг навсегда запечатлел картину, стоявшую потом перед его глазами всю жизнь…
Все трое его помощников лежали ничком около лафетов баллист один с дротиком в груди и двое с чем-то красным вокруг разбитых голов. Похоже было, что Горгий успел понять опасность баллист и пельтасты постарались. На земле вокруг его баллист и всюду куда доходил его взгляд лежали люди, некоторые молча и неподвижно, a некоторые – корчась и испуская стоны. Дальше стояла редкая стена людей с копьями, мечами и секирами: Сефи, Азария, поддерживающий раненого Йосефа, несколько знакомых, смутно знакомых и совсем незнакомых лиц, а на них неторопливо накатывалась фаланга гоплитов с выставленными вперед копьями. Две стены: стройная, ощетинившаяся наконечниками копий и закрытая бронзой, и неровная, выставившая свое разнокалиберное оружие, столкнулись. Но фаланге не удалось сломить строй иудеев одним, мощным ударом, поэтому фалангисты оставили строй и, выхватив свои ксифосы, бросились в свалку. Публий увидел двоих, навалившихся на Сефи. Первого тот немедленно зарубил одним сильным, размашистым ударом своей секиры, но инерция мощного замаха подставила его под удар второго. Сефи уже не успевал отбить страшный удар, но ему удалось подставить под него ребром удачно подвернувшийся ему под руку гоплон первого, рассеченного им врага. Инженер с ужасом увидел, как секира сирийца прошла через ребро щита, разметав бронзовые накладки и коснулась лица Сефи. Не издав ни звука, тот выронил свою секиру и схватился обеими руками за лицо. Гоплит занес свое оружие для последнего, решающего удара, и только тут Публий вышел из оцепенения и заметил, что он сжимает в руке чье-то копье. Неимоверным движением всех мышц он метнулся к Сефи, прихватив копье двумя руками и весь устремившись вперед, стремясь успеть, не дать нанести этот страшный удар. Он и гоплит ударили одновременно. Копье ударило в чешуйчатый доспех на груди врага, но не отбросило его назад, а лишь ослабило удар страшной секиры. Публий не видел что случилось с Сефи, он был занят. Он давил и давил на копье из всех сил и со злой радостью увидел, как острый наконечник раздвигает плохо пригнанные пластины и, разорвав тунику, входит в плоть. Он надавил из последних сил и, упав на поверженного им гоплита, увидел изумление в его светлых глазах. С трудом поднявшись, он успел увидеть Сефи, по-прежнему закрывающего руками лицо и успел увидеть струйки крови, стекающие из-под его ладоней. Еще он успел увидеть лезвие топора, падающего ему на голову, успел неловко подставить древко своего копья под удар, успел увидеть, как тусклое лезвие перерубает это древко, а больше уже ничего не видел…
Первое, что он увидел очнувшись, была огромная, разлапистая ветка дуба, сквозь листья которой было видно темное ночное небо, подсвеченное звездами. Я лежу, подумал Публий, я лежу и я жив. Страшно кружилась и болела голова, но чья-то маленькая, нежная рука гладила его волосы на затылке, осторожно прикасалась к вискам, ко лбу, и боль отступала. И еще были губы, они тоже убивали подлую боль своими мягкими, осторожными касаниями, а еще они что-то шептали эти губы и этот шепот был невыносимо приятен, вот только слов он не разбирал. И тогда боль постепенно затихла, ушла в тайное, скрытое место и там затаилась. Но он ведь знал, что она там и обязательно вернется, как только маленькая рука и мягкие губы исчезнут, он так боялся этого и даже попытался это сказать, но тут голове стало холодно и мокро. Тогда боль уснула и он тоже уснул.
Когда он пришел в себя в следующий раз, было раннее, холодное утро, но он был заботливо укрыт теплой овчиной. Не было ни звезд, ни дуба, ни маленькой ручки, ни мягких губ. Он сумел приподняться на локтях и увидел, что лежит на плоской крыше дома, по видимому – в какой-то деревне. Неподалеку виднелись еще два дома, небольшая роща и поле за ней. По лестнице поднялся человек и Публий узнал в нем сотника из хиллиархии Сефи.
– Сефи? – с тревогой спросил он, радуясь тому, что язык его слушается.
– Жив, жив – ответил сотник – И будет жить. Вот только…
– Что "только"?
– Сам увидишь – хмуро сказал сотник.
Публий попытался встать и это ему удалось. По-прежнему кружилась голова, но боль была терпимой. На голове у себя он обнаружил огромную шишку и неглубокую, затягивающуюся рану. Сотник рассказал ему, что отступающие бойцы, наткнулись на его тело, неподвижно лежащее около баллисты. Удар топора разрубил железный легионерский шлем, подарок Перперны, но застрял в твердой кожаной подкладке и лишь оглушил его, содрав кожу на голове. Бесчувственного Публий, окровавленного Сефи, стратига Йосефа и еще нескольких раненых бросили на повозку и начали медленно отступать прикрывая повозку наскоро выстроенной стеной щитов. К вечеру удалось оторваться от преследующих их селевкидов Горгия, и раненых разместили в лесочке, где ими смог, наконец, заняться лекарь. А следующим утром двинулись дальше, пока не достигли пределов Иудеи. Таким образом, как догадался инженер, он провалялся в забытие полтора дня.







