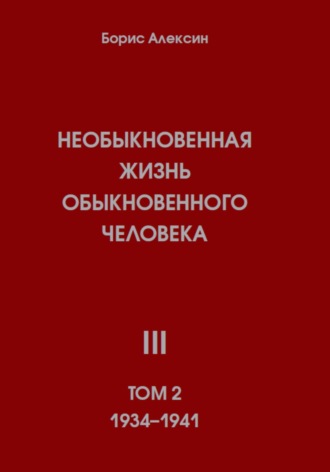
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 2
Глава девятая
Однажды, неожиданно для Бориса, да и для всей его семьи, в начале августа 1938 года во двор, как раз в то время, когда он у крыльца своего дома заканчивал варить борщ на «мангале», а все остальные отсутствовали: Катя – на работе, Эла – в городском пионерском лагере, Нина – в детсаду, а Майя – в яслях, открылась калитка, и в ней показались Анна Николаевна Алёшкина и Женя. Если маму, хотя и очень изменившуюся, похудевшую и заметно постаревшую, Борис узнал сразу, то брата он узнать не мог: за те семь лет, что они не виделись, Женя из худенького белобрысого подростка превратился в высокого стройного юношу. Увидев вошедших, с некоторым недоумением оглядывавшихся вокруг, Борис вскочил, сбросил фартук, которым был подпоясан, и подбежал к ним:
– Мама, Женя! Вот так сюрприз! Как же вы нас разыскали? Почему не телеграфировали? – забросал он их вопросами, одновременно обнимая и целуя маму, которая едва доходила ему до плеча, и брата, бывшего почти на полголовы выше его. – Вы только вдвоём? А где Люся? Боря? – опять задал он вопросы, не дожидаясь ответа на предыдущие.
Они так и не успели ничего ответить, как он опомнился и, оборвав себя на полуслове, сказал:
– Ой, да что же это я! Пойдёмте скорее в дом, разденетесь, умоетесь, и за стол сядем. Вон у меня уже борщ почти готов, и котлеты ещё вчерашние есть, и дыни вчера Катя принесла. Сядем, поедим, а там и ребята мои придут. Внуков своих, мама, увидишь.
Он проводил своих всё ещё молчавших гостей в комнату, показал, где умывальник, и пока они снимали верхнюю одежду и приводили себя в порядок, стал собирать на стол. Алёшкины всегда обедали в кухне, за стареньким кухонным столиком, накрытым недавно купленной клеёнкой.
Собрав приборы, поставив соль и нарезав хлеб, Борис принёс кастрюлю с борщом и начал наливать его в тарелки. Анна Николаевна и Женя всё ещё молча сели на стоявшие около столика табуретки, и только тут Борис обратил внимание на их странное поведение. Он спросил:
– Да что с вами? Что вы как в воду опущенные? Всё о папе грустите? – и тут, наконец, Анна Николаевна открыла рот.
– Эх, Борис, то уже перегорело… Было и ещё горе, а уж то, что произошло несколько месяцев назад, я и не знаю, как назвать, – её глаза наполнились слезами, и, так и не донеся первую ложку борща, она опустила её в тарелку и, достав платок, начала вытирать обильно покатившиеся по щекам слёзы.
Женя ласково погладил мать по руке и, обращаясь к Борису, сказал:
– Подожди, Бобли. Мама успокоится, покушает, и мы всё-всё тебе расскажем, за этим ведь и приехали… Мама, перестань. Кушай, всё ещё хорошо будет.
Борис был очень удивлён слезами мамы. Сколько он её помнил, он никогда не видел её плачущей. Он тоже хотел произнести какие-нибудь успокаивающие слова, как вдруг входная дверь распахнулась, и в кухоньку, сообщавшуюся с сенями никогда не закрывавшейся дверью, с криком вбежали две девочки: Эле было уже около 10 лет, а Нине три года.
– Папа, – кричала младшая, – скажи Элке, чтобы она мне шелковицы нарвала, а то она не хочет!
Старшая, видно, приготовившись ответить сестре, запнулась на полуслове, заметив посторонних.
– Да ладно, нарву! Ой, папа, у нас гости? Кто это? – спросила она вполголоса у подошедшего отца.
Нина, вбежав на кухню, так растерянно остановилась, что Анна Николаевна и Женя невольно улыбнулись. Заметив эту улыбку, Нина сорвалась с места и мгновенно скрылась в комнате. Борис, между тем, взял за руку Элу и подвёл её к столу.
– Вот, мама, моя старшая, Эла, которую ты из роддома во Владивостоке привезла. Это твоя бабушка, – обратился он к дочке, – а это твой дядя, дядя Женя.
Эла смущённо подошла к столу. Анна Николаевна встала, поцеловала внучку и, видимо, немного оправившись, спросила:
– А что же младшая убежала? Она нас боится?
– Да нет, бабушка, не боится, она у нас с норовом, – ответила Эла, – сейчас я её приведу.
– Да она, мама, уже и не младшая, – усмехаясь, сказал Борис, – она средняя. Младшую нашу, Майю, Катя принесёт, когда с работы придёт. Да вы ешьте, ешьте, а то борщ остынет, потом обо всём поговорим. Я пойду котлеты разогрею, а ты, Эла, угощай гостей, да и Нину-то приведи, познакомь её. Сами-то есть хотите?
– Нет, мы потом, – ответила Эла, ведя за руку слегка упиравшуюся сестру. – Нинка, поздоровайся с бабушкой и дядей Женей, – строго, совсем по-взрослому сказала она, и тогда Нина, немного набычившись, протянула руку сперва Анне Николаевне, а затем и Жене.
Дядя взял девочку под мышки и крепко её расцеловал. От этого Нина совсем смутилась и убежала на улицу. Борис снова обернулся к старшей дочери:
– Сбегай-ка на Вареньеварочный, купи пенок к чаю.
– Можно и мне с Элой? – из-за двери крикнула Нина.
– Ну что ж, идите. Кринка в сенях на полке, ты, Эла, знаешь, где, а деньги у меня на столе лежат.
Через несколько минут обе девочки уже мчались по Базовской улице, оставляя за собой целые облака пыли, а Борис, разогрев в большой сковородке котлеты и перловую кашу, тащил всё это в кухню. Увидев, что гости съели суп, он отодвинул кастрюлю и, поставив на железку сковороду, предложил:
– Кушайте, пожалуйста! Знал бы, что вы приедете, что-нибудь получше приготовил, сейчас ещё дыни подам. А девчата принесут пенки, тогда и чаю напьёмся. Здесь недалеко Вареньеварочный завод есть, так там каждый год в это время пенки продают. Ну, мы сладкое все любим, а денег маловато, пенки эти гроши стоят, вот мы ими и объедаемся.
Гости пообедали. Видя, что мама имеет очень усталый и в то же время какой-то встревоженный вид, Борис, так и не дождавшись ответов на свои вопросы, предложил ей прилечь на кровать, оставшуюся стоять после отъезда Нины-большой на прежнем месте. Когда мама улеглась, Борис с Женей вышли во двор и закурили. Борис несколько раз бросал курить, но около полугода тому назад закурил снова. Оказалось, что и Женя уже некоторое время курит. Расспрашивать младшего брата о том, почему они с матерью совершили такое далёкое путешествие и куда сейчас направляются, Борис счёл неудобным. Они, сидя на скамеечке у крыльца, разговорились о другом.
Борис узнал, что Женя перешёл в последний класс девятилетки, учится он хорошо, и что его мечта после школы поступить в Лесной институт. Дальнейшую их беседу прервало возвращение Элы и Нины. Эла держала перед собой большую кринку, полную тёмно-коричневых пенок и, судя по губам и пальцам обеих, можно было догадаться, что дорогой эти пенки были уже попробованы. Борис никогда не умел быть строгим со своими детьми, поэтому и тут он только укоризненно покачал головой, забрал кринку из рук Элы и отправил обеих умываться. Затем он сказал:
– Ну, ты, Женя, пока посиди, а я пойду покормлю своих сорванцов, они ведь всегда есть хотят! Скоро и Катя придёт, она сегодня пораньше хотела управиться.
Женя остался сидеть на скамейке и с интересом осматривался вокруг. Всё для него было удивительным: дома, сделанные, по-видимому, из глины, черепичные крыши, огромное дерево, росшее у самого крыльца, и множество чёрных ягод, рассыпанных под ним. Как это всё не походило на родное Приморье, нет ни сопок, ни леса, который виднелся прямо из окон дома… «Да и вообще теперь ничего нет. Как мы будем жить? Где? – думал он. – У Бобли (так он по старой привычке называл Бориса) жить, конечно, нельзя. Квартирка у них маленькая, а их пятеро… Да ведь и Люся скоро с двумя детьми приедет…»
Тем временем Борис покормил девочек, поел сам и только вышел, чтобы дать еду вертевшейся возле Жениных ног пушистой собачонке, Пушку, как во двор вошла Катя с сумкой в одной руке и с Майей на другой, следом за ней спокойно и как будто лениво шагал её верный страж Мопс. Заметив постороннего, он издал глухое ворчание, и верхняя губа его слегка приподнялась. Борис быстро подошёл к Кате.
– А у нас гости, – сообщил он, беря у нее дочку. – Да успокойся ты, Мопс, это свои. Ложись на место.
Бульдог, всё ещё недоверчиво поглядывая на Женю, прошёл мимо него и, ткнув по дороге мордой Пушка, заглянул в его миску, лизнул там что-то и, наконец, улёгся около двери. Катя и Борис зашли в кухню.
– Мама с Женей приехали, – тихо повторил Борис.
Катя уже видела Женю и, хотя, конечно, тоже не узнала его, вышла из дома, обняла подошедшего юношу:
– А где же Анна Николаевна?
– Мама очень устала с дороги, я её уложил отдохнуть на Нинину кровать. Пойдём обедать. Я, правда, уже поел и ребят покормил, теперь вас с Майей кормить буду, а Женю пусть племянницы занимают, – и он, подтолкнув девочек к Жене, снова вернулся в кухню.
Борщ ещё не остыл, Катя уселась обедать, напротив неё сел Борис. Катя нагнулась к нему через стол и шёпотом спросила:
– Куда они едут? К нам? Надолго ли?
– Ничего не знаю, попытался маму спросить, а она заплакала.
– Заплакала? – удивилась Катя. Она, как и Борис, никогда не видела Анну Николаевну плачущей. – Наверно, что-нибудь очень серьёзное случилось, – заметила она. – Ладно, пускай в себя с дороги придут, не расспрашивай их ни о чём, они сами расскажут.
Когда Катя поела, и они вместе с Борисом и Майей, так и сидевшей на руках отца, вышли во двор и направились к колодцу, который всем жильцам двора служил холодильником, то увидели, что Женя, Эла и Нина не только познакомились, но и подружились, и все вместе лакомились шелковицей. Эла и хозяйский сын Лёня сидели на ветках дерева, рвали спелые ягоды чуть ли не с самой верхушки. А Нина, которую Женя держал на руках, получила возможность тоже рвать ягоды с нижних, свесившихся с забора ветвей. Одну из сорванных ягод она съедала сама, а другую совала в рот Жене и при этом весело смеялась.
Мы сказали, что колодец служил семье Алёшкиных холодильником – да, это так, ведь в Краснодаре не было таких погребов, как в Кинешме или Темникове, поскольку не было зимой льда. Не имелось в то время и таких бытовых холодильников, какие сейчас есть почти в каждой квартире. Летом, в краснодарской жаре, все продукты очень быстро портились, вот население и нашло выход. Почти в каждом дворе имелся колодец, как правило, очень глубокий – 10, а то и 15 метров. Вода в нём была холодна, как лёд. Водой этой, с тех пор, как в Краснодаре провели водопровод, даже и по окраинным улицам, никто не пользовался, её брали из колонок, стоявших на углу каждого квартала. Поэтому все свои, как сырые, так и варёные продукты, уложенные в кастрюли или вёдра, жители опускали на длинных верёвках почти до самой воды. Закрепив верёвку на гвозде, вбитом в сруб, получали возможность сохранять свои продукты в течение нескольких дней и даже целой недели. Один угол колодца отвели и для семьи Алёшкиных.
Между прочим, несколько ранее мы употребили слово «мангал», поясним его значение. Топить плиту или печку в доме при краснодарской жаре летом было невозможно. Многие строили летние кухни: складывали плиту на дворе и готовили пищу на ней. Она требовала много дров или другого топлива, которое выгоднее было сберечь на зиму. Керосинки или примусы у людей имелись, но зато не было керосина. Электрических плит вообще не существовало, и находчивые бедняки придумали «мангал», который был и у Алёшкиных. Бралось обыкновенное старое, изношенное оцинкованное ведро, выкладывалось изнутри обломками кирпича, склеенных глиной так, что в середине оставалось отверстие глубиной 15–20 см и шириной немногим более 10. В него накладывались щепочки и древесный уголь, который всегда продавался на базаре. Щепки поджигались, и когда уголь раскалялся, можно было на этой «печке» варить и жарить любое блюдо. Ставился «мангал» обычно на улице около дверей. В Армавире, да и в Краснодаре подобные приспособления можно было увидеть даже на тротуарах многих улиц.
Незаметно солнце опустилось за горизонт, наступил вечер, вернее, ночь. Алёшкины всё ещё не могли привыкнуть к этому быстрому переходу дня в ночь. В тех местах, где они жили до сих пор, после захода солнца сравнительно долго держался промежуточный период, который принято называть сумерками. Здесь, на юге, в Краснодаре, этого не было. Следом за спрятавшимся солнцем наступала полная темнота, поэтому почти всегда ночь заставала Бориса и Катю врасплох. Так было и в этот день. Ночь подкралась так неожиданно, нужно было ещё столько сделать, что Катя, едва успев поздороваться с поднявшейся свекровью, немедленно принялась за хозяйственные дела. Борис помогал ей. Анна Николаевна и Женя сели на скамеечке у крыльца и стали о чём-то тихо переговариваться. Катя выкупала перемазанных шелковицей младших (Майя не столько ела, сколько пачкала себя раздавленными ягодами), затем наскоро приготовила ужин, покормила дочек и уложила их спать. Было, наверно, около 10 часов вечера, когда молодые хозяева освободились и, выйдя на крыльцо, присоединились к гостям. Некоторое время все молчали, затем Анна Николаевна сказала:
– Ну, наверно, ребятишки уже уснули. Пойдёмте в комнату, я вам расскажу всё про нас. На улице разговаривать неудобно.
Они зашли в большую комнату. Девочек уложили в маленькой комнатке, так называемой спальне. В ней едва помещалась кровать Бориса и Кати и маленькая колыбелька Майи. Сегодня в эту же комнатушку втиснули и кроватку Нины, на которую уложили Элу. Нину переложили на большую кровать, она должна была спать с родителями. Жене постелили на полу в большой комнате около Бориного стола, Анне Николаевне собрали постель на кровати большой Нины. Спальня от большой комнаты отделялась дверным проёмом, который завешивался старой шалью. Катя приподняла шаль, заглянула в комнатушку и убедилась, что все дети крепко спят. После этого она присоединилась к остальным, сидевшим вокруг небольшого стола посредине комнаты, который, хотя и назывался обеденным, но фактически служил для занятий Элы.
Анна Николаевна помолчала несколько минут, затем, как бы собравшись с мыслями, начала свой рассказ.
– Вы знаете, что папа умер в артёмовской больнице в 1935 году. Я до сих пор так и не могу выяснить истинной причины его смерти. Ему пришлось многое перенести. Он был несколько раз тяжело ранен во время Германской войны, затем в Харбине переболел тяжёлым желудочным заболеванием, это повторялось во Владивостоке в 1924 году. А его последняя болезнь наступила так неожиданно, что я просто ума не приложу, отчего она приключилась и почему так быстро привела к печальному концу. Я думаю, что тут был какой-то недосмотр врачей, но ведь теперь этого всё равно не узнаешь. Люся ещё в Кролевце, где она учительствовала после окончания средней школы, вышла замуж и в 1932 году вместе с мужем выехала на строительство в Среднюю Азию, куда-то к Ташкенту. Там, судя по её письмам, до 1937 года она жила вполне счастливо. У неё родилось двое детей – мальчик и девочка. Муж её, коммунист, по образованию техник-строитель, занимал какую-то ответственную должность, Люся работала в школе. Материально они были хорошо обеспечены. Старший сын Олег, родившийся в 1936 году, также как и дочка Аня, родившаяся в начале 1937 года, находились в яслях. В середине 1937 года на стройке начала работать какая-то комиссия, возглавляемая работниками НКВД. Кое-кого из руководящего состава неожиданно арестовали. Муж Люси очень тяжело переживал эти аресты и однажды, когда Люся возвращалась из школы, чтобы немного отдохнуть, а затем сходить в ясли за ребятами, она увидела, что на лестнице и в коридоре около их квартиры толпятся соседи и совсем незнакомые люди. Дверь была открыта. Когда она, встревоженная, вошла в прихожую, то увидела, что на полу в луже крови лежит её муж, а в комнате у стола сидят работники НКВД и что-то пишут. Ей стало дурно, и если бы её не поддержал вошедший за нею сосед, она бы упала рядом с мужем. Люсю провели в кухню, усадили на стул, дали воды, а затем один из работников НКВД принёс ей какую-то бумагу, попросил её подписать и сказал: «Мы очень сожалеем о случившемся. Ваш муж покончил с собой, причины мы не знаем. Ни в чём предосудительном он не подозревался и не обвинялся. Возможно, что на него так подействовали аресты его сослуживцев. На всякий случай мы произвели обыск в доме, но ничего не нашли. Его пистолет мы изъяли. Об обыске составили акт, который вы только что подписали. Труп сейчас заберут, нужно произвести вскрытие. Успокойтесь. Продолжайте работать в школе». Через два дня мужа Люси похоронили, она осталась вдовой. Вот так об этом событии она написала нам. Вы, конечно понимаете, как это было тяжело. Люся обещала к началу этого года приехать к нам, и мы ждали, что, приехав, она расскажет об этом трагическом событии более подробно, поэтому пока вам ничего и не писали.
Анна Николаевна остановилась, глубоко вздохнула, отпила небольшой глоток чая, который ещё до этого Катя принесла и разлила всем по кружкам, поставив одновременно глубокую тарелку с пенками и такую же, наполненную ломтиками белого хлеба.
Затем Анна Николаевна продолжала:
– Это огромное несчастье, но мы не предполагали, что в очень скором времени нас ждёт ещё большее горе. Наш Борис после смерти папы, как вы знаете, переехал в Новонежино. Сначала он работал просто преподавателем физики, а с 1936–1937 учебного года его назначили завучем школы. Хотя он был ещё очень молод, но, как это отмечали все, хорошо справлялся со своими обязанностями, школа занимала одно из первых мест в районе. С 1934 года на окраине Новонежина начал строиться большой аэродром и военный городок. Борис, как вы знаете, был очень общительным человеком и поэтому быстро сдружился с молодёжью авиационного городка, с командиром авиачасти и другими лётчиками. Они вместе бродили по окрестным сопкам с охотничьими ружьями, вместе ходили в клуб на танцы или в кино, иногда к ним присоединялся и Женя. Ранней весной этого года командир авиачасти Сучков П. И. (в каком чине он был, я уж не знаю) и кое-кто из лётчиков были арестованы работниками НКВД. Через несколько дней после их ареста у нас произвели обыск и арестовали Бориса. Недели две всех арестованных держали в Шкотове, а затем перевезли во владивостокскую тюрьму. Я несколько раз ездила туда, но увидеться с Борисом мне не удалось, отвозила ему только передачи. Что с ним, за что он арестован, в чём обвиняется или обвинён – мне ни у кого выяснить так и не удалось. Никто меня не принимал и не хотел слушать. Работники областного НКВД, с которыми я смогла поговорить, отвечали одно: «Не волнуйтесь, разберутся, и, если он ни в чём не виноват, выпустят». Между тем моё положение в Новонежине становилось всё тяжелее. Педагоги стали обходить наш дом стороной, в школе со мной почти никто не разговаривал, все сторонились, боялись… Директор как-то сказал, что вряд ли мне в будущем году разрешат вести русский язык и литературу в старших классах – одним словом, дал мне понять, что меня тоже считают неблагонадёжной, как мать репрессированного. Недели две тому назад мне передали записку от Бориса. Уж не знаю, каким путём она была доставлена в Новонежино, принёс мне её знакомый железнодорожник. В записке Боря просил нас не беспокоиться о нём, не предпринимать никаких мер по его освобождению, никуда не ходить и никого ни о чём не просить. Самим лучше всего как можно скорее с Дальнего Востока уехать. Мы с Женей посоветовались и решили отправиться сюда, больше-то нам ехать некуда. Правда, можно было бы поехать в Темников, но там, как мне известно из письма знакомых, с работой для учителей очень трудно, да и из родных никого не осталось, а здесь всё-таки вы. Вот мы и приехали. Вещи наши на вокзале, да их и немного: всё, что можно было, мы, хотя и за бесценок, но продали в Новонежине. Я надеюсь, что здесь скорее сумею найти работу, найдём, вероятно, и жильё, так что в тягость вам не будем…
Борис и Катя, выслушав рассказ Анны Николаевны, ошеломлённо молчали. Затем Борис не выдержал:
– Что же это такое делается? Вон Митю Сердеева тоже неизвестно за что взяли, а ведь он коммунист с 1920 года, был партизаном на Дальнем Востоке, с белыми воевал! Ну, а Борис? Ведь ему немногим больше 21 года! Что он мог сделать, чтобы его так неожиданно посадили? Никогда я не поверю, что он может быть врагом советской власти, никогда!
– Мы тоже не верим. Да и некоторые из учителей, которые с нами ещё разговаривали иногда, не верят в это, никто этого понять не может, но ведь сделать-то ничего нельзя. Даже попытки увидеться с ним не удались, – заметила Анна Николаевна.
Катя сказала:
– Ну, как бы то ни было, а мы вам поможем устроиться, сколько сумеем. Хотя, откровенно говоря, сами-то мы не очень много можем. Я ведь простая машинистка, а Борис – студент. Вот с жильём, может быть, что-нибудь и выйдет. Боря, ведь из соседнего дома жильцы уехали, он пока пустой стоит. Поговори завтра с Давыдычем, он, наверно, пустит, всё равно ведь сдавать будет. Ну, а в отношении работы, я думаю, что тоже всё устроится. Педагоги с таким стажем и опытом, как у вас, Анна Николаевна, на улице не валяются. А сейчас давайте-ка спать ложиться. Вон Женя уже совсем носом клюёт.
Но Борис задал ещё вопрос:
– А как же Люся? Вы уехали, а она туда к вам поедет?
– Нет, она пока никуда не поедет. Мы ей телеграмму послали, чтобы она с выездом задержалась. Если здесь обоснуемся, тогда сообщим ей, чтобы ехала сюда. Ну, а если не устроимся, пусть ещё подождёт, – ответила Анна Николаевна.
Скоро все улеглись. Женя уснул, едва положил голову на подушку, Анна Николаевна долго ворочалась на своей узенькой кровати, скрипя пружинами сетки. А Борис и Катя, находясь под впечатлением от рассказанного матерью (Борис всё-таки привык в Анне Николаевне видеть мать), тихонько перешёптывались:
– И как только она, бедная, всё это могла вынести? Сколько же ей надо было иметь сил и мужества, – шепнул он и, помолчав, добавил, – а всё-таки хорошо, что я не поехал на Дальний Восток на предлагаемую должность: вряд ли бы я уцелел. Там, видимо, чёрт знает что творится.
– Почему только там, а здесь? Вон, у нас в «Круглике» тоже кое-кого из профессоров ещё в 1936 году взяли, да и в Адыгейском облисполкоме почти всё руководство посадили, сам же ты рассказывал.
– Да, но ведь это было в период «ежовщины», а потом Ежов сам за это поплатился. Как сообщали, за эти перегибы его самого расстреляли. Теперь ведь другой нарком, Берия. Говорили, что он друг самого Сталина. Как же теперь-то всё это происходит? – недоумевал Борис.
Он считал, что в деле с братом, как и в деле с Сердеевым, были допущены явные несправедливости, неизвестные Сталину. Если бы тот о них знал, он бы их, конечно, не допустил. Так рассуждал Борис Алёшкин в 1938 году, так, между прочим, рассуждали почти все его сверстники. Ведь это было поколение, которому довелось жить, активно работать и воспитываться в тот период, когда единственно правильную генеральную линию партии после смерти В. И. Ленина олицетворял И. В. Сталин. Он в своих речах, докладах и статьях разоблачал предательскую роль Троцкого, Зиновьева и других оппортунистов, он руководил социалистическим строительством в стране, он вскрывал и показывал всему народу ошибки отдельных партийных работников в целом ряде вопросов. Так как же он мог допустить такие несправедливые аресты? Как он мог допустить содержание в тюрьме старых коммунистов? Нет, этого просто не могло быть! Вероятно, это делали какие-то карьеристы, примазавшиеся к партии. Ему, Сталину, было ничего не известно об этом, – так думал Борис. Мы теперь, пользуясь правом автора, живущего спустя много лет после смерти Сталина, знающего и о его ошибках, и о культе личности, и о той предательской роли, которую играл по отношению к партии коммунистов Берия, понимаем, что дело обстояло не так просто. На примере Бориса-младшего мы видим проявление необоснованных репрессий в самом неприглядном виде. Наше утверждение основывается вот на чём. В середине 1970-х годов, один очень хороший человек, дальневосточник, тоже в своё время пострадавший от репрессий, лично знавший Бориса Алёшкина-младшего, затребовал объяснение того, что же случилось с его знакомым. В ответ на это прокуратура Приморского края своим письмом от 28 апреля 1975 года сообщила, что, по имевшимся данным, постановлением военного трибунала КТОФ от 22 ноября 1965 года в числе других реабилитирован и Алёшкин Борис Яковлевич. В 1976 году Борис Алёшкин-старший сделал запрос о своём кровном брате в КГБ СССР. Через месяц в приёмной Комитета он получил следующий ответ: «Алёшкин Б. Я. арестован и осуждён в 1938 году. Отбывая наказание, умер 31 октября 1938 года». Когда Борис предъявил представителю КГБ, принимавшему его в приёмной, справку из прокуратуры Приморского края о реабилитации брата, тот заявил, что ему об этом ничего не известно. Так или иначе все эти данные подтвердили мнение и самого Бориса, и всех других родственников о честности и порядочности брата, но, к сожалению, было слишком поздно: мать умерла за два года до этого и о реабилитации своего сына так и не узнала. Кстати сказать, после смерти Анны Николаевны её дочь в оставшихся бумагах нашла письмо, вот выдержка из него:
«Новонежино, 4 февраля 1940 года.
<…> Я с ним сидел в 1938 году осенью в одной камере во Владивостоке. Исключительно прекрасный человек. Хороший товарищ, мы с ним стали такими друзьями, что трудно себе представить. Дело его было закончено и приблизительно в конце октября или в начале ноября его из камеры взяли. Я думал, что он пошёл на свободу, но, видимо, не так. Вместе со мной и Борисом сидел Вячеслав Иванович Назе, который сейчас освобождён и работает в школе села Новонежина. После моего возвращения из России, я встретился с Назе, и он мне передал, что он слышал о том, что Борис якобы находится в лагерях, где-то близ Хабаровска, но точно не знаю. Убедительно прошу вас не горевать. Я лично, зная дело Бориса, глубоко уверен в том, что он скоро должен быть на свободе. Он мне передал письмо для своей сестры (двоюродной) Т. Титовой, с которой я должен был бы связаться на случай того, если выйду на свободу и решу узнать о его судьбе. Но я адрес забыл, в силу чего не мог сообщить ничего о Борисе. Сам я сейчас работаю в Новонежине, адрес мой следующий: ДВК, Шкотовский район, село Новонежино, почтовый ящик 45, Петру Ивановичу Сучкову. Прошу убедительно писать, если что потребуется, а если Борис выйдет на свободу, то прошу немедленно сообщить мне. Кроме того, вы можете писать Назе на старое место его работы. Он сейчас преподаёт немецкий язык.
С горячим приветом П. И. Сучков».
Писала ли что-нибудь в ответ на это письмо мать Бориса, получала ли она ещё какие-нибудь письма, неизвестно. Как мы уже говорили, о существовании этого письма дочь Анны Николаевны, Людмила, узнала только через месяц после смерти матери. Всё через того же дальневосточника удалось выяснить, что отправитель письма П. И. Сучков был командиром той авиачасти, которая в 1938 году стояла в Новонежине. Он участвовал в Великой Отечественной войне и в звании генерал-майора авиации в конце I960-х годов вышел в отставку. После этого выехал с Дальнего Востока, и в настоящее время его место пребывания неизвестно.
Почему Анна Николаевна в своё время никому из детей о переписке с Сучковым ничего не говорила, почему не говорила о том, писала ли она ещё кому-нибудь, так, к сожалению, до настоящего времени выяснить и не удалось. Но мы в своём стремлении обелить память Бориса Алёшкина-младшего уж очень далеко шагнули вперед, вернёмся же опять в 1938 год.







