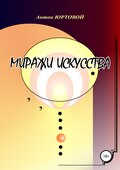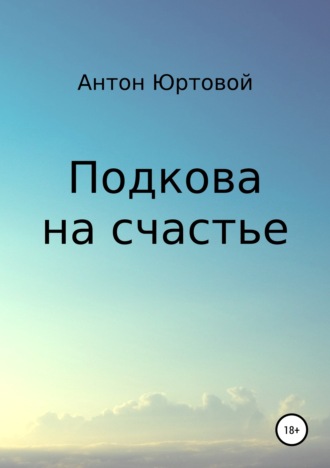
Антон Юртовой
Подкова на счастье
Крючок с насаженным на него червячком только что опущен в воду, и едва станет совершенно гладкой её слегка потревоженная поверхность, как по ней успевает в удальской, стремительной манере проскочить жучок-плавун или водяной паучок – на высоких тонких, изогнутых в коленях ножках, каких может быть – несколько пар, и он, совершенно, кажется, безвесомый, наступая ими на водное зеркало, в него не проваливается, пытаясь показать свою чудесную сноровистость и бесшабашность, и тут же водное зеркало показывает тебе опрокинутую вниз, всю доступную взгляду внешнюю сторону ближайшего пейзажа, с нависающими над водою пучками травы и цветов, с устилаемой поверх донного неба тенью от проводов линии телеграфной связи, и даже перекладину с белыми чашечками изоляторов на самой ближайшей к заводи круглой деревянной опоре, сжатой с двух боков уходящими в болотную глубь кусками стальных рельсов, и эту опору, как и множество других, я знаю, установили здесь на устроенное жёсткое, гравийное основание, и теперь за нею, так же как и за путями и мо́стом, обязан внимательнейшим образом следить обходчик, потому что она, как и вся телеграфная линия, важна до крайности, и не сама по себе, а вместе с трассой железной дороги, будучи её частью, хотя и размещаясь от неё в стороне…
Бесценны и благодатны для восприимчивой детской души такие вот постоянно в ней оседающие и прочно в ней закрепляющиеся впечатления. Не проходит незамеченным первый клёв, который ощущаешь с каким-то особенным трепетом, энергично вздёргивая удилище, чтобы – подсечь обречённую о́собь; согнутое при вздёргивании, оно распрямляется и бросает рыбку в ближайшую травку; отчаянное, смятенное трепетание живого существа, и вновь на крючок насажен червяк, для следующей жертвы. Думаешь об них на свой лад: им сочувствуешь, их жаль…
Но вот грохочет по ве́рху мо́ста очередной поезд, товарный или пассажирский, и уже по испачканному сажей и маслом лицу паровозного машиниста или его помощника определяешь меру какой-то неизбежной закономерности, одной и той же и для моей жестокости к рыбкам, и для той цели, которая скрыта в движении поезда, в том, чем и кем заполнены его грохочущие вагоны или платформы, перестукивающие своими могучими колёсными парами в каких-то одних местах…
Промелькнут в окнах несколько лиц пассажиров, а в последнем вагоне товарного, на его переходной площадке – по военному строгая фигура сопровождающего состав кондуктора-охранника с винтовкой на плечевом ремне, изредка поворачивающего круглый, как на автомобиле, штурвал управления поездной тормозной системой, – и в этих видах опять не преминешь воспринять суть той же самой неизбежной закономерности, и – мысли при этом будто сталкиваются и разлетаются в разные стороны, спеша одна обогнать другую, так что промчавшийся поезд, взвихривший за собою лёгкую песчаную, пахнущую дымом и копотью, пыль, кажется улетевшим, и он, пока ещё видимый глазу, будто и в самом деле вот-вот сорвётся с рельсов, чтобы взмыть и раствориться в небесной голубизне вместе с удаляющимися следом за ним и пропадающими из виду опорами телеграфной связи…
На мгновение всплывёт на этой голубизне облик старого путевого обходчика, отломившего от своей нормы хлеба для меня и не сдержавшего искреннего слёзного сострадания, и если такое видение даже волнительно и не может не сопровождаться грустью, вдруг убеждаешься, что ты резко успокаиваешься.
Это приходит понимание какой-то своей, хотя и суровой защищённости. Как-то по-особенному гудят в этот момент металлические провода, свистит паровоз, и, если вслушаться в их пульсирующее, сквозное, небесстрастное, какое-то отнебесное звучание, то можно, пожалуй, уловить в нём и отдельные ноты, как напоминание о чём-то весьма существенном и одушевлённом, и, кажется, оно, одушевлённое, в самом деле тебе является: то птица или несколько птиц, издалека принимаемых за вездесущих галок, садятся на провода, касаясь их своими цепкими лапками, словно струн уже звучащего инструмента, и проводная мелодия выходит теперь более насыщенной и значительной; а ещё внизу, от за́води к мо́сту, шаловливо убегает, звеня и искрясь на миниперекатах, чистый, незамутнённый, ласковый, свой, животворный ручей, который туда и придёт, куда вот сейчас стремится, – в своё новое ложе в виде маленького прохладного озерца под мо́стом, где хотя взрослые рыбки предпочитают из осторожности себя не обнаруживать, зато полно игривых, беспечных мальков…
Отдаёшь ясный отчёт тому, что ты в своей жизни многое уже понял по-настоящему, почти уже как бы по-взрослому, а предстоящее сумеешь понять так же обстоятельно, не поступаясь собственною свободою и не впадая в излишние претензии, хотя бы к кому, в том числе – к себе.
Что бы они могли значить, такие претензии, при уже достаточном улове, когда я столько узнал и о столь многом задумывался?
Впечатления переполняют меня, и тут я слышу оклик моего добрейшего друга, путевого обходчика, поделившегося со мною хлебом. Он, проходя по мо́сту, чуть задерживается, чтобы осмотреть его, и справляется, как у меня дела; я бойко ему рапортую об успехе, забывая, конечно, отблагодарить его хотя бы несколькими, только что отловленными бычками или краснопёрками; он же, кажется, совершенно не имеет в виду чего-то подобного, улыбается мне, машет прощально рукой и уходит.
Рельсовая дорога при его досмотре и человеческой простоте будет в достаточной мере надёжно служить цели, о которой я хотя и не всё знаю, но уже почти смог разгадать её…
Глядя на единственную бетонную глыбину проезжей части мо́ста, подпираемую парой элипсоидных свай, и видя клочок неба под его днищем, приходишь к выводу, что в ходе рыбалки ты основательно подумал о чём хотел и что было навеяно окружающим. Не хватало, может, хотя бы очень короткой мысли о своих полётах во сне по воздуху, но дело оказывается легко поправимым: я ведь наверняка ночью, во сне, летал и успел там что-то обнаружить и запечатлеть в памяти, но, как разбуженный неожиданно, просто не упомнил всё в подробностях, зато теперь я вижу там себя отчётливо и ясно, – ведь я видел летящим поезд и так же, как он, мог бы воспарить над железнодорожным полотном, над мо́стом, над болотным пространством и линией опор телеграфной связи, не перемещаясь слишком далеко, поскольку я и так много увидел, больше, кажется, теперь и не нужно…
Как ни странно, к рыбной ловле, в том её виде, когда действуешь простенькой, лозовой удочкой, я не «прикипел», как то́ происходит у большинства.
Много прекрасных минут я смог бы выделить в череде моих пребываний на такой рыбалке. Иному любителю светлым пятном становится каждое приобщение к отдыху у озера, пруда или у протоки, куда, он знает – приходить лучше всего ранним утром, на зорьке. Тогда, как правило, и клёв лучше, и свеже́е воздух, дышится легче. Заботы будто сползают с плеч.
Пусть это увлечение всегда остаётся радостным для большого числа приверженцев.
Рассказывая о себе, я имею в виду то, что отдыха в полном значении этого слова я, сидя у воды с удочкой, не знал. Как противодействующий голоду, я обязан был возвращаться с уловом. И самая ранняя утренняя пора также не входила в мой график. За неисполнение обязанности ни от кого не предусматривалось ни наказания, ни упрёка, поскольку иногда помехой бывали дожди, и я довольствовался только тем, что удавалось налавливать, прячась под мост, где условия для успеха были весьма ограничены. Я сознательно подчинял себя лежащей на мне обязанности.
По большому счёту, я тем самым ограничивал свою свободу, хотя был дружен с нею в остальном, что касалось рыбалки, её процесса. Так выходило, что именно в таком её ущемлении она открывалась мне своими лучшими и неисчерпаемыми свойствами, как бесценный дар, полагающийся человеку при его рождении, но – который не может не сопровождаться ограничениями.
Нет, я ни за что не скажу, что моя тогдашняя рыбалка угнетала меня её несоответствием своей предназначенности или я тяготился ею или даже проникался к ней неприятием и отвращением. Такое бесцеремонное отношение к ней было бы оправданным, если бы «прилагаемую» к ней свободу хотелось понимать как абсолютную, невозможную и неуместную при любом, даже малейшем ограничении. Абсолютной же она, свобода, не в состоянии быть в принципе, так как проявляет себя, только будучи ограниченной. Собственно в этом состоит её усвоение, как субстанции, выражающей важнейшую особенность нашего сознания, нашего духа…
Я не стал заядлым рыболовом-любителем из-за моей устремлённости к размышлениям. Они ко мне приходили не только при моём сидении с удочкой у воды, но и повсюду, где бы я ни оказывался. Зачем извлекать из себя восторги непременно при общении с природой, когда хороший клёв? Рыбалка, которою мне приходилось заниматься, хотя и имела ярко выраженное экспрессивное, чувственное, вдохновляющее наполнение, но она не была для меня отдыхом или забавой, – в ней отсутствовало игровое. Это было её «минусом».
Настоящее-то в ней сводится как раз к игровому. Оно не привлекало меня, как я понимал, изначально. Ведь тут не виделось дела, а детской натуре не прикажешь обходиться без опоры на него, без его, так сказать, предположения, даже в самой затейливой игре…
Обращаясь к своему детству, могу сказать, что, как и у других моих сверстников, во весь его срок, у меня не было ни одной игрушки, купленной или сделанной кем-то из семьи или самим, но, принимая в соображение, что их и купить было не на что и негде и сделать не из чего, да собственно и время стояло не то, – не к нему должны бы были относиться мои претензии или капризы, – я в отличие от других нисколько не огорчался их отсутствием.
Это, может, и плохо, если иметь в виду некие существовавшие ранее и самые новейшие методики и стандарты детского воспитания. Но что на самом деле мы видим в игрушке? Детям их вручают, забавляя их ими. А забава скоро надоедает. Обладатели, позабавлявшись, быстро их ломают и отворачиваются от них. С новыми происходит то же.
В природе у ребёнка стремление к делу, целевая расположенность к нему; и очень хорошо, если игра «направлена» в эту сторону. Повальная неодолимая тяга к компьютеру или гаджетам, как можно заметить, возникает из желания ребят преуспеть не столько в размещаемых там изощрённых и многочисленных играх, называемых для чего-то виртуальными; нет; их в первую очередь привлекает возможность освоить навыки управления ставшей уже незаменимой техникой. Управления, при котором они развивают свою общительность и способности, нужные в любом деле. То есть речь идёт о практической пользе для каждого.
Таким же порядком складывается отношение к спортивным дисциплинам. Просто заниматься спортом и значит быть всего лишь физкультурником, в этом ребёнок, если тем более он всегда здоров, особого смысла может не видеть. Ну, там вылазки с родителями или с друзьями на природу, разного рода школьные или лагерные спортивные соревнования, спартакиады и проч., но это ведь ради времяпрепровождения, та же забава, что и с игрушками.
К настоящим тренировкам он потянется не иначе как с целью побыстрее стать профессиональным спортсменом, тем самым желая обрести своё место в жизни, где за свои успехи в состязаниях или в упражнениях он, как, может быть, его мама, папа или кто-то из ему хорошо знакомых взрослых успели уже утвердиться, обеспечивая себя и семью материально.
Находить удовлетворение в некоем почти безмерном бесцельном увлечении или если даже ему придавать видимость, что оно имеет или может иметь цель, в этом привлекательного, полагаю, совсем немного. Напрасная трата времени это одновременно и растрата впустую своей жизни, а она, как мы знаем, даётся нам лишь однажды. Потерю ничем не возместить.
Я помню, что когда достаточно окреп физически, не прочь был погонять с ребятнёй в лапту ранней весной на какой-нибудь поляне, где ещё местами держался снег, а мы все были бо́сы и худы́.
Мяч находили не резиновый и не надувной, а сами шили из тряпок; промокая, он с трудом отлетал от биты, а, попадая в руки или падая на землю, не отскакивал. Это, однако, не сдерживало азарта.
Носились резво и долго, уставали как черти. Но занятие веселило, забавляло. Скоро пыл проходил, причём у всех. Я, по крайней мере, не помню, чтобы «лаптёжники» затевали игру не ранней весной, а среди лета или осенью. Даже если выпадало какое-то свободное время, оно тратилось уже не на лапту.
Лучшим является не то воспитание, при котором кого-то завлекают тем или иным занятием, обозначаемым как соответствующее задачам и интересам патриотизма или – созвучных опять же ему, патриотизму, традициям. Целый ряд их, таких занятий, может быть не по душе для обременённых ими людей.
Обязанности, принимаемые добровольно или по внушению, кажутся особенно тягостными, когда человек не в состоянии понять их насущную в данное время необходимость или неизбежность, а как раз в этом случае, то есть – не удовлетворяясь их исполнением, он готов воспринимать себя несвободным полностью, когда ограничения будто бы заслоняют в нём сам дух его свободы и он не развивает своей чувственности, не стремится к размышлениям или даже их подавляет в себе…
Только в размышлениях дано человеку по-настоящему себя воспитывать, сообразуясь с общими для всех возможностями и нормами поведения, сложившимися как естественные, – не пытаясь их игнорировать или взамен их устанавливать свои. Говоря иначе, он и свободен-то по-настоящему только здесь, внутри себя, зная цену своим ограничениям, но не претендуя быть абсолютно свободным.
«Заболевая», например, отдыхом, думая, что уехав на отдых в разафишированный экзотический край, некто хотя и может полагать себя там отрешённым от любых забот, но, конечно, это ошибка; ведь при этом надо отстраняться не только ото всех оставленных дома занятий и даже «взятых» с собою мыслей, «работа» с которыми тоже есть занятие, – что никому не по силам…
Виденное и узнаваемое мною на каждом шагу, каким бы оно ни было малозначительным на фоне горемычной сельской общинной жизни, я воспринимал как повод пойти по ещё одному следу в ней. Что-то меня постоянно наполняло, и я был как бы вынужден давать отчёт себе. Расклад получался такой, что, к сожалению, он удовлетворял меня только частью.
Чем-то непонятным казался мне процесс обучения в школе, где я хотя и преуспевал, но не мог смириться перед необходимостью подчинять себя методологии уроков, когда мне предписывалось усваивать их, не отвлекаясь на любое постороннее, то есть на всё, чего моё сознание предпочитало касаться и на самом деле касалось не только вне классных занятий.
Я приходил к пониманию, что уроки уроками, мне даётся на них как бы и не мало, но в целом я испытываю что-то подобное отсутствию подлинной фиксации воспринимаемого – в сознании. Стыдно было признаваться самому себе, но я как бы не помнил усвоенного, быстро его забывая; в память оно будто и не помещалось, так что складывалось впечатление, что в школе я как бы и не учился, хотя за такую странность в себе я не мог бы кого-то упрекнуть, прежде всего, конечно, – своего учителя, которому доверялся и которого искренне уважал.
Да, к такому выводу я приходил, и, полагаю, неспроста. Тут, безусловно, главенствовали чувства свободы и личного достоинства, которые всегда присутствуют в детской душе как естественные ценности, и с ними могут быть в значительной части или даже полностью несовместимы понятия и принципы, задаваемые через методологию, через интерес государства, то есть по сути – через интерес корпорации.
Всё происходило совсем по-другому вне классных занятий. Хотя, как я уже говорил, ущемление свободы здесь также не исключалось, но зато её, свободу, я видел ярче, отчётливее, она была более понятной…
Мне в этой связи представлялось, что я, как личность, постоянно переполняясь собственными впечатлениями, принимаю условия риска, при котором может сходить на нет начало, выражаемое выбором жизненного пути в направлении практического, профессионального дела или – специальности. Люди вокруг меня, в том числе мои сверстники, этого выбора для себя не исключали, наоборот, они его как бы постоянно имели в виду, причём только его исключительно, соглашаясь на роль закоренелых прагматиков…
Собственные впечатления их интересовали мало или же не интересовали вовсе; некоторые в открытую ими пренебрегали и даже насмехались над теми, кто в них «увязал» …
В каком своём возрасте я стал надо всем этим задумываться, точно сказать я бы не смог, но знаю, что – очень рано.
При этом формулировки мыслей также не могли быть чёткими, ясными, скорее – только догадки, предчувствия, предположения. И однако же это казалось мне очень важным.
Не выйдет ли из меня человек, не способный на что-либо конкретное, прозаическое – человек-неудачник?
Как смогу я воспринимать своё служение на поприще, где придётся считаться с интересами и наклонностями не только своими, когда в отомщение за свои чувства свободы и справедливости я имел бы одни неприятности и, как следствие, – разочарования? Ведь именно через такие альтернативы в людях окончательно укрепляется их отношение к практической жизни, к её социальным формам, и каждый находит в ней своё занятие, принося тем самым пользу и себе и другим. Что конкретно смог бы предложить я? Будет ли прок?
Я чувствовал, что так я буду рассуждать позже, по мере выроста, когда это будет мне крайне необходимо, и я безусловно справлюсь с этой нелёгкой задачей, только вот чего это мне будет стоить…
Впереди, впрочем, времени было ещё более чем достаточно, и моя жизнь текла своим чередом: беспрерывно я продолжал наблюдать новые её грани…
Воспоминания о родном очаге всегда наиболее сладостны для человека, пожившего в деревне. Каким бы скромным или оскуделым тот очаг ни был. Я уже немало рассказал об избе нашей семьи, но, вижу, что при этом я себя как бы сдерживал. Буквально обо всём не расскажешь. А оно, тамошнее и тогдашнее, не забыто и помнилось очень хорошо.
Наружный вид избы не менее был примечателен, чем внутренний. Легко открывавшуюся калитку в огород, располагавшуюся почти у самого крыльца, неожиданно пришлось дополнить новым устройством ввиду инцидента: её, как и ту, что вела во двор с улицы, умел открывать тот самый праздношатающийся бодливый бычок, от встречи с которым оберегала меня мать, привязывая меня в сеня́х.
Непрошенный гость ступил прямиком на капустную грядку, почти под корень съев несколько кочанных завязей. Потом ему захотелось побродить по огуречной, помидорной и другим посадкам. Везде находилось вкусное. Урон выглядел нешуточным. До выяснения отношений с хозяевами телка дело не дошло, но рядом с калиткой был сооружён перелаз, для скотины непреодолимое препятствие.
Поднявшись на его ступеньку, можно было чувствовать себя в роли обозревающего. Не так чтобы хорошо, но лучше, чем от земли, просматривалось в огороде многое. Особого значения это не имело, ведь потравы больше ни от кого ожидать было нельзя, но зато было приятно какую-то минутку постоять или даже посидеть на ступеньке перелаза, с удовольствием разглядывая то ли прочищенные, после прополки, молодые ростки кукурузы или фасоли, то ли созревающие будто на глазах, увесистые красные помидоры, волосяные выпуски смуглой окраски на кукурузных початках. Было также в высшей степени любопытно последить за птицами, послушать их разные голоса.
Много их кружило в небе, прямо над огородом, избой или запущенным, бесполезным садом, проносясь по своим надобностям быстро или неспешно. Иные заявляли о себе, находясь в укрытиях.
То и дело откуда-то раздавался годопересчёт кукушки, вечно бесстрастный по отношению к кому-то слушающему и указывающий на тоску и одиночество самой птицы. В зарослях сада, рядом со своим гнездом оживлённо дробил низкие звуки своего ровного говора сорокопут. Там же, но как бы с отдаления, звучали завораживающие, переливчатые мелодии иволги, особенно сноровой в своём искусстве с началом летнего дня, до его середины. В её манере значительное место отводилось паузам примерно той же длительности, как и голосовое исполнение, то есть, как это следовало понимать, в удовольствие ей не только пение, но и отдых, когда она могла бы поразмыслить над следующей руладой и постараться исполнить её в ещё более изящном стиле и колорите. Соловей – птица преимущественно утренне-вечернего и ночного пения, и он любитель исполнять репертуар не прерываясь, насплошь, часто от зари до зари, нисколько, очевидно, не задумываясь, что, передохнув, возможно, сумел бы спеть и того лучше…
…Перелаз делался как бы только в строго защитных целях, поскольку огородные дары носить во двор или в избу приходилось вручную, – калитка при этом была удобной и незаменимой. Также она вернее служила при выносе золы или помоев; этим отходам отводилось место вблизи грядок, рядом с избой, и от того ни для кого не возникало никаких экологических неудобств: дожди и снега прекрасно справлялись с их утилизацией.
Повдоль стены, обращённой в сторону огорода, куда попадал минимум солнечного света, летом в ряд стояли деревянные бочонки из-под солёностей; из опасения, что они рассохнутся, их держали наполненными водою; так они «вымокали» и сразу годились под следующее их использование по прямому назначению, а убыль влаги восполнялась от стока, по которому дождевая вода сразу попадала в бочонки с крыши.
Чистейшая то была водица: наклонишься над какой-нибудь из посудин, и видишь светлый круг дна и своё отражение; коснёшься тёплой водной поверхности ладошкой, и тут же вознаграждаешься впечатлением ласковости будто живой влаги, умиротворённого, тихого её стояния меж уютных, не теряющих свежести сборных боков, снаружи плотно стянутых о́бручами.
У мокнущей деревянной тары свой особый запах, сообразно тому, каким был предшествующий засол. Этот запах воспринимаешь будто видимый – вместе с водой. Две бочки формой отличались от остальных. Это ещё одно напоминание о переселении. Их, как и камни под гнёт, семья везла в товарном вагоне из далёкой Малоро́ссии, наполняя водою на остановках. Для питья и приготовления пищи вода из бочонков не использовалась, но скоту её можно было давать и чистой, и в смеси с добавками. Также частью её расходовали на полив огородных культур. Но приходилось следить за тем, как бы не просчитаться с её убылью. Это особенно касалось таких месяцев, как июнь и июль, когда дожди могли быть редкостью. В августе они шли чаще и были обильнее, и тогда бочонки стояли наполненные до краёв постоянно. Там мы предпочитали умываться, а для мужского состава даже устраивались помывки, ведь наше подворье, как и почти все другие в селе, своей бани не имело, не обзаводилась ею и общи́на.
Наружные стены избы по всему периметру, кроме се́нной части, тщательно проштукатуривались и систематически белились гашёной известью. На этот счёт мама умела держать марку: наша изба при её стараниях всегда выглядела приятно чистой; любая трещина или щель в ней без промедления затиралась глиною и забеливалась.
Того требовала малороссийская традиция, где внешним видом избы, называемой хатой, хозяйке как бы предписано показывать своё прилежание, одновременно как в отношении интерьера жилища, так и вообще в любом деле, где затрагивается авторитет семьи, каким бы тусклым и жалким ни был при этом уровень её материального благосостояния, причём такая традиция в обязательном порядке соблюдалась и в больших, многолюдных сельских поселениях, и на хуторах с несколькими или даже с одной хатой.
На новом месте отказываться от обычая никакого резона не было, ведь чистота, если она прививается в быту, в домашней обстановке, – приобретение бесценное: с нею гармоничнее укладывается всё в человеке, и он становится уравновешеннее, проще, покладистее, уважительнее к другим.
По́низу стен избы, также вкруговую, тянулась завалинка; на её устройство шла земля, которая утрамбовывалась и удерживалась оградкою из лозы; поверхность можно было промазывать слоем глины; стрехи нависали над завалинкой и «сбрасывали» дождевую крышную воду, оставляя земляное прикрытие сухим, если только сюда не задувал ветер. Расположение нашей избы отличалось тем, что единственный короткий отрезок завалинки, к которому можно было подойти со двора, отделялся от него цветником, также закрывались и остальные – черёмуховыми деревьями и огородными грядками. По этой причине вечерние шумные молодёжные сидения на наших завалинках не прижились и не устраивались.
Такое обстоятельство, хотя речь шла о необходимой для жильцов тишине, сполна оправданным считаться не могло. Общинная жизнь заставляла мириться с этим неудобством, и по весьма важной причине. Дело в том, что сборы молодёжи в нехолодном сезоне чаще всего устраивались под избами семей, где взрослели девочки.
При нехватке парней, которых забирала война, у невест не очень-то могло выходить с выбором су́женых, но в их семьях удачные возможные перспективы все же учитывались. Некоторые хозяева, если они ставили избы сами, с «оглядкой» на пополнение детского состава девочками принимали меры к тому, чтобы не упустить шанс, когда подоспеет время. По отношению к двору и к улице изба размещалась так, чтобы доступ к ней, а значит и к завалинкам, хотя бы к одной из них и – достаточной по длине, был максимально свободным и подходящим.
Это повелось ещё с довоенной поры, когда о помещении клубного типа, пусть даже таком, какое изредка предоставлялось для молодёжи колхозом, оставалось только мечтать. По мере же того, как шла война, девчат по сравнению с численностью парней всё прибавлялось, и порой довольствоваться им приходилось присутствием на вечеринках ребят, только-только переступивших подростковый возраст, а то ещё и не переступивших его.
Тут-то и годилось подсказанное опытом, хотя из-за разрухи строительство нового жилья в селе вообще надолго замерло.
Нашей семье тоже бы не помешало извлечь пользу в заведённом порядке, поскольку сестре подошло время невеститься. Но – изба возводилась людьми другими, не нами. У них могли быть свои соображения. А для общений и встреч молодёжи находились места под другими избами; там, бывало, она не расходилась и могла шуметь хоть до утра и даже – при сильных похолоданиях.
Само по себе земляное прикрытие служило отличным утеплителем: из-под пола зимой не задувало; конечно, прилично чувствовали себя там и грызуны. Из опасений, что нижние венцы сруба слишком быстро загниют и истлеют, нельзя было обойтись без вентиляционных отверстий. В завалинках делали их дощатыми, одно-два по каждой стороне избы. Открытыми полностью они могли быть только в летнюю пору.
Чердак, образуемый соломенною крышею и потолком, так же, как и все иные части строения, выполнял важную свою роль. Что-то там могло храниться из ненужных или вышедших из употребления предметов, а также высушенное зерно. В нашем хозяйстве не было ни того, ни другого.
К верху ската поднималась дымовая четырёхгранная труба, из того же материала, что и печь. К ней, горизонтально по-над потолком, от пе́чи пролегал дымоход, гасивший искры. Труба и дымоход-гаситель обмазывались глиной.
Пол чердака присыпан был слоем поло́вы или – обмоло́та. Тем самым изба утеплялась ещё и сверху. До обновления слоя ничьи руки в семье обычно не доходили, из-за чего поло́ва приобретала вид трухи, почти что пыли. Также без особого хозяйского пригляда оставались труба с дымоходом, они ведь не были видны посторонним взрослым, а значит и молва по селу об их ненадлежащем содержании не распространялась, и таким образом из самого их места расположения вытекало, что к их починке, если она требовалась, относились, мягко говоря, халатно…
Скудный свет на чердак мог проникать только со стороны входа, куда приставлялась лестница. Вход, имевший форму отдельного небольшого двустороннего ската, прикрывался узенькой дощатой дверцей, и тогда тут повсюду наступал непроглядный мрак. Не смущаясь этим, мы со средним братом, а то и с ребятами из соседних подворий находили время потешиться на этой площадке, превращая её в игровую. При слегка открытой дверце на входе, а, бывало, её закрывали и на́прочь, устраивались догонялки, с невообразимыми криками, визгами и топотом. Увлекаясь, кто-нибудь натыкался на деревянное стропило, распорку, дымоход или трубу, так что лишь в редких случаях при беготне обходилось без ссадин и соответствующих слёз. Каждый, кроме того, основательно измарывался.
Были также любимы прятки. При этой игре её участникам требовалось замирать настолько, чтобы не допустить шуршания поло́вой и – кашля от поднятой вихрем пыли. Ссадины и другие досадные последствия были и здесь обычным явлением.
Мама и старшие брат и сестра не корили нас за такое наше сумасшествие, соглашаясь принимать его как весьма необходимое малолеткам. Я участвовал в подобных чердачных забавах не только у себя дома, но и в избах, где имел друзей сверстников. Там относились к нам по-разному строго, но почти каждый раз – нетерпимо.
Осмысливая эти ситуации, я получал, как мне могло казаться, представление о подлинности существа свободы, ощущаемой предметно, по конкретным поводам.
Дозволенности, какие допускаются по отношению к малым детям, малосильным или недостаточно здоровым людям, полезны и оправданны не сами по себе, как что-то равное доброму расположению или, может быть, неприхотливости при оценке тех или иных поступков; нет; речь должна идти о бо́льшем: о предоставлении непосредственно свободы, в противовес чему она, свобода, повергается недостаточно продуманными ограничениями, а как раз при отсутствии таких ограничений или когда они минимальны, проявляется то её почти неуловимое и как бы загадочное свойство, когда она заключает в себе урок, то есть несёт в себе воспитывающую функцию, даёт и облагораживает воспитание.
Неисчислимы варианты, когда нами воспринимаются дары дозволенностей и рядом с ними – яды неосмысленных запретов. Хотя есть мера и тому и другому, вместе они образуют то, из-за чего свобода в её конкретных видах всегда понималась и продолжает пониматься как что-то неразделимое, в постоянной смеси и потому – неотчётливое, неуловимое, ускользающее из сознания.
Удовлетворяясь дозволенностями, которыми сопровождались простые детские игры в доме нашей семьи, я, похоже, постигал великую тайну бытия, куда вмещается скрытая и как будто не должная быть раскрытой суть свободы, без которой мы не обходимся ни одной минуты.
Воспитательное её значение уже и в других аспектах я постигал на том же запылённом чердаке нашей избы. Там, хотя это было и редко, разместясь поближе ко входной дверце и даже совсем уж на верхней ступеньке лестницы, то есть – ближе к естественному свету, чтобы лучше виделись буквы и строки, мы собирались почитать книжные тексты, наиболее понравившиеся рассказы или короткие повести, понимая их каждый на свой лад и пробуя изложить о прочитанном своё мнение, каким бы оно ни было, а несколько раз, о чём я до сих пор неизменно вспоминаю с особенным воодушевлением, даже упражнялись в ро́ссказнях былей и небылиц, как на печи́, и тогда свет нужен не был, можно было даже и входную дверцу прикрыть, создавая хорошо подходившую для мероприятия темень.