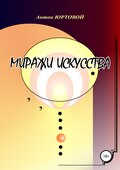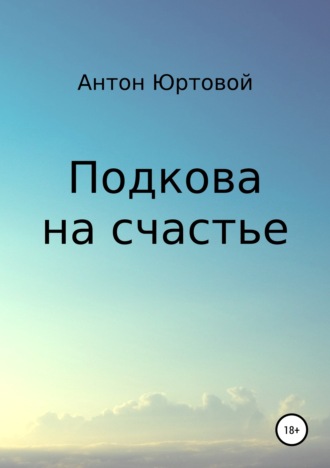
Антон Юртовой
Подкова на счастье
Разделение шло по наличию или отсутствию хлястиков на одеждах. Первыми такой способ скрашивания пути ввели ученики, уже закончившие школу и покинувшие её. Но традиция осталась. Новички, такие, каким был я, сразу охотно включались в игру, поскольку в ней оттачивались нужные всем приёмы искренней, активной общительности, взаимовыручки и доброжелательства.
Само собой, доходило до того, что кому-нибудь отрывали хлястик, в кровь разбивали нос, кто-то, орудуя сумкой со своими принадлежностями, недосчитывался учебника или тетрадки. Всё восполнялось необыкновенным оживлением и весельем, вовсе, кстати, не мешавшим учебному процессу.
Наслышанные о забавах «сторонних» учащихся, то есть – приходивших «от» станционного посёлка, учителя отмечали в целом несомненную пользу от таких бурных встрясок, достававшихся их подопечным. Тем более, что ни единого раза игровые потасовки не перерастали в настоящие драки или в последующую вражду, а, кроме того, «сторонних», как находившихся подолгу на свежем воздухе, на протяжении всего учебного года, обходила простуда…
Рассказывая об этом интересном явлении, я, разумеется, имею в виду, что участие в нём принимали в основном мальчишки; девочкам, также совершавшим дальние ежедневные переходы, отводилась роль пристрастных наблюдателей, и только в редких случаях какая-либо из них, не умея сдержать себя, включалась в потешные развлечения.
Зимой, когда выпадало много снега, пустырь терял свою притягательность, но зато влекла к себе уже сама дорога, грунтовка. Уплотнённый автомашинами снег на ней служил хорошим катком: став на коньки и уцепившись крюком из проволоки за борт пробегавшего грузовика, можно было добраться до школы быстрее обычного…
Транссибирская железнодорожная магистраль пролегала неподалёку от деповского комплекса, огибая его, а в одном месте она подходила к окраине здешнего посёлка; оттуда – близко до школы. Ученики, добиравшиеся до неё, не прочь были воспользоваться поездной тягой.
Заметив на станции грузовой поезд, готовый вот-вот отправиться по нужному тебе направлению, незаметно подкрадываешься к нему, но не спешишь, опасаясь вооружённого охранного сопровождения, и как только состав начинает двигаться, вскакиваешь на ближайшую свободную переходную площадку, вагонную или платформенную. Поехали.
Скорость поезда немалая. Но там, у окраины деповского посёлка, ему предстояло двигаться медленнее, так как магистраль шла на подъём. То, что надо. Прыгали безбоязненно. Со ступеньки следовало соскочить, и, уже коснувшись насыпи ногами, какое-то мгновение держаться за поручень, чтобы чувствовать, как мягче упасть…
Пассажирские поезда для этого не подходили, поскольку шли на большой скорости и её почти не сбавляли, а единственный пригородный, делавший там краткую остановку, проезжал ночью. Возвращение со школы уже не располагало к выбору способа, как добраться домой. Лишь бы поскорее.
Все три года, когда я обучался в семилетке, время занятий нашему классу выпадало послеобеденное, то есть – во вторую смену. Так дирекция учитывала положение «сторонних»: выбираться по утрам и́з дому чуть ли не за два часа до начала занятий, как то у нас выходило в середине дня, для многих могло оборачиваться недосыпанием и систематическими опозданиями…
Вечером, после уроков держались кучкой и в основном ходили пешком. Иногда вводились дополнительные занятия, и они заканчивались поздно, часов около десяти, с расчётом, что ребятню заберёт возвращавшийся на станцию пригородный.
Вагоны тогда наполнялись гамом и суетой; школьники, что повзрослее, отваживались на курение табака. За это вольное поведение проводники не очень нас жаловали, тем более что мы норовили проехаться, не заплатив. Было несколько случаев, когда нас не брали…
Комнатка в бараке имела высоко поднятое по стене крохотное оконце, недоступное для солнечных лучей. Зато было электричество, хотя и ограниченное – по три часа утром и вечером. Брат разжился электрической плиткой с открытой нагревательной спиралью. Кроме неё, в комнате имелась плита с небольшим обогревателем. Топить её для приготовления еды и утепления поручалось мне.
В позднее вечернее время, осторожно обходя освещённые прожекторами места, я пробирался в охраняемый пристанционный угольный склад и тихо нагребал там ведро кусковатого топлива. Этого едва хватало на один истоп. Зимой, при моих отъездах в своё село, комната быстро остужалась…
Хотя обстановка не была особо комфортной, я мог довольствоваться ею, успевая делать уроки и управляться с хозяйством. На другие цели времени оставалось в обрез. Очень редко я навещал школьных друзей на дому́ у них и то лишь – живших неподалёку. Ко мне они тоже заходили редко, в основном по пути в школу или чтобы накоротке вместе заняться домашним заданием, если оно представлялось трудным.
Брат делился со мною нормою хлеба. Когда я только приехал к нему, хлеб выдавался по карточкам. Моя доля была хотя и скудной, но карточки отоваривались без особых проблем. Скоро однако дело приобрело иной оборот. Карточки упразднялись, и поскольку хлеба в продаже не стало больше, образовались сумасшедшие очереди за ним.
В одни руки отпускалось не более трети буханки. Очередь занимали с вечера; усевшись на корточки по возможности ближе к стене магазина и услеживая друг за другом, всю ночь бдительствовали, до той поры, когда утром товар поступал в продажу.
Я сполна испытал на себе огорчения, связанные с такой примитивной формой распределения самого важнейшего пищевого продукта.
Магазин, возле которого я пристроился на ночь на открытом воздухе, находился у железнодорожного вокзала. От места моего проживания недалеко, стоило лишь
перейти сеть здешних путей. Но уже первое моё торчание в очереди закончилось печально: я не смог протиснуться к прилавку среди возбуждённых взрослых покупателей. Остался без хлеба.
В школу я всё же сходил. Вернувшись, снова отправился к магазину, где очередь уже составилась и немалая. Эта ночь также не принесла мне удачи. Третий раз подряд отправился к магазину чуть пораньше, и в очереди я действительно оказался не так чтобы далеко от её начала.
Но поутру в магазине возникла настоящая давка; меня опять оттеснили. Я пробивался к прилавку, пока продавщица не объявила, что хлеба больше нет. Обескураженный, я не знал, что делать и как быть. Вышел на крыльцо, сел на ступеньку. Слёзы покатились у меня из глаз.
Недосыпая в ночных бдениях, я не хотел идти домой, не хотел идти в школу. Неожиданно кто-то прикоснулся к моему плечу. Это была юная девушка, бойкая и красивая. Я запомнил её: это она энергично отталкивала меня, когда я пробовал протиснуться в толпе к весам на прилавке.
Девушка заговорила со мной, извиняясь и прося прощения; села рядом. В руке она держала, протягивая мне, отлом от добытого ею в толчее отрезка хлеба. Не отказывайся, возьми, и платить мне не надо, говорила она. Хлеб я принял; но что я мог сказать в благодарность этой теперь такой доброй фее?
Так больно толкаться… Руками, локтями… Я, наверное, тоже смог бы; но ведь я – мальчишка, а она – девушка…
Слова не шли у меня из горла. Я увидел, что, как и я, она плачет, утирая слёзы со щёк платочком.
Я молчал, и таким букой она меня и оставила, снова слегка коснувшись рукой моего плеча, как было понятно, подбадривая меня…
Брат, появившийся после долгого отсутствия, подсказал мне выход из затруднения: он знако́м с человеком, который разъезжает с вагоном-хлебовозкой; та останавливается для продажи свежего хлеба работникам станции на отдалении от вокзала, всего на полтора часа раз в три дня; – надо сказать тому человеку, от кого будешь…
Не много я имел от этой братниной протекции. Заставал хлебовозку только по случаю, всего раза, кажется, три. Она должна была прибывать в одиннадцать дня, но запаздывала, и я рисковал не успевать в школу. А тут и с работником при ней что-то случилось; его отстранили от «тёплой» должности и осудили, – очевидно как не устоявшего перед соблазном иметь собственную выгоду… Единственно, чем брат мог мне помочь, так это деньгами, скромной суммой, какую он предоставлял мне – в пределах моей прежней доли на товар, выдававшийся по карточке.
Хлеб доставался мне редко, главным образом от перекупщиков, что значило – втридорога… Ещё одно обстоятельство доставляло мне постоянное беспокойство – езда в своё село после недельных школьных занятий. Не только она как таковая, а – вместе с подготовкою к ней.
Дело складывалось вот каким образом. Часов я не имел; их не было и в барачной комнатке. А пригородный поезд, каким я обычно добирался домой, уходил со станции в четвёртом часу ночи. Он останавливался у базы путейцев, ближайшей к селу, хотя от неё предстояло ещё пройти более двух километров.
Каждую субботу поздно вечером я отправлялся на вокзал. Как правило, там всегда скапливалось много пассажиров, и найти место, чтобы присесть удавалось не всегда. Приткнёшься где-нибудь в уголок и стоя ждёшь, подрёмывая и поглядывая на часы на стене. Если сидел на скамейке, также, хотя и сильно тянуло в сон, старался не терять внимания. Приучил себя быть готовым к оживлению в зале, когда пассажиры выходили к поезду.
Ни разу не прозевал уйти с ними… И ни разу не отказался от поездки…
А самое главное происходило при посадке. Взять билет мне было не по средствам. Чтобы войти в вагон, предстояло убедиться, что проводник, а он обслуживал несколько вагонов, находится в другом месте. С собой он носил фонарь, и там, где задерживался, выдавал себя светом от него, видным через вагонное окно.
Также в его обязанности входило зажигать подвесной фонарь в каждом вагоне.
Я предпочитал проникать в тамбур не от перрона, где шла посадка, а по другую сторону, прощупывая снаружи двери – не закрыты ли они на замок. Если вход ни в какую дверь оказывался невозможным, следовало вскарабкаться на переход между вагонами и оттуда уже в тамбур. Если здесь всё складывалось как надо – быстрее в вагон.
По́лок в нём три, и при моей невзрачной комплекции, а также из соображений скрытности, лучше залезть под нижнюю или взобраться на третью. Но гарантии, что меня не обнаружат и не выдворят, пока нет никакой, ведь хотя и тускло, горит подвесной фонарь.
Улучив момент, а следует торопиться, пока не зашли пассажиры, дотягиваюсь до него и тушу восковую свечу. Как раз к моменту: едущие заходят и впотьмах занимают полки, не скупясь на жёсткие комментарии по поводу отсутствия света.
Проводники в пригородном все мужчины, поскольку нередко безбилетников им следовало выпроваживать из вагонов силой, полагаясь только на себя, – тут женщинам не управиться…
Суета мешает проводнику заняться подвесным освещением; он довольствуется тем, что пользуется своим, часто, когда близок рассвет, обходясь в пути уже только им, что, само собой, на руку мне, когда я притихаю как мышь, стараясь ничем не выдать себя…
Бывало, я попадался. Проводник вёл меня по занятому людьми проходу, подсвечивая путь впереди своим фонарём, и, демонстративно отворяя уже закрытую входную наружную дверь, выталкивал меня из тамбура на перрон. Не лучшее место для меня.
Единственный шанс уехать, это если успеешь потрогать за ручку ближайшей двери другого или третьего вагона. Где-то она могла оказаться не закрытой на замок и без присмотра проводника…
Впрочем такая ситуация складывалась исключительно редко. Следовало позаботиться о передвижении иным способом.
Существовало два «запасных» варианта. Первый – уследить за товарным составом, с пыхтящим впереди него паровозом и снующими вдоль колёсных пар смазчиками, добавляющими где надо масла, если его недостаточно…
Выше я уже отмечал: становилось важным выбрать свободную переходную площадку, вагонную или платформенную.
Остановка товарняка если где на перегоне к пункту моего продвижения и бывала, то очень короткая, а то и её не случалось. Подъезжаю ближе к своему переезду, и если товарняк даже несётся на значительной скорости, надо прыгать. С этим нет проблем: мастерство отточено в подобных поездках в сторону школы…
Труднее прыгать на щебёнчатую насыпь – под ногами она «плывёт», и ты вязнешь в ней; может занести под колёса… Легче – когда снег. Отталкиваешься и летишь прямо со ступеньки, зная, что застрянешь поо́даль.
Однажды ситуация сложилась пренеприятнейшая. Ни на пригородном, ни на товарняке я пристроиться не смог. Оставался вариант – проехаться на пассажирском дальнего следования.
Он проходил станцию часа на два позже моего обычного времени. С перрона в него соваться бесполезно; проводники в нём – на каждый вагон, стоят у входной наружной двери, пока идёт посадка, вплоть до паровозного гудка об отправлении. Наблюдают за тамбуром не только своим, но и – ближайшего соседнего вагона, а также за межвагонными переходами, в те годы ещё остававшимися не закрытыми защитною ширмою.
Я зашёл по другую сторону. Тронул одну наружную входную дверь, другую, третью. Все закрыты на замок. Взбираться на межвагонный переход также не с руки – как раз тут, где я мог бы сделать это, собрались трое смазчиков, кто-то ещё, и между ними повисла громкая словесная перепалка. Видят меня и следят за мной…
Решаюсь на самое невероятное: ехать, стоя на ступеньке. Забегаю вперёд спорящих, когда поезд уже тронулся. Вспрыгиваю. В то время в пассажирских вагонах входные ступеньки не закрывались при закрытии дверей; также снаружи оставались поручни. Хоть и опасно, да ведь что же поделать. Стояло ветренное утро с морозом, пожалуй, одним из сильнейших в ту зиму.
«Комфорт» я ощутил сразу при движении. Поручни будто накалялись от холода. Он проникал во все мои поры. Ветер срывал шапку, задувал в меня снежной пылью, смешанной с клубами дыма и копоти от паровоза. Рукавицы и стоптанные валенки, чуть ли не спадавшие с ног, так как были большого, не моего размера, скользили. Приходилось однако терпеть.
Уже мне скоро предстояло прыгать в снег при почти максимальном разгоне поезда, как вдруг открывается дверь, и сверху меня хватает рука. Она тащит меня кверху, в тамбур. Обнаруживший меня проводник, очевидно, имел все основания сочувствовать мне, пока я не замёрз как ледышка и не упал со ступеньки, уже не способный держаться.
Я воспротивился дядьке, помня, что я всё же доехал, куда надо. Моей задачей было ни в коем случае не подниматься в тамбур. Почувствовав это, проводник что есть силы пихнул меня прочь от поезда, и получилось почти так, как я того и хотел бы. Но – с нюансом. Я не отпускал поручни и, поскольку толчок вышел для меня неожиданным, упал в снег ближе, чем следовало бы. Это могло дорого мне стоить: прямо перед собой, буквально в шаге от меня, я увидел знакомую мне рельсовую пирамиду…
Невольно вспомнилось о везении или счастье, какое не так чтобы часто, но всё же не обходило меня, закреплённое за мною подковою от удара конским копытом по темени…
Чуть подалее от рельсовой пирамиды был уже переезд, от которого минуты ходьбы к своей улице и избе.
Полагаю вполне оправданным так подробно рассказать о своих поездках домой, на воскресную побывку.
Наверное не покажусь хвастливым, если подчеркну, что их я совершал, начиная учиться в пятом классе, когда мне было десять лет, и в этом я мог, пожалуй, считаться оригиналом даже для своего времени; о других временах и тем более о теперешнем, когда я пишу эти заметки, говорить вообще не приходится…
Мама всегда ждала моего приезда. Средний мой брат к тому сроку, когда я поступил в семилетку, уже учился в ремесленном училище и навещал село только летом и ненадолго. То есть мама оставалась теперь одна. Так распорядилась жизнь. Мы, дети, отпадали от своей семейной ячейки по мере взросления…
На втором году после войны наконец-то пришло извещение о судьбе отца. То, что он попал в плен и значился пропавшим бе́з вести, по-прежнему отражалось в документах, из-за чего в официальном порядке его причисляли к неблагонадёжным.
Но при установлении факта его гибели в концлагере и захоронении на немецкой земле по крайней мере становилось ясным, что он не вернётся. Горькая, изнуряющая, но – правда.
Ведь столько лет сама неопределённость являлась тяжёлейшим испытанием для нас, его детей и супруги.
С такой оскорбляющей задержкой мама получала статус вдовы! И опять же – как бы неполноценный, – ввиду продолжавшейся внутригосударственной политики недоверия и подозрительности к согражданам… При ней мамин статус никак не мог рассматриваться равным участи жён фронтовиков, погибших на полях сражений, и, по моим наблюдениям, такое положение не претерпело изменений не только в первый послевоенный период, но и позже, много позже. Во всяком случае, маме не было суждено ощутить в этом хоть какой-то перемены… То есть – на такое несправедливое отношение к себе она как бы обрекалась… Эту свою участь она переносила стоически, никому не показывая обид, ни на что не жалуясь.
Из-за сильных за́сух, случившихся подряд в первые два послевоенных летних сезона, колхоз и в мирной обстановке не имел возможности воздавать своим работникам по затраченным ими трудам. На трудодни выдавались крохи зерна и – ничего больше. То есть, как и прежде, каждому следовало рассчитывать главным образом на огород и на подворье.
Мама огород содержала хотя и меньшей площади, чем раньше, но работала на нём со всем возможным старанием. За счёт выращенного на грядках содержались корова, куры, поросёнок.
Домашнее хозяйство по-прежнему обкладывалось налогами, но теперь часть продуктов могла идти на продажу, хотя до этого доходило весьма редко из-за нехватки времени, ведь работа в колхозе не отменялась. В деньгах, каких ни каких, ощущалась острая нужда. Одежда, обувка, постельные принадлежности изнашивались до последней степени. Нищенским оставался домашний скарб.
Летом, находясь на каникулах, я вносил свою лепту в пополнение скудной денежной копилки. В июне на пустовавшие колхозные луга приезжала заготавливать сено для шахтных лошадей бригада горняков. Это в той стороне, куда направлялись воинские части при объявлении войны Японии.
Горнякам я носил и продавал молоко и яйца. Как-то один из них, оказывавший по отношению ко мне особо дружеское расположение, зазвал меня к месту свежего выкоса, при этом загадочно указывая на собравшихся там работников.
Подойдя к ним, я увидел удава. Его разре́зали косой надвое, когда ему чего-то вздумалось высунуться из травы и направиться к работавшим на лугу заготовителям; части рептилии теперь поотдельности извивались в конвульсиях. Зрелище отвратительное…
Так на деле подтверждался слух о том, что этакие гады водятся в наших местах, с чем связывалась и одна из ро́ссказней, уже упоминавшаяся мной выше…
Продавать молоко и яйца, а также некоторые овощи с огорода я ездил и на рынок в районный центр, одновременно доставляя в заготовительную организацию продукты, которые следовало сдавать по налоговым обязательствам. Суммы выручал чисто символические.
Мама берегла каждую копейку. Из накоплений выделяла мне на хлеб, когда я уже освоился в житье на отдалённой железнодорожной станции, учась в семилетней школе. Теперь я мог побольше прихватывать на предстоящую неделю картошки, тех же яиц или молока, в зимнее время – свининки.
Также мама частицу денег отсылала моему среднему брату. Ей было в удовольствие заботиться о нас, так жестоко обделённых в пору нашего малолетства. В мои наезды домой по выходным дням, как ни краткими они были, я, как и летом, помогал маме, чем мог.
С дороги, когда я заходил в избу, она сразу усаживала меня за стол, и я за обе щёки уплетал уже приготовленную ею снедь. Дав мне поспать часа два, будила меня. Это значило, что мне пора отправиться в лес за дровами.
Удобнее всего было заготавливать их, доставляя по снегу на санках. Я знал несколько участков, где мог нарубить приличной толщины дубков, – их древесина давала больше всего тепла. Также привозил береста, ясеня, берёзы, чёрного дуба.
Посещение леса, когда он в снегу и в нём стоит особенная тишина, я воспринимал с какой-то трепетной радостью и ожиданием.
Что там за потеря или досада, если прошедшей ночью, а ещё и другими ночами, когда я, добираясь домой, не высыпался! Или другие, не вполне желательные для меня обстоятельства!
Чистое голубое небо над головой, морозный воздух, лёгкая игра ветра в неопавшей листве в заиндевелых кронах деревьев, цепочка следов зверька или птицы на белом снегу – всё становилось для меня важным, освежающим душу, необходимым…
За зиму я успевал навозить дров с избытком, так что их хватало и на другое сезонное время, когда плита топилась для приготовления пищи и в связи с похолоданиями.
В нарезанных на ко́злах чурках, поколотых на поленья, запас хорошо подсыхал во дворе; топка шла веселее; маме на радость…
Один из участков для вырубки я облюбовал за озером, в котором, как я уже говорил, купалась сельская ребятня. Заболоченная местность за ним промерзала и покрывалась снегом. До ближайшей от озера сопки – с километр.
Даже учитывая, что ещё почти столько занимал путь по селу и по склону к озеру, я не огорчался. К леску уже пролегали санные проезды.
Он манил щедрым дубняком, а, кроме того, если чуток подняться там от равнины, вся как на ладони открывалась панорама своей бедственной деревни.
Улицы, редко уставленные избами; заросли кустарника и смешанного низкорослого леса по разным краям и посреди поселения. Колхозные постройки и площадки. И всё это в снегу, на отдельном и довольно обширном возвышении. Такую картину я мог бы видеть с чердака своей избы и то лишь частью; она, к моему удивлению, не представала передо мной даже в моих снах, поскольку в воздухе я летал почему-то не зимой, а когда не было столь обильного, великолепного снежного покрова…
Хотелось рассматривать окоём долго, отмечая в нём детали и своё состояние в эти минуты, когда виденное и чувствуемое легко запоминается и так же легко в любое время воспроизводится памятью…
На снег, недалеко от дома я выходил ещё и после обеда того же дня, становясь на лыжи и взяв ружьё.
Ближнее, так хорошо знакомое поле, где мышкует, кажется, всё та же лисица; мечется у кустарника вечно боязливый и чем-то мне симпатичный заяц; в лучах рано заходящего солнца искрится шикарное оперение фаза́на-самца…
Я не жажду убить что-нибудь живое, и не знаю, для чего прихватываю с собой ружьё. Просто мне доставляет удовольствие держать его за ремень. Снимаю его с плеча и, наставив ствол в небо, взведя курок, нажимаю на него.
Толчок приклада, и гремит оглушительный выстрел, отдаваясь в морозном воздухе эхом, где различимо какое-то слегка потрескивающее звучание.
Вмиг поле пустеет; дневной свет затухает… В межсезонье тут можно задержаться подольше. Обитателей не видишь, но чувствуешь: они здесь, и ты им виден…
К вечеру в котомку уложено мое пищевое довольствие на предстоящую неделю. Хлеба, конечно, нет. Но хорошо и то, что собрано мамой. Она всыпа́ет мне в карманы жареных подсолнечных и тыквенных семечек. Они пахнут маслом и неповторимым домашним теплом. Хотя и нечасто, мама идёт провожать меня на пригородный, как правило, – до переезда или чуть дальше по путям.
Семечки она любит не меньше моего. Мы идём и лу́згаем их; говорим немного. Она не тратит слов на родительские наставления, не только в такие вот трогательные прогулки, но и вообще, дома, где бы то ни было. Эта черта в ней всегда меня покоряла, заставляя глубже вникать в себя, в понимание собственной свободы.
Как это по-родительски, должно быть, верно – не досаждать лишней опекой дитяти, ещё не вполне самостоятельному, вынуждая его самому учиться самостоятельности!
Что бы там ни говорить о таких вещах, но в них, как я полагаю, заключён немалый смысл. Самостоятельность близко отстоит от независимости, а это уже почти в пределах свободы, пусть и ограничиваемой…
Как и в годы моей учёбы в начальной школе, мама ни разу не требовала отчётов о моей успеваемости, не затевала опросов, как даются мне занятия, в чём состоят мои предпочтения в дисциплинах. Больше того: как и в своём селе, где она не жаловала школу своими посещениями, она не заглядывала и в семилетку в деповском посёлке, ни разу туда не съездив.
Удивительный, можно сказать, фено́мен соучастия… Несомненно, оно, соучастие, имело место, но в чём-то ином. Даже, как я мог судить, не в том неизменном ритуале простого и непременно ласкового обхождения со мной, не в жертвенной заботе обо мне; отнюдь; первостепенную роль тут играло само её присутствие в моей тогда ещё очень короткой жизни, то её присутствие, в котором во всём блеске открывались для меня её обаятельная искренность и непосредственность, душевная ровная расположенность и нескончаемое доверие ко мне…
Чего бы я мог желать большего?
Преклонение перед матерью – как много соединяется в этом светлом понятии и как нелегко отобразить его суть в достаточной полноте, даже твёрдо надеясь на свою память, спустя не какие-то годы, а – целые десятилетия!..
О школе в данных заметках я не имел желания особо распространяться и – прежней, начальной, и то же мог бы сказать о семилетке.
Чем-то могли запомниться в ней отдельные учителя, не выходившие из рамок угрюмой и отупляющей схоластики, чем-то черты характеров и поведение отдельных учащихся, свои подвижки в приобретении знаний.
Но всё это слишком обыденное, быстро тускнеющее, не предрасположенное быть усвоенным с интересом, с запалом. Преходящее, обречённое просто и незаметно уйти из сознания.
Здесь я говорю опять же о тех получаемых на уроках знаниях, которые не то что не даются, нет, они как-то почти сразу рассеиваются, будто их несёшь в сите и при малейшем движении они из него вытряхиваются сами собой.
Таково, к сожалению, устройство нашей памяти: что-то в неё можно вложить принудительно, однако она не замедлит отреагировать на это по-своему, так что результат окажется сообразным её норову… Есть поэтому необходимость постоянно обращать внимание на то, как по-иному воспринимается ею не входящее впрямую в учебный процесс. В нём, безусловно, излагается некий опыт, и он, как правило, не лишён действенной экспрессии, чувственной составляющей, без чего нет и составляющей воспитания…
Опыт чувствования будто бы и не совсем устранён, к примеру, в художественной словесности, где воспитательную функцию несут образы и образность, однако сама словесность, её подбор для усвоения учащимися перенасыщены совершенно порой не нужными предпочтениями, так что образы бывают попросту притянуты к некой заумной официальной идее или декларации, что в ряде случаев может означать даже преступный умысел…
Взятый сам по себе, учебный процесс даёт мало и недостаточно не потому, что лишён содержательности; она в нём есть, но в том виде, когда она с большим трудом прилагается к предыдущим знаниям, а в цельности, в полноте использоваться не может – как рассчитанная на востребование «вообще», безотносительно к области или месту конкретного применения…
Тут востребование декларируется как полнейшее, неограниченное, но как раз при этом свобода понимается абсолютной, а значит нисколько не реальной, призрачной; она делается своей противоположностью… Говоря по-другому, просеивание, убыль получаемых знаний приобретают закономерный характер, буквально по пятам следуя за учебным процессом…
По этой причине чувственное размещается как бы в стороне от него, хотя вовсе не исключены его всплески и в нём, для чего необходимы особые условия передачи на уроках заключённого в книгах или в отдельных дисциплинах опыта.
Уроки редко скрашиваются экспрессией, возбуждающей внимание учащегося.
Свободное веде́ние занятия, когда оно не сковано программой или установкой, – совсем иное дело.
В нашем классе раз в две недели проходили занятия в кружке по истории; их посещение не было обязательным. Но мои соклассники, с первых минут оценившие достоинства непринуждённой атмосферы общения в этом кружке, уже не могли не предпочесть её сухому и нудному изложению материала на обычных уроках по той же дисциплине, внесённых в школьное расписание.
Кружком руководил директор школы, он же учитель истории.
Учительствовал он, судя по всему, неохотно, брался лишь подменить штатных своих коллег, когда те отсутствовали и уроки вести было некому.
Стиль, которым он поражал нас, состоял в совершенно невероятных экскурсах в историческое прошлое. Не в смысле оценок с оглядкой на текущие идеологические требования, а – преподнося слушателям яркие детали явлений и событий в их череде и в их времени. При этом умозаключения по каждому фрагменту прошлого хотя и казались разбросанными по полотну истории, однако на самом деле касались только самого нужного и существенного для понимания…
Реагировать нам позволялось ответом не на вопрос, как на уроке, а – на предложение изложить собственный взгляд на услышанное только что или в связи с уже пройденным ранее и то – лишь по желанию, если оно у кого-то возникало.
Тем самым процесс познания приобретал характер вузовского, даже, возможно, превосходил его.
Занимавшиеся в кружке имели приличную успеваемость и на обязательных уроках по истории. Что до меня, то я за все три года не пропустил ни одного кружкового занятия, – несмотря на то, что проводились они после уроков, то есть поздно вечером, когда следовало не забывать о возвращении домой, в свою барачную комнатёнку… Директору и одновременно учителю очевидно претило искажение официального процесса обучения догматикой программы.
Мы знали, что он воевал на фронте и, к счастью, вернулся оттуда, хотя и с очень серьёзным ранением. Это был человек того круга побывавших в аду, которые ценою жесточайших испытаний вы́носили в себе свежие восприятия истин, доступных только отважным, становившихся востребованными, особенно в обучении детей, где так недоставало искренности и грубо игнорировался момент воспитания, предполагавший обучение свободе…
Он же выступал инициатором весьма редкой в то время формы общения – дней открытых дверей школы, с приглашением сюда бывших её учеников. Помню приезжала на такое мероприятие группа воспитанников ремесленного училища, где они обучались профессии машиниста паровоза. В родную школу они прибыли возмужавшими и подросшими, уже успевшими пройти стажировку на локомотивах, участвуя в обеспечении их движения в сцепке с вагонами – товарными и пассажирскими, на очень ответственных маршрутах.
В числе гостей был старший брат одного из лучших моих дружков по классу. И каким трогательным ощущением соучастия в незнакомом пока для нас, но важном и интересном деле явились для меня те минуты, когда, стоя рядом с дружком, я слушал обстоятельные пояснения его брата в ответ на заданные ему школьниками вопросы о сути и значении выбранной им нелёгкой профессии, о том, что для него текущий год – уже выпускной! Какой радостью и гордостью за старшего лучились глаза ещё пока только учащегося школы, меньшего брата!