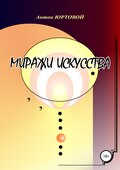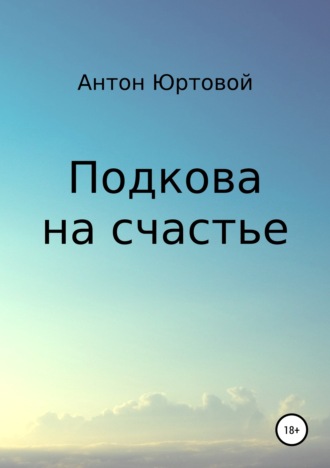
Антон Юртовой
Подкова на счастье
Она размещалась в углу на примитивной подставке, и мать, когда она не так чтобы часто, обычно по вечерам, уже перед отходом ко сну, торопливо крестясь, становилась перед нею и здесь утешала себя тихою, недолгой и нехитрою молитвой, её исхудалая фигурка запечатлевалась на фоне того окна без ставень по-особенному угнетённой и трогательно близкой и всецело понятной мне, как будто бы за нею и теперь виделась мне та, зловеще мелькнувшая при грозе тень пришельца с призывной повесткой, постоянно очерняющая страдательные, искренние, доверительные обращения матери к богу, о котором она знала, конечно, очень мало, но просто почитала его из чувства солидарности со многими почитавшими его, кого она знала.
В го́рнице особую как для меня, так и для всех членов семьи значимость могли иметь расставляемые у стен деревянные, используемые как сиденья и – для возлежаний продолговатые лавки, а также ещё два предмета особо достойные, чтобы быть здесь упомянутыми: выдававшаяся от потолка и разделявшая его ровно надвое поперечная лага в виде только слегка проструганного и побеленного бревна, и – пол из нетолстых деревянных досок, изрядно иссохших, так что между ними образовались приличные щели, не крашеный, но достаточно гладкий.
От лаги вниз провисал ввёрнутый в неё крюк для подвешивания зыбки; это изогнутое приспособление, будучи привычным едва ли не в каждой сельской избе того времени, здесь, в нашем приюте, хотя и досталось нам, как и она в целом, от прежних обитателей, но должно было символизировать постоянное и как бы неизбежное прирастание численного состава семьи за счёт новорождённых.
Зыбки у нас не оказалось; она вероятно была где-то потеряна или забыта при переезде, почему я и подчёркивал, рассказывая об умершем при рождении нашем братике, что мать большей частью держала его на своих руках, а если укладывала, то на кровати, рядом с собой. Был ещё вариант его укладывания в так называемой ванне – простом корыте для стирки, выдолбленном из куска дерева, но то́, чем мы располагали, было слишком мелким, мало пригодным для размещения дитяти, и оно вовсе не предназначалось для подвешивания на крюк у потолка.
Никому не приходило в голову снять крюк с места, где он оставался хотя и без надобности, но – как напоминание, что кому-то он ещё может понадобиться, жизнь-то кругом, как она ни бедна и трудна, продолжается…
Что касалось дощатого пола, то по отношению к нему полагался особый уход. Тут спали сестра и нечасто приезжавший на побывку из райцентра самый старший наш брат, а также, в редких случаях, кто-нибудь из односельчан, если он из-за чего-то задерживался у нас допоздна, а снаружи сильно дождило или бушевала пурга, заметавшая проходы на улицах.
Зимой на полу устраивались разные нехитрые игры, вроде догонялок, когда, чтобы не дать прикоснуться к себе, убегавший норовил юркнуть под кровать, закружиться вместе с преследователем вокруг стола и даже запрыгнуть на при́печь и дальше на саму печь, и такие манипуляции неизбежно приводили к настоящему хаосу и гвалту, когда отдельные приёмы жарко оспаривались, но всем было весело до хохота, и несусветный тарарам, слышный с улицы, мог зазвать в избу другую детвору, чему никем не чинилось никаких препятствий, поскольку ходить по дощатой поверхности позволялось не только босиком, но и в обувке.
Мать находила возможность регулярно мыть пол в комнате, проскрёбывая доски ножом и обильно их смачивая мокрой тряпкой и вытирая выкрученной, отчего посвежевшие после такой обработки доски издавали присущие дереву запахи новизны и трогательную, яркую и мягкую гулкость, сообщая особую лёгкость и чистоту также и воздуху.
То же касалось и пола в кухонной части избы. Мать не переставала вменять всем нам в обязанность подметать поверхность по очереди, которую мы, дети, сами между собой устанавливали. Дощатое покрытие имело, впрочем, тот недостаток, что под ним легко заводились мыши и крысы. Выдворить эту нечисть не удавалось. Из-под пола можно было услышать писк молодых выводков, а взрослым, видимо, ничего не стоило выгрызать доски из-под низа, делая в них отверстия, чтобы наведываться непосредственно в избу. Кот хотя и пугал и даже ловил некоторых из особо смелых, но поголовье их будто не убывало.
Иногда звуки прогрызания досок слышались одновременно в разных местах общей площади. Мало было и этого: шустрые проказники проделывали проходы в стенах, добираясь по ним, казалось, до чердака. Шуршание в стене означало недоброе, – когда вдруг, совершенно неожиданно от неё отваливался кус глиняной штукатурки, обнажая дранку…
Раз в год, по случаю Нового года, в го́рнице устанавливалась ёлка высотою ровно до потолка.
Приносимая с мороза, она долго и пахуче оттаивала, из-за чего было стойким ощущение, что и много позже особый, трепетный и терпкий хвойный запах исходил от неё исключительно ввиду прохваченности её жестоким наружным холодом, причём – где-то ещё в лесу, там, где она росла, вкруговую обмётанная снизу толстым, плотным слоем снега и густо, также повкруг, припорошенная им сверху.
Наряжалась ёлка очень скромно. Ведь не было ни блестящих игрушек, ни рассыпных блёстков, ни тем более конфет или хотя бы фантиков, не говоря уже о лампочках, которые можно было бы зажечь. Листочки тетрадной бумаги, частью свёрнутые в кольца, трубочки или – колокольчиками, подкрашенные школьными фиолетовыми чернилами, да наспех собранные игрушечные поделки собственного изготовления, в основном из той же бумаги или из дерева, или вдруг невесть откуда-то взявшийся иссохший, сморщенный и жёсткий маленький плод дикой груши на удлинённой прочной плодоножке, – собственно, вот и всё, что употреблялось для обряжания красавицы.
Домашняя обстановка не диктовала и излишне усложненных форм её почитания и преклонения перед нею. Старшие хотя и принимали активное участие в подготовке к празднику и его, так сказать, ходу, но инициативу отдавали нам, детям. С приближением полуночи наступала атмосфера какой-то тихой нутряной торжественности и взволнованности, общей и – в каждом, когда произносилось мало слов, а на отчасти смущённых лицах и в сдерживаемых движениях участников действа угадывался приток мыслей, необычайно обогащённых и самой торжественностью момента, и осознанием ценности события, когда оно, единственное за целый год, наконец наступало и вот сейчас протекает как что-то неповторимое в истории и почти не знаемое, объединяя и сближая всех присутствующих, так редко собирающихся вместе в таком сплочённом, дружном, желанном составе.
Волшебными казались минуты перехода от старого года к новому, когда жадные взгляды всех собравшихся бывали устремлены на стрелки висевших на стене часов с продолговатою будто бы тощею гирею на невзрачной цепи́; больша́я стрелка, которой следовало подойти к цифре «двенадцать», воспринималась неподвижною и странной, утяжелявшей суть момента, из-за чего все отрешённо замирали, и лишь при достижении стрелкой желанной метки на циферблате присутствующие издавали разом, как сговорясь, вздох облегчения и восторженной сопричастности.
Тут были редкими и непродолжительными декламации каких-либо стишков; обходилось вовсе без исполнения песен или танцев. Было видно, что все отдают отчёт их неуместности – в связи с тотальной, почти несокрушимой бедностью и усугублявшей её войной.
Вытирая влажневшие от волнения зрачки, мама сдержанным движением руки всовывала в ладошки нам, ме́ньшим, по одной испечённой с вечера лепёшке из кукурузного помола, смазанной сверху тоненьким слоем пчелиного мёда. Праздничный ужин не предусматривался. Молча расходились по своим местам, где кто спал.
Днём, при позднем пробуждении, ёлка мне казалась уже вещью, к присутствию которой в избе все давно привыкли; будто утомлённая разочарованием, что к ней теперь если и подходят, то ненадолго и лишь кто-нибудь, а не сразу все, и то – без восхищения или даже с каким-то пристрастием, будто чего-то от неё требуя, – она, видимо, могла бы думать, что лучше, уютнее она чувствовала бы себя не здесь, на свежевымытом дощатом полу и в относительном избяном тепле, а там, где она стояла в снегу, но когда-нибудь могла бы вырасти в большое стройное дерево с длинными, склонёнными книзу ветвями, с которых бы срывались и падали к земле изящные семенные шишечки, перемежаясь в зимнюю пору с хлопьями при избытке снегов…
Надо было не допустить, чтобы ёлка продолжала так вот тосковать по лесному приволью, и мы со средним братцем затевали некие замысловатые прыжки и круженья вокруг неё, как бы приглашая поучаствовать в них и её, бедняжку, но скоро пыл у нас пропадал, мы уставали, и её тоска делала тоскливыми и скучными также и нас, её прежних обожателей, и так она оставалась сама по себе, лишь как предмет, определённо не задавшийся к моменту – ни торжественному, ни необходимому, и почти с той же степенью унылости и отстранения ей предназначалось быть ещё и свидетельницей наступавшего вскорости празднования Рождества, когда главное событие, именуемое соче́льником, происходило в канун основного дня и оно помнилось бродившими по селу ряжеными и – колядками, а из самого приятного – кутьёй, ритуальным блюдом, как бы обязательным для семейного стола, состоявшим из протолчённых в ступе и отва́ренных зёрен пшеницы, обильно заливаемых едва подслащённой водою.
К ужину могло быть изыскано и что-нибудь посытнее, например, ке́ндюх, изделие колбасного вида из толстоватой, хорошо прополощенной свиной кишки, наполнявшейся пережаренной кровью того же происхождения, и в незначительной части – мясом, опять же – свиным, а в самой бо́льшей – кашей, и – тщательно протомлённое в горниле разогретой пе́чи. Мог быть ещё холодец, тоже свиной.
Отведать такого ужина считалось равносильным осуществлению лучшей мечты. Но, разумеется, это могло происходить, если в семье к началу праздника подоспевал забой хрюшки или что-то от неё оставалось с поздней осени или, может быть, свежина получена от соседей, кому уступалась доля при своём забое.
Ни одного из таких вариантов могло и не случиться, и как раз такими скромными я помню почти все празднования Рождества в военные годы, хотя, конечно, кутья за столом во время ужина была непременно, как предмет особой поварской старательности и усердия мамы, и мы этому радовались как черти.
Со стороны кухни размещался зев или горнило пе́чи. Эту достаточно просторную, уходящую в глубь нишу со сводчатым верхом, куда, если она не истоплена, легко можно было влезть мальцу, называли ещё по-простому – духовкой. На её качественный разогрев могла уходить масса дров, которые доставлялись из леса. Зато уж изготовленные в ней блю́да выходили вкуса отменного, как, впрочем, и отменного же запаха.
Их всегда, сколько бы лет ни пролетало с момента расставания с жизнью в деревне, вспоминаешь трепетно и отчётливо и не можешь забыть, проникаясь особым чувством нерастраченной и неразрушенной в себе сопричастности к ней, к этой жизни, грустным пониманием её своеобразной прелести или даже очарования…
Тут же, примыкая к пе́чи, находилась плита в виде собственно самой чугунной плиты и на ней съёмных, тоже чугунных, колец – под размер посуды, какая могла сюда ставиться, и – сложенное из кирпича её «тело», с топкой и поддувалом. Кочерга и ухват, бочонок с водой, лохань и другие мелкие предметы составляли тот комплект, который полагался при исто́пе, для выгребания золы, приготовления пищи, умывания, стирки и прочего, без чего нельзя представить и самой кухни.
Стёкла единственного окна на кухне смотрели в огород. Вид загораживался по мере роста высаживаемых там культур, а в зимнюю пору как раз сюда дули ветры, и у избы по самую стреху наносило сугробы снега; без их отгребания в помещении даже днём становилось сумрачно, почти темно. К продолговатому кухонному столу полагались деревянные лавки. Две из них были длиннее, а две, к торцам стола, покороче. Под полом размещался погреб, где хранили картошку, капусту в кочанах и другие свежие овощи.
Погреб, хотя и был достаточно глубоким, но он ничем, кроме пола, не прикрывался, то есть тут и температура была избяная. Вследствие этого уложенное сюда сохранялось плохо, портилось, так что, например, картофельные клубни приходилось очищать от проростков не только весной, при наступлении тепла, что считалось делом обычным, но ещё и зимой. Кочанная же капуста, хотя ей давали выстояться на грядке чуть ли не до заморозков, чтобы она набиралась массы, ещё при наружных холодах загнивала и никуда не годилась; то же происходило с морковью, свёклой, так что в свежем виде из огородной растительности для стола оставалось совсем мало.
Летом в погреб, прямо к земле, ставилось молоко, как свежее, так и прокисшее, а также – варенец. Находясь там, эти молочные припасы хранились значительно дольше, чем если бы их держать наверху – в кухне или в сенях.
Должен сказать, что пространство кухни использовалось не только членами семьи. По мере того, как семья обживалась на новом месте, прирастало и поголовье живности. Молодая корова принесла телёнка, заводились поросёнок, цыплята. Присматривать за ними было удобнее, устраивая их не где-то в холоде и сплошной темноте, а здесь, на кухне, в гарантированном тепле. Так поступали не мы одни. В итоге оказывался занятым каждый клочок кухонной территории.
Дополнительные поселенцы, само собой, требовали соответствующего ухода, их надо было кормить-поить, не смешивая каждого из одного вида с остальными. Шевеление и издаваемые ими звуки, а также запахи от подстилки и испражнений становились обыденностью, с которой следовало мириться. Пол в этом месте нужен не был; вровень с ним насыпалась и утрамбовывалась земля, гладко промазанная сверху слоем глины.
Летом часть такого поголовья из кухни выселялась, но всё равно кто-нибудь мог оставаться, так что и соответствующие хлопоты и неудобства не убывали во всё время.
Раз в год, а это было под Троицу, изба наполнялась густым запахом природы. Из леса приносились целые охапки веток с зелёной листвой – для развешивания их на стенах и по углам, а с лугов – сочная, свежая трава, которую разбрасывали по́ полу и ходили по ней. Полагалось не избавляться от этого изобилия, пока оно не подсыхало и не начинало жухнуть и терять цвета – от зелёного к серому.
Приобщение к природе в таком виде вроде бы и нельзя было считать нужным, поскольку буйство зелени можно было видеть, едва ступив с крыльца избы: по двору, хотя тут и оставались следы семейной хозяйственной деятельности, постоянно с весны до заморозков стлался травяной ковёр, и сюда же, ко двору, царство зелени подступало с разных сторон. Несмотря на это её запахи вызывали какое-то благоговение и восторг, усиливая значимость праздника.
На мой взгляд, всё дело тут заключалось в том, что пахли ветки и травы теперь как бы не только сами по себе, как произрастающие в том или ином месте, а непременно и в связи с их перемещением, когда их сламывали или срезали, принося в закрытые помещения хотя и с их обычными запахами, какие им присущи, когда они растут в лесу или на лугу, но ещё и с теми, какие начинают исходить из них, из их надломов и срезов, – запахи сока, животворящей субстанции, способной ещё долго сохранять себя в уже обречённых ветках или в сте́блях.
Скорее всего, в соотношении именно с такой их особенностью они увязывались при установлении символического в нерасторжимой связи единого – в вечном и в празднике, немыслимых вне природы. То на самом деле и должно бы было здесь предполагаться или что-то подобное, а не такое, каким оно когда-то преподносилось, как бы изначально приобретая черты замысловатости и выспренности, – троицы из придуманного господа бога, его побочного сына и ещё какого-то, совершенно непонятного свята́го духа…
При входе из сене́й в избу надо было переступать через присту́пок – небольшое возвышение, как часть бревенчатого венца, выступающее снизу дверного проёма и сглаженное сверху, под вид доски; его назначение состояло в более плотном притворе двери, с тем, чтобы сдерживать проникновение снаружи воздуха с морозом, а могло служить и своего рода скамеечкой, где привычно устраивались часто забегавшие к нам дети из других домов, а нередко и женщины, которым случалось заглянуть к матери, чтобы, к примеру, попросить спичек или соли – самого в то время всем необходимого, а также – накоротке о чём-нибудь поговорить с ней.
Проходи́ть для этого в го́рницу или к кухонному столу, где надо было садиться на лавку, – а этим предполагалась затяжная беседа, – обычно бывало не с руки ни торопившейся конкретной посетительнице, ни хозяйке, обоим из-за их неубывающей занятости своими хлопотами. И вместе с тем сидение на присту́пке, если здесь оказывался кто-то взрослый, по-особенному ценилось как знак приятного добрососедства и даже – особой доверительности, когда, как я мог сам убеждаться, в скорых скупых пересудах речь заходила и о предметах, связанных с «тайной села».
Детей, если при этом они оказывались в избе, свои или чужие, выпроваживать наружу или выговаривать им за их такое присутствие, которое кому-то, не знающему местного обычая, наверное, могло бы представляться как излишнее и недопустимое, принято не было, так что каждый из бывавших на этом месте ребят мог испытывать чувство, близкое к благодарности за возможность приобщения к закрытому в мире взрослых, чувство, всегда почему-то сильно волновавшее и радовавшее, да и – как же было обходиться без этого? – ведь, приобщая нас к чему-нибудь своему, взрослые доверяли и нам, рассчитывая, что от нас оно, скрытое, ни к кому не перейдёт, ни к кому из тех, к которым оно перейти не должно, а если бы перешло, то это бы обернулось каким-нибудь несчастьем, – их же, несчастий, в селе и без того в избытке – на каждого…
Иногда, в пору моих систематических недомоганий, на присту́пке оказывался и я, правда, как правило, не у себя дома, а в избе кого-нибудь из сельчан, по возможности – ближайших соседей, когда меня туда отводили с просьбой присматривать за мной и при неотложной необходимости в чём-то помогать мне.
Как раз со стороны присту́пка мне открывалось неизвестное и очень для меня интересное, в частности, касавшееся появления в селе или где-то в примыкавших к нему, а то и совсем отдалённых местах, неких беглых людей, подозрительных тем, что они только в отдельных, редких случаях решались на контакты с местными, будучи до предела истощены голодом и в совершенных лохмотьях в виде одежды.
Доносить на них никто не торопился, им даже удавалось передавать кое-что из съестного, но все знали, что при доносе, тут же бы в поселении объявились энкавэдэшники, верхом на конях и с собаками-ищейками, чтобы схватить незнакомцев, а тех, кто помогал им или всего лишь видел их, – по многу раз допрашивать, не только здесь, в селе, но и с доставкой или вызовами в районный центр.
Среди незнакомцев, как все были о них наслышаны, очень редко оказывались дезертиры, – таких, откровенно презирали; в целом же они именовались бамовцами, так как бо́льшей частью это были зэки, ещё с довоенной поры и даже при её начале строившие в низовье Амура первый участок железной дороги для вывоза на экспорт сибирского сырья в сторону Японского моря и убегавшие с этой злосчастной стройки, вскоре, из-за нехватки рельсов, брошенной. Называлась она как и широко известная, новая Байкало-Амурская магистраль – БАМ, строившаяся много позже.
Беглые могли быть людьми самыми разными, в том числе осуждёнными по недоказанным со стороны государства обвинениям, но, будучи в постоянно страхе перед пои́мкой и в нестерпимом жутком голоде, они были готовы на действия самые безрассудные и жестокие.
Опасными считались и одиночки, и в особенности группы, объединявшие несколько человек и в качестве оружия имевшие при себе заточки, самодельное ружьё, а то и отобранную у вертуха́я боевую винтовку. Ходили стойкие слухи о совершённых ими убийствах, изнасилованиях – как женщин, так и мужчин, ограблениях торговых точек или чьей-то избы, когда, стращая и избивая сторожей и жильцов, они могли утащить самое последнее.
Родители пугали ими детей и взрослевших девок, боялись и сами.
В пору, когда становилось известным о появлении, хотя бы и не вблизи села, беглого бамовца или шайки, люди старались держаться ближе друг к другу. Те, кто имел охотничьи ружья, готовили их, тщательно протирая стволы изнутри и припасая к ним патроны с дробью.
Имелось ружьё и у нас. Семья привезла его из оставленного хутора. Что в нём там была за нужда, я не знаю, возможно, охота, которая хоть как-то скрашивала нищую тамошнюю жизнь отца или он получил ствол как наследство или – в дар; на новом же месте ружьё долго оставалось вещью, как бы не имевшей сколько-нибудь ясного целевого применения и просто висело на гвозде на кухне, о́бок со входной дверью, и на него не только мы, обитатели своей избы, но и люди к нам приходившие, даже дети, как бы и не обращали никакого внимания.
Нам явно было не до развлечений охотой в условиях, когда для этого всем не хватало самого главного – времени; что же касалось лично меня, то ружьё хотя как-то и интересовало меня, но моя физическая слабость даже не позволяла держать его в руках. Некое бесцельное моё приобщение к нему состоялось, но позже, когда я подрос и окреп.
Всего-то и произошёл в селе единственный случай с задержанием беглого, осенью, перед второй военной зимой, но он всеми очень хорошо заполнился, не тем, однако, что появившийся бродяга допустил по отношению к кому-то физическое воздействие или воровство; нет; исключительность его прихода состояла в адресе, куда он проник; это была изба, где проживала председатель сельского совета со своей уже рослой дочерью; их мужа и отца никто в поселении не знал, и даже оставалось неизвестным, был ли он у них когда-либо. Что тут понадобилось тайному пришельцу и кем он мог быть, никто этого не понимал, может, он просто ошибся, как остерегавшийся наводить справки среди улицы у первого, кто бы попался ему на глаза.
Мальчишки заметили его первыми, и кто-то из них оповестил о случае председательшу, находившуюся на своём рабочем месте. Тут же она дала знать в районный центр по единственному телефону, благо в тот момент связь была исправной, сама же, уведомив также и её дочь, поспешила к своей избе.
Пришелец, кажется, не натворил там ничего особо недоброго, успев лишь поубавить съестного, предназначенного к ужину для двоих, имевших на него полное право, да – скроить некое для себя одёжное прикрытие из имевшихся в избе скромных пошивочных материалов и изделий.
Проявив искусство добродушной хозяйки, председательша сделала вид, что готова помочь бродяге и предложила ему ещё им не найденные яства, не пробуя стыдить или бранить его за несогласованное вторжение. Между тем время уже работало против него.
Двое верховых с собаками, едва подъехав к избе, сняли с плеч винтовки и бегом устремились к избе, к её се́нному порогу, тщательно, чтобы не дать заметить себя, пригибаясь под окнами, так что при их появлении внутри незнакомец был захвачен внезапно и мгновенно, не успев оказать хоть какого-то сопротивления.
Хотя участие в инциденте самой председательши можно было считать вполне благоприятствующим пои́мке, но для неё оно не обошлось и без худых последствий. Уже при первом, публичном разборе дела, здесь же, в селе, когда на созванную энкавэдэшниками сходку явилась почти вся местная общи́на, ей, «героине», а также её дочке были заданы вопросы, не сулившие обоим ничего хорошего.
Служивым, конечно, не терпелось отличиться и сразу сомкнуть события в дело о тяжком государственном преступлении. Были допрошены ещё мальчишки, заметившие нежданного посетителя, и несколько человек, взрослых, кого сразу при его обнаружении поторопились оповестить те же мальчишки, явно не учитывавшие, чем ситуация могла закончиться.
Пойманный, с одетыми на него наручниками и уже основательно избитый стражниками, находился здесь же, перед лицом собравшихся, но ему энкавэдэшники не задали ни одного вопроса; – во множестве их, видимо, предстояло задать ему позже.
Кара его ждала суровейшая – добавление срока судимости, лет, возможно, в десять или даже больше, а то и – расстрел.
Председательшу с дочкой стражи увели с собой, и те больше в поселение не вернулись; они, скорее, подпали-таки под обвинение и были судимы, что для таких случаев считалось явлением самым обычным…
Моё отношение к инциденту было не вполне отчётливым, поскольку на сходке я не присутствовал и мог рассуждать о нём, располагая лишь услышанным от других. Постепенно произошедшее должно было сгладиться и восприниматься уже в виде слухов, и позже оно, кажется, так только и воспринималось, войдя, как составная часть, в арсенал сообща скрываемого и не подлежащего разглашению «посторонним», то есть – «тайны села».
Хотел бы заметить, что во мне каким-то образом удерживалось по-своему лояльное понимание беглых, когда, если даже речь заходила об их свирепостях, они не внушали мне нужного и неизбежного страха; причиной же тому я мог считать свою болезненность, худобу и в целом тщедушный внешний вид свой, каковой должен был вызывать чувство жалости и сострадания даже у беспощадных преступников, и, как мне об этом уже приходилось говорить, я его вызывал, в том числе – у бесцеремонной детворы.
Данная привычка к послаблениям за свою болезненность со временем только укреплялась во мне, поскольку, даже ощущая своё, хотя ещё далеко и не окончательное выздоровление, я совершенно забывал о страхе, «полагавшемся» на случай, когда бы встреча с беглыми могла стать возможной или неотвратимой.
Это то обстоятельство, ввиду которого я предпочитал отправляться на прогулки уже без сопровождения кем-либо, а в одиночестве, сначала в места, ближайшие к избе и в пределах, когда я не терял бы её из видимости, а потом и подальше, уясняя постигаемые мною достопримечательности, подобно тому, как это мне удавалось, когда я находился в избе.
Я воздержусь слишком забегать вперёд в этом своём рассказе, однако позволю себе слегка нарушить установленный для себя запрет и хотя бы в назывном порядке упомянуть о черте моего характера, подвигавшем меня к действиям вопреки сильно меня угнетавшей болезненности.
Когда я вспоминал эпизод на вспашке огорода, то ловил себя на мысли, что какую-то важную деталь я упускал – из элементарного, может быть, смущения и стыда в самом себе, – поскольку тут мне никак не хотелось показаться нескромным.
Я говорю о той вещи, о которой обычно самому говорить не принято, но если она всё же как-то меня характеризует, то почему бы и не обратить на неё внимание? Будет, пожалуй, верным обозначить её как мою внутреннюю способность быть смелым, но в том единственном смысле, когда она, такая способность, ни перед кем не выпячивается и имеет индивидуальную привязку, находясь «в уме», в своём сознании, причём исключительно в нём, и не выходит оттуда – как не расположенная «применяться» в интересах своего обладателя.
Я здесь опять коснусь моих полётов во сне по воздушному пространству, когда моя смелость перед возможными опасностями как бы и не принималась в расчёт, проявляясь непроизвольно, сама по себе, оставляя меня свободным, от неё не зависящим.
То же самое я мог бы выделить и в моём поведении рядом с лошадкой, тащившей плуг: бояться её и вследствие этого постоянно быть настороже – такого мне даже в голову не могло бы придти. Да и случай в пути из Малоро́ссии, когда я дал стрекача от своего вагона и, вероятно, подсознательно видел в этом какой-то для себя смысл, – он ведь тоже мог исходить из той самой способности, внутренней смелой устремлённости к свободе, и – подпитываться ею.
В дальнейшем течении моего скомканного детства я ощущал воздействие этой своеобразной силы в себе, даже, возможно, шло её постоянное накопление и закрепление во мне.
Здесь мне следовало бы, может, сказать, что во мне страх всё-таки находил место: я боялся темноты, но не любой, а какой-то особенной, погружённой в тишину, когда она как бы замирала, не допуская в себя звуков, даже отдалённых или хотя бы еле слышных, что, например, случалось, когда меня оставляли одного и допоздна никто в избу не заходил; тишина тогда, казалась притаившейся во всех углах, даже вблизи от меня, и я будто бы ждал: оттуда вот-вот протянутся в мою сторону некие чужие и цепкие руки, и они, если ухватятся за меня, будут держать, не отпуская, и я буду мучиться в бессилии, не находя способа, как от них избавиться.
То же самое я мог испытывать, выглянув поздно из сене́й во двор, даже когда все были дома в сборе, но двор не освещала луна; там, в покрывавшей его сплошной темени тишина опять же была всецело замершей: не слышалось хотя бы одного дальнего взлаивания собак или шевеления кур на своём насесте в сарае, так что я мог думать, что в самом неожиданном месте, где-то совсем близко, таились направленные в меня те же цепкие руки, то ли человека, то ли схожего с ним чудища, и я невольно съёживался, предполагая неизбежное страдание и от насилия надо мной, и от моего бессилия перед ним.
Я отдавал при этом отчёт, что тут ко мне возвращаются, конечно, впечатления, какими я бывал подвержен в момент, когда на печи́ я слушал одну из фантастических ро́ссказней и выделял из неё что-то особенное, где не обходилось без жуткой «страшилки», и мне нужно было чуть ли встряхиваться, чтобы отвести от себя эту жуть. Приступы страха перед темнотою, кстати, хотя я и испытывал при этом что-то вроде ужаса, но они как-то быстро прекращались; переборов их, я мог твёрдо, как бы с вызовом, смотреть в темноту, уже зная, что я выстоял, не боюсь её, и теперь опасность не коснётся меня… Глубоких раздумий об этом я старался не допускать, и так она, моя внутренняя особенность быть смелым, продолжала сопровождать меня, я вовсе и не торопился к её выражению через реальность.
Даже в тех случаях, когда я вроде как бывал обрекаем обжечься с нею и при этом ярче осознавать её, я предпочитал не опираться на неё, а тем более: гордиться ею, пусть и не на виду перед кем-либо, а просто так – позволяя себе лишь отчётливее различать её в самом себе. Тогда как раз такое внутреннее средство поддерживать себя самим было мне крайне необходимо; – оно, как я мог об этом судить, имея в виду восприимчивость мною своих поступков, совершённых или только гипотетических, и всего вокруг меня, играло свою значительную роль в моих непрекращаемых наблюдениях, помогая выявлять нечто важное в обыденном…
Перешагнув через присту́пок, из жилой части избы можно было выйти в се́ни. Они состояли из двух отделений, в одном хранились нужные в хозяйстве огородные и другие инструменты и ставились бочки с соленьями.