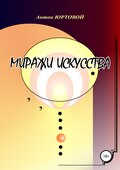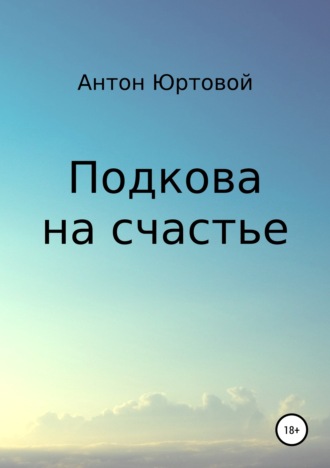
Антон Юртовой
Подкова на счастье
Всё тут было для меня новым и неожиданным. Во мне трепетало чувство увлечения и восторга, так что старшим стоило немалого труда выпростать меня из сиденья. Я, впрочем, не был склонен поддаваться обаянию происходящего целиком.
Стоя у агрегата или наблюдая за его движением издали, я, конечно, не мог обойтись без воспоминаний о своей беде, случившейся предыдущей весною, когда я азартно погонял прутиком тощую лошадёнку и распугивал птиц, настойчиво порхавших над пашнею и на этот раз.
Как уже далеко отодвинулась в прошлое эта передряга со мною, и как по прошествии целого года слабость всё ещё держала меня в своих тисках, продолжая отодвигать меня на обочину с места, где я мог бы находиться, если бы скорее выздоровел! Так печально было осознавать это положение своей беспомощности, когда помощь даже такого тщедушного существа, как я, была, можно сказать, крайне необходима.
За счёт использования детского труда происходило укрепление эффективности работы и на других участках хозяйства.
Ребятам нашлись дела по выращиванию и высадке рассады, подготовке и ремонту инвентаря, доставке в поля семенного материала; они пасли коров, лошадей и свиней из общественного поголовья; требовалась подмога взрослым в ручной прополке и окучивании ряда культур, на сенокосе, в сборе созревавших овощей. Само собой, приобщение к такой занятости не сопровождалось оформлением ещё не достигавших трудоспособного возраста как штатных работников. И платы не предусматривалось никакой. Просто имелось в виду, что другого способа справляться с поставленными перед хозяйством задачами не было. Впрочем, хотя и очень редко, оно, в благодарность, позволяло себе подкормить подраставших помощников из общего котла, когда в нём что-то совершенно скромное варилось при массовых выездах на дальние сенокосные луга или при уборке урожая картофеля. По своей значимости такое внимание было бесценным.
Помню, что брали с собой на такие выезды и меня, чтобы там за мной присматривать, и я ухитрялся хотя бы какой малостью принести пользу работающим, а других ребят, отведавших обеда, уже, что называется, и остановить было нельзя; они как одержимые старались допоздна и возвращались с работ вместе со всеми уже чуть ли не затемно.
Здесь замечу, с каким пониманием предпринятые меры воспринимались в ребячьей среде. И подростки и совсем малорослые не хныкали, не жаловались на их использование на общественных работах. То было понимание своей роли в полном соответствии с тяжелейшей обстановкой, которая складывалась на фронтах, то есть по сути оно не отличалось от той суровой необходимой жертвенности, какую избирали для себя взрослые.
Так возникало единство, во многом определявшее стиль местной общинной жизни на период войны. И чем она тянулась дольше, тем это единство проявлялось отчётливее.
Мои личные наблюдения над этой особенностью единения поколений не вполне вписываются в разрекламированное участие детей того времени в неких мероприятиях, подаваемых исключительно как патриотические, кем-то спускаемые «сверху» и тут же принимавшиеся как норма. Всё происходило иначе, будничнее, без высоких слов о долге и любви к родине. А что до выходов детворы на сжатые поля для сбора колосков, то, считаю, эти прогулки в большей части надуманны. В нашем селе я не помню, чтобы они проводились. И особого смысла в них не было.
Комбайнишко в хозяйстве хотя уже и имелся, но к началу войны – ещё без тяги, без трактора; его использовали как обычную молотилку. Жатвой, как процессом на пространстве поля, у нас занимались косари́, часто из одних женщин, и женщины же вязали снопы, складывая их в копны. Они-то знали настоящую цену каждому колоску; оставлять их на стерне было предосудительным и рассматривалось как действие едва ли не уголовное. Что если дети и находили считанное число колосков? Вес таким сборам был ничтожен. Хозяйство предпочитало обходиться без этого вклада. Зато ребята могли принести более ощутимую пользу там, где они были расставлены рядом со взрослыми или вместо них.
Дополнительные рабочие руки хотя и служили существенной подмогой общественному хозяйству, но брались-то они из семей, откуда ушли воевать отцы и братья. В связи с этим возникала их нехватка уже и в семьях, на индивидуальных площадках. Не велось ни одной стройки. Большущие огороды частью уже не возделывались.
Как результат, резко уменьшались и размеры домашних продовольственных запасов. При том, что уже в первую военную зиму колхоз хотя и начислял своим работникам трудодни, но выплаты по ним прекратил полностью, а при том, что выплаты могла осуществляться лишь продовольствием, а не деньгами, положение дворов складывалось катастрофическое. Совсем не получая зерна, они вынуждались обходиться только собранным со своих огородов.
Огромных трудностей не могли избежать даже семьи, разводившие свиней и другую мясную живность. За счёт неё выходили из положения в течение нескольких зимних месяцев, когда при отсутствии холодильников мясо и сало не портились, будучи сохраняемы на морозе. Любое потепление могло обернуться бедой. Чтобы до неё не доходило, сельчане устраивали своего рода кооперацию в потреблении мяса.
Те, что забивали особь своего животного первыми, предпочитали иногда едва ли не тремя четвертями туши делиться с соседями. Те в свою очередь поступали так же, возвращая долги. К весне скромный мясной и жировой достаток сам собой исчерпывался. Без него же и при отсутствии хлеба быстро убывали припасы картошки и квашёностей. Уже в апреле наступал настоящий голод.
Собирали случайно оставленные на грядках подгнившие клубни прошлогоднего картофельного урожая; пекли из них лепёшки. Ждали, когда выйдет из земли крапива и лебеда. Опять те же лепёшки, без жировых добавок. Мы, ребятня, испытывая непрекращаемые приступы голода, бегали в ближайшие перелески. Там к нашей безмерной радости уже вскоре после стаивания снега поднимались ростки дикого чеснока и сладковатые на вкус растения, называвшиеся нами петушками и курочками. Выручали домашние бурёнки и куры. У первых отёлы начинались незадолго до нового года, продолжаясь до февраля-марта; вторые постепенно давали больше яиц только с прибавлением продолжительности светового дня.
Но как мало сельчане могли брать себе от этого милого поголовья!
Я здесь имею в виду налоги, которыми облагались индивидуальные подворья и были тяжелы неимоверно. Если телёнок от бурёнки рождался «с опозданием», то есть где-то ближе к весне, то это обозначало, что положенный с начала года сбор молочного ресурса уже был накоплен в виде долга перед государством. Его приходилось погашать ускоренным порядком, поскольку могло дойти до изъятия коровы. Долг погашался не молоком и даже не сливками, а сбитым из сливок маслом, и его следовало сдавать на заготовительный пункт не в своём селе, тут его не было, а – в районный центр.
Не имея своих транспортных средств и лошадей, сельчане были в этом часто предоставлены сами себе: выкручивайся, как хочешь.
Было два основных варианта, как именно: отпрашиваться у колхоза, чтобы съездить в райцентр пригородным поездом, делавшим остановку за два с лишним километра от села, у полустанка, где размещалась база путейцев; или – ждать, когда из колхоза отправится в райцентр одна или несколько подвод – с его продукцией на сдачу; возчики не противились и не только отвозили полагавшееся по просьбам дворовых сдатчиков, но и сдавали принятое заготовителям, возвращаясь домой уже с квитанциями для сдатчиков.
У нас не было ни одного случая, когда бы возчик, принявший под свою ответственность переданное кем-либо добро, злоупотребил доверием, распорядился им по-своему. Суровая мера возмещения за воровство и мошенничество, установленная для военного времени, могла ему дорого обойтись, и ни на какую поблажку ему рассчитывать не приходилось. Позже, к концу войны и уже после неё сёла объезжали на подводах представители районной заготовительной инстанции.
Хлопот с приготовлением продуктов на сдачу хватало по каждому виду налогов. В семьях как самую дорогую вещь заводили многолитровую стеклянную бутыль, в которую собирали молочные сливки и затем, раскачивая эту посудину повкруг или наклонами, сбивали из сливок масло. Настоящим для меня праздником были первые удои молока от коровы, когда мама ухитрялась и телка им напоить и сварить молозиво. Это киселеподобное блюдо я считал величайшим из благ продовольствия уже только за то, что оно слади́ло, ведь сахар на столах если и водился, то очень редко и в ничтожной мере.
Казалось чудесным на вкус и молоко, свежее или скисшее, и остаток смеси после сбивания сливок в бутыли. Это богатство скрупулёзно делили на всех, на лишнее никто претендовать не мог. Летом, когда подрастали травы, удои молока становились щедрее. Теперь малолеткам его могло бы доставаться больше, но у хозяек появлялся соблазн часть молока продавать, чтобы иметь хоть какую копейку. Как раз к этой поре на дальние пустовавшие колхозные луга приезжали заготовители сена для шахтных лошадей. Те покупали с большой охотой. Также хотя и не так чтобы часто в село наведывались за свежими продуктами военные из ближайших воинских частей. С яйцами своя любопытная история.
Ко времени, когда курочки начинали нестись, уже накапливался изрядный долг по сдаче яиц. Их также собирали на отвоз в райцентр. Тут как тут некоторые курицы становились наседками, убавляя прибыток. К празднику пасхи хотя яички и выкраивались для внутреннего сельского и дворового потребления, но опять же расход надо было погашать, и как можно быстрее. Благо, к апрелю-маю солнце уже грело и светило хорошо; летом яички детям доставались чаще, но опять же и на этом товаре хозяйки не упускали возможности сторговать денежку. Говоря иначе, на строгом домашнем счету находилось каждое яичко и не только уже готовое – снесённое, а ещё и не вышедшее из куриной утробы. Помнится, как мама, уходя по утрам из дома на колхозные работы, собирала в курятнике под насестом свежие яйца, снесённые к тому времени, и поскольку число их было меньше куриного поголовья, ловила всех несушек по очереди и щупала их пальцем, определяя, сколько ещё яиц должно прибавиться за день. Такой занятной технологией пользовались во всех дворах…
Надо ещё сказать, что налог на яйца устанавливался по числу учтённых несушек. Куры для общего порядка подлежали переписи наряду с другой домашней живностью, и если у кого-то потребности в пище вынуждали часть куриц или подросших цыплят резать на мясо, то в случае появления проверяющего для «нарушителя» мог наступить момент серьёзнейшей ответственности…
Жители всяческими путями обходили проверяющих, тщательно соблюдая уместную здесь «тайну села».
При наступлении факта проверки находились дозорные, и по их знаку неполное поголовье несушек в отдельных дворах восполнялось на «опасное» время за счёт соседских кур.
Чтобы не влипнуть в историю, их осторожно проносили задами и огородами, и, конечно, не обходилось при этом без того, чтобы петухи, вернейшие стражи своей паствы, не поднимали излишнего переполоха по случаю отъёма отдельных о́собей в одних дворах и их появления в других.
Само собой, это служило сигналом к повышению бдительности и для проверяющих. Но такова уж была особенность общей создаваемой тайны, что придерживаться её обязаны были даже они. Их, как правило, подбирал председатель сельсовета, органа местной власти, или за дело брался он сам, то есть это были жители своего же села…
Налоговые обязательства существовали и в отношении забиваемых свиней. Их шкуры надо было осторожнейшим образом отделить от мясной плоти, не допуская поре́зей. Это было сырьё стратегического значения. Кожа шла на пошив сапог, сумок, ремней и других важных воинских принадлежностей. К знакомой издавна технологии разделки свиных туш, когда их обжигали соломой и сало отделялось с аппетитной умягчённой жаром кожицей, деревенский люд возвращался только в послевоенные годы.
В ходу были изъятия в пользу не только государства. Свои интересы тут имел колхоз, как структурная единица, образующая село. Ему полагалось отдавать часть телят и поросят нового приплода. Расчёт за принимавшееся мог быть весьма скромным: хозяйство обязывалось предоставлять дворам своего быка-производителя для сезонного осеменения коров и тёлок, способных давать потомство, и хря́ка или кнура – для покрытия свинок.
В целом же изъятия имели, можно сказать, тотальный характер; совсем легко было бы назвать те несколько наименований хозяйственной наличности как непосредственно во дворах, так и на приусадебных земельных участках, на которые бы груз налогообложения не распространялся. Укажу лишь на один из таковых – на табак для курева, выращиваемый на небольших делянках поблизости от жилых изб. Не надо забывать также о называвшихся добровольными государственных займах, оформляемых как облигации. Их рассматривали как обязательные. В эту финансовую копилку, эффективно использованную для фронта, в год мог отчисляться денежный эквивалент, равный среднемесячному доходу любого колхозного труженика.
Сельчанам, конечно, «не полагалось» выражать какие-либо эмоции, а тем более возмущения по поводу неумеренности налоговых изъятий. Перед лицом тяжелейшей многолетней войны, особенно в её начале это попросту не имело смысла. Кроме того, в новом для нас краю огромные воинские соединения также требовали устойчивого снабжения продовольствием и материальными ресурсами. Причиной было то, что поблизости, в Манчжурии стояла миллионная Квантунская армия из Японии.
Хотя обстоятельства складывались так, что она, эта армия, не была использована против нашей страны и удалось перебросить под Москву противостоявшую ей советскую воинскую массу, но угроза с её стороны не снималась ни на один день. Взамен снятых с плацдарма дивизий в ускоренном темпе формировались и размещались вдоль границы с порабощённым Китаем новые. Заодно создавались части для отправки на западный фронт.
Сейчас, углубляясь в эти внушительные параллели, я не претендую на некое моё тогдашнее прозрение важных событий или их необычную трактовку. О них в бо́льшей части не приходилось и слышать. Но сообразно им строилась и протекала обычная жизнь повсюду, в том числе в деревенской глухомани. Здесь происходившее в гигантских масштабах выражалось моделью, в которой отчётливо были видны признаки великого и трагичного.
Как-то глухим тёмным вечером, когда за окнами слышались раскаты грома и о стёкла тоскливо бились потоки дождя и ветки росшей поблизости от избы черёмухи, в окне, выходившем во двор, мелькнула тень человеческой фигуры. Она торопилась взойти на крыльцо. Мать тут же вышла в сени впустить пришельца. Да, её сердце давно сжималось от неизбежного. Этот человек доставил призывную повестку на отца.
По заведённому обычаю, из экономии, было принято уже сразу после ранней вечерней поры обходиться без светильника, но тут момент выпадал особый, и была зажжена единственная на всю избу керосиновая лампа с плескавшимся у неё по дну тонким слоем остатка горючего. Ввиду той же экономии фитиль под стеклом был подкручен на самый минимум. В появившемся тусклом свете ли́ца отца и матери продолжали оставаться недостаточно, как-то невнятно освещёнными, но то, что они выражали, я мог бы считать новым и любопытным.
Страшная новость вроде как ни в чём на них не запечатлевалась.
Оба, тихо переговариваясь с пришельцем, хранили какое-то мужественное, стойкое самообладание. И это при том, что времени на сбор оставалось только до утра, а в селе уже не в новинку были приходившие с фронта похоронки. Вот что делают с людьми трудности, когда любая из них преодолевалась, укрепляя характеры и волю! Пришелец вскоре ушёл.
Общий для семьи обряд прощания проходил в этот же час, и я бы не сказал, что в нём разливалась неуёмная горечь. Родители не плакали, возможно, оставляя слёзы на момент окончательной их разлуки. Мы же, дети, старались им не досаждать расспросами или капризами и тоже вели себя в высшей степени сдержанно. Я помню, что не чувствовал позыва к плачу. Ужин уже оставался позади, и нам было сказано ложиться спать.
Накоротке, по очереди, нас двоих, самых малых, отец подержал на коленях и, шутливо тормоша, приподнимал над собой на руках, остальных лишь слегка приласкивал, обещая скоро вернуться. Вот и всё. Больше мы его не увидели. В эти последние мгновения нашей такой скупой и суровой общительности он, как я теперь полагаю, мог наскоро перебирать в своей памяти те наиболее значительные события, какие составляли основу жизни – его и всей нашей семьи.
Что она, эта основа, представляла собой в Малоро́ссии и уже здесь, на новой земле, за многие тысячи километров от прежнего, родного, бедственного хутора?
Наверняка, ему, как главе семьи, следовало признать перемену как что-то малосущественное, более, может, ему обещанное и им ожидаемое, чем проявившееся на самом деле. Примерно так же могла расценивать перемену и его супруга. Что нашли они в никогда не знаемом раньше селении? Тут не было электричества, радио, почтового отделения, царило запустение, полученная от колхоза дряхлая избёнка крыта соломой. Если что в ней и лучше, так это дощатый пол, постеленный ещё прежним её хозяином.
Там, на оставленной хуторской избе покрытие тоже из соломы, пол же был мазаным. А достаток съестного? Он опять нестабилен, скуден. Стоило ли переезжать? Два близких друг другу человека, ещё только подходившие к порогу сорокалетнего возраста, но из-за нескончаемых тягот и лишений стремительно старевшие, по всей видимости, могли тут и руками развести…
Не кто иной, как я своим поведением ещё на пути сюда как бы опровергал надобность предпринятого перемещения. Произошло вот что. Где-то на прибайкальском участке железной дороги, когда товарный состав с переезжавшими долго задерживали на крупной станции и все ехавшие устали отсиживаться без дел, я, находившийся вблизи вагона и чего-то капризничавший, вдруг дал дёру куда-то в пристанционные дебри, плача и выкрикивая: «Хочу домой! Пустите меня домой!» Убежать довелось довольно далеко, но всё же меня поймали и водворили к месту в вагоне, где я продолжал гнуть своё. За этот случай домашние прозвали меня беглецом, а в шутку иногда говорили, что своим поступком я, возможно, непроизвольно заранее оспаривал саму идею дальнего и нелёгкого переезда…
К этой теме мог бы вновь и вновь возвращаться, да наверняка и возвращался отец, уже оказавшись отторгнутым от дома. Маленькую группу таких же призывников, как он, вместе с собранными по ближайшей округе отвезла в райцентр приезжавшая оттуда в село полуторка. На фронт отправляли не сразу. Требовалась хотя бы какая подготовка, необходимая в бою. Её отец проходил на специальном сборном пункте, не близко не только от нашего села, но и от райцентра. Мать хотя и могла подавлять своё волнение и беспокойство, но полностью это ей не удавалось.
Когда стало известно о завершении курсов подготовки, она отправилась туда на свидание с супругом. Как уж сумела она, бедняжка, раздобыть плошку муки, чтобы испечь на жёсткой чугунной плите, без жировой подмазки, что-то наподобие пряников, да ещё и нашла ложки две, не больше, мёда, которым были смазаны по́верху эти получившиеся утверделыми и сухими изделия, осталось ве́домым только ей.
Нам со средним братом перепало по одной этакой бесценной вещице, и я, моментально усвоивший тогда её чудный, дразнящий запах и вкус, несмотря на то, что тесто вовсе не было просо́лено, поскольку на тот момент в доме не нашлось даже этой необходимейшей пищевой приправы, не мог бы ручаться, что в своей жизни я съедал что-либо вкуснее и приятнее. Нет, просить у мамы ещё по одному экземпляру – это было бы кощунственным. Они предназначены отцу, уезжавшему на войну!
В дополнение мы, меньши́е, могли довольствоваться только запахом, щедро провисавшим над малюсенькой горкой пряников, сразу после выпечки разложенных на кухонном столе и прикрытых тряпицей.
Даже она, тряпица, казалась теперь притягательной, так что мы с братцем, остерегаясь, чтобы не быть замеченными и не огорчить мастерицу, и в самом деле несколько раз повели носами вблизи по-над нею. Тут же провисал запах табака-самосада в виде посечки, приготовленной мамою загодя.
Она всыпа́ла её в довольно внушительного размера кисет из какой-то простой материи, но слегка расшитый цветным узорочьем, изготовленный также заблаговременно. Всыпа́емое тщательно уплотнялось, и кисет, уже наполненный доверху и стянутый у верхнего основания шнурком, выглядел полновесным и плотным.
Колхоз отпускал своих работниц на такие горькие поездки. Включая время на дорогу, в данном случае требовалось три дня. Когда мама вернулась, мы со средним братцем опять получили испечённых ею пряников, сразу по два на каждого. По одному она вручила и старшим. Лакомство, как она сказала, передал нам отец, в дар и на память.
Снова тот же всплеск удовольствия и восхищения, но уже – с привкусом печали и едва ли не отчаяния: краткий момент свидания супругов прервался там же, на сборном пункте, ввиду срочной отправки сформированного эшелона.
Нам не дано было уследить его на ближайшем, нашем перегоне, что иногда удавалось местной ребятне, матерям и другим жителям, кого это касалось, какими-то путями узнававшим о проезде своих близких в направлении западного фронта.
Отец не преминул порадовать всех нас и долей из своего продовольственного пайка, полагавшегося на время езды в эшелоне.
Каждому досталось по куску солдатского, настоящего хлеба и даже – по сколку от кускового сахара. Бесценное пожертвование дорогого человека! Конечно, даже если эшелон проезжал у села ночью, отец, приоткрыв дверь дощатого вагона или из его небольшого окна поверх боковой стены, наверное жадно и напряжённо всматривался в быстро промелькнувшие, смутные очертания местности, к которой от железнодорожного полотна, где был переезд, грунтовая дорога под прямым углом шла к ближайшей улице и на ней уже пятой по счёту, совсем недалеко от смотрящего, в пределах достаточной видимости даже при лунном свете, стояла оставленная им своя изба.
Оставлено всё, и, возможно, навсегда.
Уже скоро это мрачное предположение получало форму конкретного, сурового и скорбного факта. Он ехал почти в точности по тому же маршруту, каким совсем недавно, два года назад, вёз на новое место семью.
Что за странное вращение судеб, постоянно бросающее людей в изломы равнодушного бытия, по сути впустую растрачивая и без того недолгие отдельные человеческие жизни? Чем могла окупиться эта предыдущая маета для него теперешнего, рядового, второпях и слабо обученного пехотинца? Для тех, кого он вёз, чтобы – оставить?
Достойно глубочайшего сочувствия этакое неустранимое ни в ком смятение перед неизвестным, тем более, когда оно перенасыщено опасным и непрерывно горчит. Уже оставался позади Урал, и стало известно, что эшелон направляется к Сталинграду. Потеряв четверть миллиона пленными в окружении в районе Харькова, советские
войска, часто паникуя, откатывались к своей Волге…
Отцу, успевшему отписать с дороги домой одно-единственное письмо, выпало принять собственную долю страданий и мук в этом губительном хаосе, когда, чтобы хоть как-то уменьшить его масштабы, отступавшие, уже видя по ночам у себя за спиной огни обречённого большого города, получили приказ: «Ни шагу назад!».
Он был здесь, на этих позициях, и не отступил – как было приказано. Только другие всё-таки не устояли, взятые в кольцо слева и справа. С ними, возможно, был отрезан от основных сил и заградотряд, прикрывавший боевые порядки сзади и имевший задачу стрелять по своим, если они отступали. Такая крайняя и беспощадная мера вводилась в обеспечение стойкости…
Что за воины были, в числе которых дрался отец? Одна винтовка на десятерых, остальным в лучшем случае сапёрная лопатка, также – не всем, да ещё – свинчатки, надеваемые на кисть руки. И это против танков и автоматчиков.
Редкий писатель или беллетрист и то лишь с неким стыдливым уклоном позволял себе коснуться столь бедственного положения с вооружением отступавших лавин. Стыд у них объяснялся просто: если, будучи окружён, – убит, значит, герой – остался верным присяге; если же пленён… Подлая власть нашла приемлемым навеки замарать себя, объявив своих же, оказавшихся в плену, предателями родины. И таких, как посчитали историки, по всем фронтам Великой отечественной набиралось почти 6,5 миллионов!
Обтекаемо их именовали пропавшими бе́з вести, и в такой формулировке к родственникам приходили официальные сообщения. Как предателям, пленным не давали жизни и по возвращении из плена. Их судили и на многие годы сажали в тюрьмы. Моего отца, захваченного немцами на поле боя живым и, возможно, раненым, не коснулась полоса подобных унижений и мракобесия со стороны своих.
Я полагаю, отец прекрасно знал о своём статусе обречённого; об этом, не смолкая, вещала вражеская пропаганда. И он также не мог не испытывать боли за то, что, хотя и в концлагере, вынужден был работать на врага. Продолжалась эта его работа всего полтора года, и я могу предположить, что скорая кончина его в плену обуславливалась не только его вполне возможным физическим истощением, когда, если он упал и не смог подняться, это служило поводом к расстрелу, но в определённой мере и тяжёлыми перспективами для себя – как собственно в плену, так и по его предположительном вызволении оттуда.
Этой специфической болью незаслуженного позора и отторжения, как я думаю, отстрадал не он один. Лучшим было поискать способ, например, симулируя своё бессилие, или воспользоваться случаем, чтобы невыносимая мука, возникавшая на основаниях путаных и беспощадных «высших» представлений о личной ответственности военнослужащего перед своим отечеством, прервалась бы скорее как бы сама собой…
Бедная его супруга, да и мы все, его дети, имели возможность во всей полноте испытать на себе воздействие идеологического пресса, под валком которого оказалась отцова судьба, как пленённого на фронте.
По вздорным догматам военного времени о бывшем колхознике, где-то пропавшем бе́з вести, считалось не принятым что-нибудь вспоминать гласно. О нём просто как бы забывали, в отместку чему, ввиду нелепейшей официальной доктрины, и появлялась в сельской общине привычка к умолчаниям и боязливой скрытности, на что я уже обращал внимание выше.
Мама хотя и умела держаться стойко, но сносить отторжение ей было весьма оскорбительно. Надо же – ей почти как вменялось не показывать своих огорчений и слёз даже по случаю приходивших похоронок на односельчан, когда другие бабы буквально выли и валились с ног от тоски и горя! Она даже дома плакала тихо, стараясь быть незамеченной нами в её приступах отчаяния и осознания незаслуженной обиды.
В редких случаях она обращалась с короткою молитвою к небольшой иконке, стоявшей в свободном углу в комнате-горнице, но, я понимал, что и тут она не выходит из положения приниженности и вынужденного трудного сдерживания самой себя. Слёзы блестели на её зрачках, но она не позволяла им скатываться на щёки, быстро их смахивая с уголков глаз концом платка. В голос она не плакала вообще, я такой её не знал. И ведь мука за пропавшего бе́з вести преследовала её не один год, до той поры уже после победы, когда наконец пришло известие из инстанции о погибшем в концлагере.
Соответствующим образом и мы, дети, должны были показывать своё состояние покорности и искусственного безразличия, угодное официозу, а значит и – фактическому общественному мнению, то есть, прямо говоря, – молве. Нам нечем было опровергнуть укоренявшийся дурной обычай, когда силовое пленение мгновенно уравнивало несчастного с врагами народа, беспощадно и часто без разбора и по ложным обвинениям каравшимися от лица той же подлой власти. Какие можно было выставить доводы? Никаких подробностей об отце мы ведь не знали. Где он, что с ним, жив ли, ничего этого известно не было.
На запросы приходили те же скупые сообщения, повторявшие прежнюю уклончивую версию пропажи. Как ненужные, в общи́не могли восприниматься даже некоторые сведения о факте пленения, которыми поделились вырвавшиеся из окружения несколько человек, призывавшиеся из соседних деревень. Об этом они отписали с фронта своим близким. На официальном уровне такие сведения попросту игнорировались и замалчивались, хотя они, вероятно, были отражены в реестрах тайных расследований.
Никакого выхода к семьям и родственникам им не давалось.
На себе я ощущал угрюмое воздействие обычая. Оно мгновенно распознавалось в осторожных учтивостях при разговорах матери с соседями или с теми, с кем она работала, в ребячьей среде, в том числе в школе, когда тема пленения родителей или родственников хотя и не поднималась умышленно, так как в ней содержалась некая смутная «общегосударственная» таинственность, которую следовало утаивать и дальше, однако в отношении тебя она как бы имелась в виду постоянно, не устраняясь ни на секунду.
Некоторое условное облегчение от этой давящей глыбы тщательно скрываемого всеми пристрастия могло принести разве лишь то, что оно касалось не одной нашей семьи, а многих и многих семей, но в таком случае облегчение в целом надлежало рассматривать не иначе как лукавое, противное совести.
Углубляясь в эти странности тогдашней жизни, я хотел бы сказать, что совершённые несправедливости к людям, к своим людям в своей стране, по прошествии многих десятилетий по сути так и остаются в огромной части не возмещёнными как в материальном смысле, что сейчас, может быть, не столь уж и важно, так и в духовном, и уже такими они могут остаться в истории, поскольку для поколений, им подвергавшихся, уже давно прошли все разумные сроки ожиданий и упований на лучшее. Об этом я говорю с особенною болью, ведь не выраженной с толком продолжает оставаться, по крайней мере, идея покаяния со стороны как правопреемного официоза, так и религиозных конфессий и – даже альтернативных власти общественных движений и политических партий.
Былое мракобесие, при явном разукрашивании ими формул нескончаемого милитаризма, может обернуться новыми витками забвения человеческих чаяний и самой человечности, и такая досадная перспектива не кажется вовсе исключённой…
Засевшая в мозгу новая и ещё неотчётливо сложенная в содержании мысль, когда она важна сама по себе, не может не взывать к своей скорейшей выраженности в языковой форме, чтобы стать предметом общих представлений, хорошо понятных в их необходимости и в свя́зи с нормами, писаными или неписаными, установленными для всех. От того, что такая новая мысль иногда слишком долго вынашивается, с нею должна происходит своеобразная кристаллизация: будучи прозре́нной, она претендует быть по-настоящему искренней и правдивой по отношению к тому, чего впрямую касается.