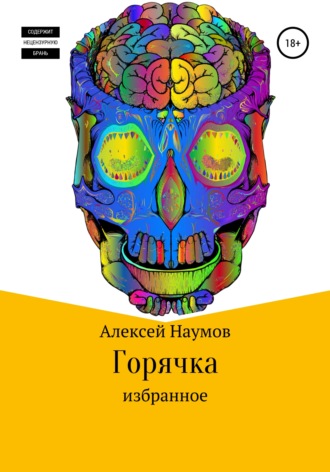
Алексей Наумов
Горячка
Оксана жила одна, работала в адвокатском бюро, училась на вечернем отделении и занималась латиноамериканскими танцами. У неё были крепкие, красивые ноги и страсть к коротким юбкам. Она ходила быстро и решительно, аппетитно покачивая своёй тугой жопкой и потряхивая густой рыжей гривой. От неё за версту несло самкой и удовольствием. Она была хороша.
«Хм, – думал я. – И где же весь этот вечер были мои глаза? Какого дьявола я клеился к той тощей дурёхе?!» И я пошёл провожать Оксану.
По пути я купил три банки каких-то сладких ядовитых коктейлей и выпил все три. Море стало мне по колено, горы по пояс…
– Вот мой дом, – сказала Оксана.
– Пойдём, – сказал я. – А то поздно уже… Метро закрыто… А я темноты боюсь…
Оксана округлила глаза и рассмеялась:
– Однако… И где же ты будешь… спать?.. У меня однокомнатная…
– На коврике у двери. Идём.
– А…
Но я уже затолкал её в подъезд, а потом в лифт. В её квартире я сразу прошёл на кухню и открыл холодильник. Там стояла бутылка белого вина.
– А где у тебя бокалы?
– На полке, справа…
Моя весёлая бесцеремонность привлекала Оксану. Много позже, я с горечью понял, что ей просто нравилось, когда с ней обращаются дурно. Чёрт, да она просто заводилось от этого, и сама вечно нарывалась на скандалы! Видит бог, мне хотелось быть с ней менее грубым, но стоило мне расслабиться, как она влезала мне на шею и всячески меня изводила. Терпеть я не умел, мы ругались, и я уходил пить. Возвращаясь под утро, похотливый и похмельный, и валял её как кошку, а она так кричала от возбуждения, что я натурально глох. После таких бурных сцен прямолинейного насилия, она была нежна как голубок, хлопотала по хозяйству, вкусно готовила и была сущим ангелом. Но проходил день, два и всё повторялось. В глазах её многочисленных друзей я был отвратительным садистом и алкашом, который мучил бедную девочку. Они откровенно ненавидели меня и постоянно нашёптывали ей про меня разные гадости. Я долго не обращал на это внимание, считая, что это типичная алкогольная паранойя, пока не выяснилось, что я, якобы, постоянно приставал к двум её подругам… Я хорошо знал этих проебушек. Обе были дважды разведены и гуляли напропалую, хоть и выглядели как невинные школьницы. Они терпеть меня не могли, потому что я демонстративно обходил их стороной. Они были банальными шлюхами, до самого мозга своих сучьих костей.
Это было слишком. Застав как-то раз у Оксаны дома одну из них, я буквально вышвырнул её на лестницу, метнув следом её обувь, одежду и сумку. Тайное противостояние сделалось открытым и весьма скоро стало понятно, что крах неминуем. Я храбро и безнадёжно бился на всех фронтах, но моя империя трещала по швам – войну на несколько фронтов я осилить не мог. Я стал по настоящему жестоким, начал вести тоталитарную внутреннюю политику, сурово подавлял мирные демонстрации, пил свыше всякой меры и, в конце концов, был смят и раздавлен «человеколюбивыми» союзниками. В последние дни крушения, в стране вспыхнула Революция. Начались кровопролитные уличные бои, которые приблизили полнейший коллапс. Тут уж я получил сполна! Меня облили всеми помоями и практически поставили на колени. Я бежал, скитался, пытался вернуться инкогнито и реставрировать монархию, но, мой народ отвернулся от меня. Я был окончательно разгромлен и с позором изгнан с континента на веки вечные. Но всё это было впереди, а пока, я налил белое вино в бокалы и чокнулся с Оксаной:
– За знакомство!
Спустя пару минут я схватил её в охапку, зацеловал, увлёк в комнату, стремительно раздел и овладел прямо на полу. Мой натиск был тем более неотразим, что Оксана, – девушка взбалмошная и легкомысленная, но глубоко романтическая, – сама в меня влюбилась. Негодяи, как известно, народ притягательный и эта роль мне, поначалу, весьма импонировала… Мы провели друг на дружке все выходные, и я сам, к чему лукавить, был ей очарован.
Мне нравилась её маленькая квартирка на последнем этаже высотки. Ванная, заставленная сотнями флакончиков с различными косметическими средствами, которые по свой общей цветовой гамме напоминали яркий оранжево-красный осенний лес. Её уютная кухонька с волнистым попугайчиком в клетке (единственным существом, которое сразу и безоговорочно полюбило меня и оставалось верным до самой последней минуты), вся зелёная от цветов и картин с пейзажами, которая была моим любимым местом отдыха. Я курил тут трубку, иногда писал, и просто ел и пил. А покушать мы любили! Мы ели много и в любое время суток. Было замечательно прокрасться ночью на кухню и застать там врасплох голенькую Оксану, поедающую в призрачном сиянии открытого холодильника креветки с соусом, сыр, колбаску или пирожное. Я не упускал момента похлопать её по попке, и тоже перекусить. Потом я тащил её в нашу мягкую кроватку, и мы любили друг друга, а после мирно засыпали, прижавшись тесно-тесно. Идиллия.
Одно мне сразу не понравилось – две её кошки. Чёрная и рыжая. Чёрная заправляла в этой парочке и была особенно коварна и цинична. Эти блядские звери не могли простить мне дружбы с попугаем и секс с их укротительницей. Когда я в порыве похмельной похоти наваливался на Оксану и творил с ней что хотел, а она оглашала квартиру пронзительными стонами и криками, они садились рядом и с холодным презрением смотрели на меня. Нет, меня это не смущало. Я люблю кошек, и кошки любят меня, часто выделяя из других людей. Они понимают толк в жизни и одиночестве, но эти… Они царапались, гадили мне в обувь, а если мы с Оксаной спали на полу (летом так было прохладнее), подкрадывались ко мне в темноте и метили мою голую спину. Это было отвратительно! В один момент, они и вовсе обнаглели: забравшись под мебель, они неожиданно атаковали мои босые ноги, царапаясь и кусаясь не на шутку. Мои ступни сильно кровоточили, а от постоянной беготни по делам и пота никак не заживали. Это была настоящая пытка. Я пробовал объяснить Оксане, что её «малышки» слишком «расшалились», но она мне не верила. «Ты посмотри, какие они милые! – говорила она, тиская их и поднося к моему лицу. – Они и мухи не обидят! Они такие лапочки…» Я молча показывал ей свои раны. «Ты сам с ними играешь! – говорила она. – Ты бегаешь, а они играются!.. Они очень, очень милые!..» Я понял, что это бесполезно и больше не говорил ей об этом. Кошки ухмылялись и продолжали охотиться на меня, используя давно проверенную немецкими подводниками тактику волчьей стаи… При этом, хитрые бестии никогда не нападали на меня при Оксане, делая меня в её глазах лгуном. В адскую жару, я вынужден был ходить по квартире в толстых войлочных тапочках, а ночами, молиться, чтобы эти гадины не вцепились мне в лицо или в мой беззащитно дремлющий член.
Главное блядство заключалось в том, что я кормил этих проныр! Если я приезжал раньше Оксаны, я обязательно давал им их дорогущий злоебучий корм, который сам же и покупал. Я не мог оставить даже самое гадкое живое существо без пищи. Услышав, как гремят их мисочки, они неслись ко мне со всех ног и тёрлись об меня как уличные проститутки. Я накладывал им еды, они мгновенно сжирали её, облизывались, посылали меня на хуй и шли отсыпаться перед охотой… Это было невыносимо.
И однажды я не выдержал. Отправив Оксану за покупками, я надел толстые джинсы и найденные у неё на балконе тяжёлые осенние ботинки – огромные, толстой свиной кожи говнодавы, твёрдые как сталь. Я нацепил их на ноги и стал прогуливаться по квартире. Кошек не было видно, а это значило, что они могли напасть в любой момент. Я прошел через всю комнату, вышел в коридор и повернул назад, ведя свои ноги, словно блесну вдоль сплетённых затопленных коряг в ожидании молниеносной щучьей атаки…
Кошки выжидали. Вид огромных чёрных ботинок их настораживал. Они были далеко не глупы. «Вот, бляди, – думал я. – Ну, ничего, ничего. Ещё посмотрим, кто у нас тут Царь зверей!.. Не хотите на блесну, поймаю на живца!» Я снял с левой ноги ботинок и, удвоив бдительность, прошёлся двинулся до коридора и обратно…
Кошка метнулась как чёрная молния. Разгневанно шипя, она привычно атаковала мою голую ногу, но я был настороже, и её встретила нога обутая… Мягко и коротко я пнул и зверюга, сдавленно мяукнув, пролетела через комнату и повисла на тюле. Запутавшись в нём, она сорвала его с карниза, рухнув с ним вниз, увлекая за собой цветочные горшки с подоконника, которые и упали на неё сверху довершая разгром. Страшно напуганная, кошка вырвалась из обрывков ткани и спряталась за шкафом. Там она просидела до следующего вечера и с той поры она никогда больше не трогала мои ноги. Просто срала в ботинки…
Рыжая всё поняла сама. Она была трусовата, и бросалась на меня только за компанию. Думаю, не попади она под влияние этой чёрной суки, она была бы вполне милым существом. Я снял ботинок и осмотрел его. На его мысу, виднелись две длинные глубокие царапины. Это казалось невозможным, настолько он был жёсток, однако, факт был налицо. Если бы это была моя нога, мне бы не поздоровилось. Я спрятал оружие возмездия обратно на балкон, сел на кухне и налил себе пива. Спустя пять минут, на кухню пришла рыжая кошка и для пробы тихонько мяукнула.
– Иди нахуй! – вяло отозвался я.
Она мяукнула громче и запрыгнула мне на колени! Это был шок. Я погладил её, и она довольно благосклонно отнеслась к этому. Да, мы не были в восторге друг от друга, это было очевидным, но Человек одолел Зверя, и внёс ясность в раздел квартирных джунглей. Отныне я не был для них добычей и занял главенствующую позицию в их малюсеньком мирке. То, что это случилось не по праву мудрейшего, а на правах наиболее крупной и более злой особи, меня вполне устраивало. Я дал рыжей кусочек курочки. Она съела его, облизнулась и ушла. Просто ушла, как и подобает уходить приличным кошкам, а не злобным распиздяйкам в кошачьем меху! Оксане, на её вопрос о шторе и цветах, я имел грех соврать, что кошки просто разыгрались и во всём виноваты они.
– А где же моя Марусечька, – поинтересовалась Оксана.
– У неё сегодня был трудный день, – сказал я. – Не трогай её, пускай себе полежит за шкафом…
– О-о, я надеюсь, вы с ней не поссорились?
– Ну что ты, – успокоил я Оксану. – Живём, душа в душу…
Глава 18
Проснувшись в 8 утра, я сразу понял, что сегодня, во что бы то ни стал, мне нужно попасть в Третьяковку. Такое со мной время от времени случалось, только обычно меня тянуло на Волхонку, смотреть импрессионистов. Моне, Гоген, Ренуар или Матисс бесконечно меня успокаивали, обновляли, и освежали взгляд. Это было подобно хорошему массажу, после которого всё тело обретало лёгкость и внутреннюю силу, только тут массажировали не тело, а душу. А ей явно требовалась подзарядка.
Я поцеловал Оксану и стал выбираться из кровати. Со сна Оксана была такой тёпленькой и нежной, что оторваться от неё было трудно, но…
– Ты куда?.. – спросила она. – Воскресенье ведь…
– Поеду, посмотрю Куинджи.
– Что посмотришь? – удивлённо повернулась она ко мне.
– На картины…
– То есть, вместо того, что бы поваляться со мной в кроватке, ты хочешь в такую рань ехать куда-то и смотреть эту свою куинджу!?
– Да.
– Ну и пожалуйста…
Оксана выразительно отвернулась к стене.
– Ксюнчик…
– Катись!
Я вздохнул, вылез из кровати, принял душ, оделся, выпил стакан холодного вина, съел грушу, выкинул из ботинок кошачье дерьмо и покатился.
Утром находиться на улице было вполне терпимо, но к полудню пекло возвращалось. Август, сменив собой июль, тяжело и пыльно навалился на Москву, не принеся с собой прохлады. В воздухе висел едкий дым с горящих подмосковных торфяников, от которого першило в горле и слезились глаза. Небо поблёкло и усохло, а тротуары были усеяны преждевременно опавшей листвой. Город походил на выжженную пустыню, в которой сохранились только самые стойкие и причудливые формы жизни. Природа в этом году угасала не степенно и медленно, – благородно седея и замирая, – а быстро и некрасиво, словно умирала подтачиваемая изнутри раком. И в такую жару трудно было понять, а, поняв, – смириться с тем, что осень нежданно-негаданно ворвалась в город летом, и уже нет такой силы, что бы остановить её и отправить восвояси, и теперь на смену ей могла прийти только зима.
Я подошёл к стоявшей пустой маршрутке и сел рядом с водителем. Больше пассажиров не было. Маршруточник презрительно швырнул мои деньги куда-то к лобовому стеклу и закурил. Я знал, что спрашивать, когда мы поедем, преступно и глупо, и сидел тихонечко как мышка. У меня было отличное настроение. Шеф докурил сигарету, с отвращением покосился в мою сторону и завёл двигатель. Машина рванула как бешенная и понеслась, нарушая по пути самые различные правила дорожного движения. На поворотах нас кренило и бросало из стороны в сторону, ветер ревел в открытых окнах, а из магнитолы хрипел шансон. Мне нравилась такая сумасшедшая езда. Водитель был из тех, кто ненавидит не только своих пассажиров и других участников дорожного движения, но и всё Человечество в целом, просто за то, что оно существует и паразитирует на его мире. Фразы о том, что «мы единое целое» не для них. Эти горячие головы не признают правил и догм ни на дороге, ни где-либо вообще, и по-своему, весьма любопытны. «Чёрт, – неслось в моей голове, когда мы пронеслись под самым носом у автобуса, – Эдак я сегодня с Куинджи лично повстречаюсь…
Маршруточник непрерывно курил и ругался с той особой, нарочитой медлительностью, которая может показаться вполне безобидной и даже… мелодичной! – но это друзья мои глубокое и опасное заблуждение. Так ругаются люди, которые редко угрожают, но, как правило, вполне решительно и без лишних эмоций, действуют. Мы лихо проскочили на красный, подрезали жигуль «Ну, что ты сигналишь, корыто долбанное…» и остановились у метро.
– Метро, – сказал он с интонацией «Сдохни!»
– Спасибо! Счастливого вам пути!
Водитель удостоил меня взгляда сытого людоеда и умчался. Я засмеялся и с лёгким сердцем спустился по лесенке-чудесенке в гранитно-мраморное подземелье.
У Третьяковки толпились первые посетители, но их было не пока много. Я облегчённо вздохнул: я терпеть не мог смотреть картины в толпе, это было неприятно и гнусно, как шуршать конфетой в театре или подглядывать за уединившимися в парке парочками. Поэтому я всегда старался попасть в музей или на вставку к самому её открытию. Это давало мне шанс осмотреть всё самое моё любимое до того момента, как пузатые автобусы, словно гигантские стальные рыбины, не привезут и не начнут метать из своего кондиционированного нутра туристическую икру: толпу радостных, постоянно фотографирующих недоумков, с брошюрами и путеводителями. Созерцать прекрасное в таком балагане у меня не было сил. В такие минуты, я был ярым социопатом. Исключением из этого правила был Лувр. Туда можно попасть в любое время. Его пропускная система должна бы послужить эталоном для наших музеев, ведь количество желающих попасть в Лувр просто огромно! Будучи в Париже, я опоздал на свою экскурсию – пил в кафе близ Сакре-Кёр джин и забылся, – а когда прибежал к входу, увидел немыслимую толпу людей. Просто ради интереса, я попробовал попасть внутрь самостоятельно, и прошёл за 2 (две!) минуты в самый разгар дня! Лувр настолько велик, что там при любом количестве посетителей можно ходить сравнительно одиноко. Конечно, при условии, что вы не хотите приблизиться к Мона Лизе хотя бы метров на 30-40, тогда вас просто сотрут в порошок… Мой вам совет – не трудитесь этого делать. В соседнем зале есть другие чудесные работы Леонардо. Подойдите к его «Иоанну Крестителю» и , в отличие от загадочной «Мона Лизы», он даст вам все ответы на мучающие человека вопросы. Просто попробуйте.
В Москве же, если приехать с утра мне не удавалось, я пропускал этот день вообще. Я грустил, злился на всё и вся, и крепко напивался. Напиться было моим любимым методом ухода от любых проблем. У меня это здорово получалось.
Наконец двери открыли, я быстренько купил билет и побежал по залам. У работ Куинджи я замер и словно губка стал впитывать исходящее от них сияние. Потом прошёл в зал Верещагина и сев в центре неспешно полюбовался его картинами. Его простые, смелые и ясные мазки, простор, чистота и свободная наполненность его картин всегда приводили меня в восторг. Но не в буйный и многословный, а в тихий, парящий, трепетный… идущий от самого сердца. Верещагин был гением, мимо его картин нельзя было пройти мимо, как нельзя пройти мимо Тициана, Гойи или Эль Греко, даже не зная их. Его «Шипка» каждый раз горько отдавалась у меня в сердце. Только военный, который не раз воочию видел Смерть, мог так просто – без нагнетания ужасов, без крови, без растерзанных тел – и в то же время так страшно и открыто показать всю её суть; её и весь этот серый, холодный и равнодушный к живым и мёртвым людям быт войны, когда перед безликим строем выживших после штурма солдат на коне победно проноситься генерал, а в десятке шагов перед ними лежат те, кто ещё час назад были их товарищами; людьми.
Когда залы наполнились, я сбежал. Выпив в буфете тёплого пива, я пошёл в поисках прохлады вниз по Лаврушенскому и прогадал: у воды оказалось очень душно. Я повернул назад, в сторону метро. Ехать домой не хотелось. От выпитого пива у меня сильно заболела язва и, поразмыслив, я дошёл до Пятницкой, сел в кафе, заказал рому и раскрыл книгу. Это был любитель кукурузного виски Фолкнер. Он писал: «Большим заблуждением многих писателей, является их настойчивое желание увлечь читателя. Заинтриговать его. Писатель не должен делать этого. Не стоит бояться, если читатель заскучает…» То были правильные слова. Этот Фолкнер кое-что смыслил, и сам старался писать невообразимо скучно. Он точно ничего не боялся. Я выпил за смелость и понимание. Потом – за удачу, за веру в себя, а напоследок – за счастье – хоть я и не очень-то верил самому себе в этом вопросе. Теперь ехать домой было просто нельзя. Ром, как ковровое бомбометание, остановил сепаратистские вылазки язвы, и она снова скрылась в подземных партизанских норах, чтобы набраться там сил для нового штурма. Язва была моим Вьетнамом и Ближним Востоком в одном сосуде.
«Почему, – спрашивал я себя, потягивая ром со льдом, – здоровые люди, совершенно не чувствуют настоящего биения жизни? Их Дух, вопреки ожиданию, слаб; зачастую они ведут существование достойное слизня, прикрывая своей работой или семьёй полную свою неспособность быть смелее, яростнее, решительнее. Они не могут принять мир со всем его разнообразием и упрямо твердят только об одной его стороне. О той, которую они видят, в которую верят, к которой принадлежат и, кроме которой, ничего не желают знать. Всё скрытое и неявное, для них – табу. В чём причина этого? Почему так происходит? Что мешает им проснуться? Заимев глупых жён и пару детишек, они начинаю говорить свысока и благодушно посмеиваться над теми, у кого этого нет, как будто это так трудно, обрюхатить далеко не самую прихотливую и привлекательную самку в стае, а потом кормить её и своё потомство. Но такой трюк способна проделать обычная ласточка, для этого не нужно рождаться человеком! Они говорят, что они ответственны за семью и не могут рисковать, но это снова враньё! Настоящим людям это никогда не мешало быть людьми. Эти молодчики и в молодости, будучи совершенно свободными, были точно такими же дерьмоедами и шагу боялись ступить в сторону от широкой, проторенной тропы, вечно болтаясь в обозе. Те же, кто обладает и страстью и желанием прорвать обволакивающую всех нас пелену и увидеть нечто большее, – всегда существовавшее и существующее, но с трудом различимое сквозь саван быта, – часто больны и немощны, и чувствуют себя весьма прескверно. Казалось бы, какие тут могут быть подвиги и похождения? Но нет. Они идут! Идут вопреки всему! Под градом неудач и насмешек, в жару и холод, неся в себе какие-то крохи идеалов и зверя своих болей, идут и имеют силы улыбаться свои невзгодам! Идут лишь за темчтобы проложить новый путь для тех, кто прожил жизнь в покое и неге, не зная ни боли, ни непонимания, ни страдания, ни сострадания… Да-а-а… Посади, – размышлял я, – этих лоснящихся от здоровья типов, в мою шкуру (в мой самый хороший день!) и они взвоют и побегут по врачам и целителям, побросав всё на свете и поглаживая себя бедненьких и несчастненьких по различным местам, я же, не просто терплю это как данность, но моя душа ещё и стремиться ввысь, к Запредельному… И что это за блядская закономерность такая?! Зачем это придумано так, а не иначе? К чему всё это?» Я глотнул ещё рому и улыбнулся. День удался. Пусть меня мучила жара, бессонница, похмелье и моя старая подруга язва, выгрызающая мои внутренности как пресловутый античный лисёнок. Пусть жесточайшая невралгия уже больше года деловито доводит меня до исступления так, что темнеет в глазах, а тело наливается чёрным свинцом. Пусть по утрам у меня из задницы струиться кровь – эта алая спутнца геморроя, – пусть! Боль и творчество как видно добрые друзья, и мне не избежать этого вечного союза. Ничего, ведь если всё это – правда, то, судя по тому, что я разваливаюсь на куски и ощущаю себя Франкенштейном, я на верном пути, – а это здорово утешает, не так ли?!
Я снова углубился в Фолкнера: «Не нужно никуда ехать, – писал он. – Все события достойные пера разворачиваются прямо у вас под носом. В вашем городе. На вашей улице. В вашем сердце. Вам стоит лишь собрать их воедино и дать им имя. Много имён…»
«Чёрт, – думал я, – и как ему это удаётся? Он что и вправду такой умный?» Мой бокал опустел, я поймал вопросительный взгляд официантки и утвердительно кивнул ей «Ещё один». Она подошла, худая и некрасивая, и тепло мне улыбнулась. Жить было хорошо.
Глава 19
– Идём!
– Куда?
– Идём, идём, я покажу…
Я взял Оксану за руку. Она встала из-за столика и пошла со мной. Мы поднялись по лесенке, потом ещё по одной, завернули за угол и оказались в небольшом закутке.
– Пришли. Ну, как тебе местечко?
– Здесь?! ты с ума сошёл!.. – с дрожащим от восторга и возбуждения голосом зашептала она. От вида её расширившихся зрачков, изменившегося голоса и чего-то ещё неуловимо-возбуждающего, понятного только двоим, я сам задрожал от желания.
– Здесь… – охрипшим голосом говорил я ей, жадно ощупывая её руками. – Вот сюда вставай… да…
– О!.. – она опёрлась руками на низенькие перильца, а я резко вошёл в неё сзади и быстро задвигался. Под нами, немного наискосок, далеко внизу, толпились люди – мы были в ГУМе…
– О-о-о!.. О-о-о!!!
– Не шуми, – зло шептал я ей, но от этого она возбуждалась ещё больше.
– О-о-о!..
– Тихо говорю!.. Тихо, сучка!..
– А-а-а!.. О-о-о…
– Блять!
– ААААА!
Я ускорил движение и, почувствовав, как всё сжимается у неё внутри, кончил.
Потом, нервно хихикая и тяжело дыша, мы спустились с маленькой верхней угловой площадки в конце ГУМа, прошли на второй этаж и сели за свой столик в кафе. Всё прошло гладко, мы отсутствовали меньше пяти минут. Оксана выглядела довольной и вызывающе сексуальной. Мне опять захотелось овладеть ею…
– Я те-бя хо-чу, – одними губами сказал я ей.
– Ты сумасшедший! Я тебя люблю…
– И я тебя… Здорово там, да?..
– О-о-о, не говори пока ничего… дай мне сок…
– Кончился. Вино будешь?
– Давай-давай!.. О-о-о…
Оксане нравилось, когда я пытался заняться с ней сексом в самом неподходящем для этого месте. Забиться в подсобку какого-нибудь кинотеатра, торгового центра или кафе, и «сделать это по быстрому», было для неё удовольствием из удовольствий. После этого она была довольна буквально всем на свете. Я был не против таких развлечений, но мне постоянно приходилось искать для нас всё новые и новые места, а это было утомительно. Я предпочитал экспромт. Понятно, что при таком раскладе, случались и казусы. Нас заставали посетители, уборщицы или чаще всего – охранники. Они, как правило, реагировали на наши игрища вполне благосклонно, и провожали меня и Оксану (которая, к слову, для таких случаев одевала совершенно невообразимые мини), понимающими взорами. Я предлагал им деньги, но обычно они отказывались и только ухмылялись. Чтобы хоть как-то их порадовать, я старался ухмыляться ещё похабнее. У них была скучная и однообразная работа и воспоминания об увиденном, должны были помочь им как то пережить день. Среди них, правда попадались и вполне омерзительные типы, с тусклыми глазами любителей детского порно. На их ухмылки я отвечал матом. У них вытягивались рожи, они начинали хвататься за свои рации и пятиться. Драться эти ублюдки никогда не лезли.
С женщинами дело обстояло много хуже. Половина из них увидев нас начинали истерично вопить, чтобы мы немедленно убирались отсюда. «Это вам не публичный дом! – орали на нас морщинистые старухи со швабрами и атрофировавшимися грудями или уродливые администраторши, забывшие, для чего у них шевелится манда. – Немедленно прекратите ЭТО! Я вызываю милицию! Вы слышите?! НЕНОРМАЛЬНЫЕ!» Их возмущению не было предела – их уже давно никто не дрючил и вид самозабвенно ебущихся парочек очевидно здорово их расстраивал. В таких случаях (если я, конечно, не был СЛИШКОМ занят и остановить меня могла только пуля в затылок), мы ретировались в состоянии полнейшей неудовлетворенности и срочно начинали искать другое место, где можно было бы завершить начатое.
Где мы только не побывали за то время! Центр Москвы оказался прекрасно устроен для искателей подобного рода быстрых удовольствий, стоил только начать пробовать. Мы проделывали самые рисковые на первый взгляд операции и выходили сухими из воды, вселяя зависть в её подруг (которым Оксана всё и самым наиподробнейшим образом докладывала.) Потом она же меня ревновала, говоря, что они на меня смотрят как сучки. Ещё бы им было не смотреть на меня! Один раз я случайно услышал, КАК она им рассказывает о наших с ней манипуляциях, хватая для достоверности их и себя за волосы, прочие места и тихонько постанывая. Тут было от чего завестись.
Оксана была воистину неутомима. Едва она замечала мало-мальский неприметный уголок, где можно было заняться любовью, то немедленно намекала мне, что она бы не прочь осмотреть его вместе со мной… Я и сам был не прочь. От многодневных возлияний и жары (от которой я всю жизнь не мог нормально спать), я находился в постоянном нервном перевозбуждении, и в любой момент был готов спариваться с этой неуёмной самкой, которая вся истекала сладким соком похоти и вожделения. Неистовство наших коротких встреч напоминало смертельную схватку двух животных. Тогда только я впервые по-настоящему понял древних, прямо ассоциирующих свой член с мечом. Мы с ума сходили друг от друга, терзая и распаляя свои тела взглядами, срывающимся шёпотом, поглаживаниями и разными неприличными жестами.
Это наваждение было настолько острое и чувственное, что короткими летними ночами в кровати или на полу Оксана порой практически теряла сознание от наслаждения и, сжимая её в своих объятьях, я зверел от её рабской безвольной женской покорности. Это была настоящая горячка.
Мы успокаивались только под утро, но и тут я не всегда мог уйти на работу вовремя т.к. её рабочий день начинался значительно позже моего, и она могла отоспаться. Когда я одевался и полностью был готов к выходу, она всегда прибегала поцеловать меня на прощание. Раздетая и жаркая ото сна, и от своей здоровой полноты жизни, она прижималась ко мне, и я забывал про всё на свете. Я швырял сумку, ставил её на четвереньки и входил в неё с намереньем пронзить насмерть, что бы эта бесконечная сладкая мука наконец прекратилась.
Растрёпанный и обезумевший приходил я на работу, и наши девушки с любопытством вглядывались в моё лицо, и что-то в моих глазах заставляли их пунцово и порывисто краснеть. Я пил воду, что-то ел и похотливо оглядывался в поисках жертвы. Я весь был покрыт ссадинами, укусами и царапинами. Мои колени нещадно болели, а сам член, казалось, светится в темноте, как не до конца прогоревший уголь… Я клялся себе сбавить темп, но приходил вечер – и всё повторялось.
По выходным мы гуляли с ней в парке. Она брала с собой бутерброды, я – пару бутылок белого вина. Мы садились в стороне от людей и перекусывали. Под сенью деревьев было прохладно и уютно. Мы болтали и смеялись. А потом… Нужно ли говорить, что было потом? Зелёные пятна от травы испортили мне не одну пару рубах и брюк. Ей было легче, она надевала юбки, которые даже и задирать не приходилось, настолько они были малы… Трава налипала на всё моё тело и оно потом нещадно чесалось. Муравью упорно кусали меня в жопу, а жуки и гусеницы горстями вываливались вечером из трусов и карманов брюк и разбегались по комнате. Я чувствовал себя Робинзоном, которому в руки попала Пятница в обличье молодой, очаровательной и совершенно ненасытной дикарки, и все мои будни были заняты исключительно непрерывным валяньем её на всей протяжённости острова, под изумлёнными взглядами стада прирученных коз…
Один-два дня в неделю мы не виделись – это были санитарные дни. Оксана возмущалась этому, она хотела быть со мной всегда, но я был неумолим, – мне нужно было прийти в себя. Я залечивал раны у себя дома, лёжа весь вечер на кровати, отрешённо попивая холодное пиво и смазывая потёртости детским кремом. Потом я беспробудно спал и приходил на следующий день работу вполне адекватным. Вечером после работы я перехватывал с Вадимом пару стаканчиков в баре или «У фонтана», и ждал звонка Оксаны. Мы либо встречались с ней в центре, либо я просто брал такси и сразу ехал к ней, купив по пути еду. Дома. мы торопливо раздевали друг дружку и сплетались в любовной борьбе, а её кошки, сидя неподалёку, с презрением смотрели на бурно резвящихся приматов, и поочерёдно ходили срать в мою обувь.
– Знаешь, – говорила она ночью, – а я по тебе скучала… А ты?
Что я мог ей ответить? Только – «да». И это было похоже на правду. Сон смыкал наши веки мы засыпали крепко обнявшись.
А среди ночи я просыпался и начинал тихонько приставать к ней. Она долго не просыпалась, пока, наконец, я не слышал, как с её полураскрытых губ слетало еле слышное прерывистое «А-ах…», и тогда я брался за дело всерьёз…
Глава 20
– С фронта?
– С него…
Я рухнул в кресло и обмяк. Лестница на второй этаж, где находилось «Ванильное небо» окончательно меня доконала.
– Ничего, ничего, – приговаривал Лёха, сидя за столиком и трудолюбиво заглатывая пиво из огромной кружки, – сейчас мы тебя подлечим, будешь как новенький. Сестра!
Лёха махнул рукой, и к нам подошла официантка.
– Сестра, пожалуйста, принесите раненному бойцу джина с тоником.







