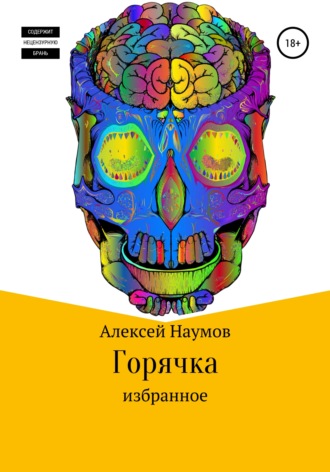
Алексей Наумов
Горячка
Постепенно, про чудаковатого Бориса стали забывать. Участок затянуло бурьяном. Затем – стройными осинками. А потом, когда осинки окрепли и всем уже начало казаться, что подмосковные джунгли вот-вот навсегда поглотят осиротевший дом, дачу неожиданно купили. Слухам этим Степаныч сперва категорически не поверил. Но как-то в начале сентября, нанятые новыми хозяевами люди в пять дней изничтожили все осины, скосили бурьян, навезли земли, засеяли газон, поставили новый забор с металлическими воротами, а в мае, как снег на голову, пожаловали и сами владельцы, Кузнецовы – Людмила и Алексей. Их-то сразу и невзлюбило чуждое всяческим переменам и тревожное как лесной зверь сердце Степаныча.
Чем именно новые соседи так ему не угодили, старик пытался понять весь день. Быть может, виной тому были их жизнерадостность, может – деловая сноровка, с которой они дружно выгружали багаж, проветривали старый дом и выкидывали из окон какое-то ветхое старье, а может, тот неоспоримый факт, что одеты они оба были не по-дачному опрятно…
Так или иначе, но чувство неприязни внутри Степаныча росло и крепло, и когда самогон в бутыли иссяк, а на участки навалились сумерки, старика осенило.
– Евреи… – прошептал он, и сам, по началу, не веря своей догадке, пугливо оглянулся. Кругом было тихо. Сгущавшаяся за окном тьма липла к оконному стеклу, всматриваясь пустыми глазницами в суровое чело старика, словно прикидывая как лучше его поглотить. Степаныч облизнул сухие губы.
– Нет, ну натурально евреи, – повторил он, точно бросая вызов окутывавшему мир мраку и тут, без предупреждения, Вифлиемской звездой полыхнул единственный на улице фонарь и лицо Степаныча посветлело.
– Точно евреи! – радостно подытожил он. – Самые что ни на есть! Ух, ироды!
Старик встал, погрозил сухим кулаком в окно, до хруста потянулся и, насвистывая весёлую мелодию, стал спускаться вниз, дабы отменно отужинать после тяжёлой, трудовой вахты.
Надо отметить, что с лёгкой руки Степаныча, евреем у него мог заделаться каждый. Такие никчёмные мелочи, вроде фамилии, внешнего вида и даже вероисповедания человека, если таковое вообще имелось, старика ничуть не смущали. У него самого в углу кухни абсолютно мирно соседствовали засиженная мухами картонная иконка божией матери, портрет Ленина и, заботливо обёрнутое в целлофановый пакет, журнальное фото Зигмунда Фрейда, которого Степаныч принял за Хемингуэя…
Словом, душа Степаныча была широка, ум- пыток, а потому, в слово «еврей» вкладывал он куда более глубокий и сокровенный смысл, недоступный простому смертному. Так, к примеру, «евреями» были жившие в конце переулка Гусевы, которые одними из первых на участках обзавелись непростительной и совершенно ненужной, по меркам Степаныча, роскошью – электрической газонокосилкой!
Сам старик траву отродясь не стриг, а если осока вдоль канавы начинала угрожающе надвигаться на баню, в руках Степаныча появлялся ржавый серп, которым он под корень уничтожал «прошмандовку».
Схожим образом, в разряд «евреев» им были определены: Фёдоровы, – имевшие обыкновение носить в жару соломенные шляпы, Остроумовы, – не жалеющие хорошей краски на свой забор, Биляловы, – установившие рядом со своей калиткой электрический звонок, Доброславские, – застилавшие стол на улице белой скатертью и подметавшие дорожки веником, и многие, многие другие.
Даже первый сторож садового товарищества, Колька Черных, запойный пьяница и последняя рвань, ухитрился, правда, на весьма непродолжительное время, побыть у Степаныча «иудеем». Виной тому был почти новый мотоцикл «Урал» с коляской, доставшийся Кольке по наследству от спившегося дядьки. Прежде чем Колька успел съехать на своём железном коне в канаву и начисто его угробить (сам, естественно, не получив при аварии ни единой царапины, по причине своего мертвецкого опьянения), он целую неделю гонял на стальном коне по соседним деревням, абсолютно позабыв про своего верного собутыльника Степаныча…
– Вот ведь странные люди, евреи эти, – рассуждал тем же вечером старик, поедая яичницу с чёрным хлебом и бросая косые взгляды на ожившие окна соседнего дома. – Вот чего им, спрашивается, в своей Америке не сидится?.. Так и тянет их сюда, басурманов, так и тянет… И ладно бы просто приезжали, – пёс с ними, – так ведь и порядки свои устанавливать начинают!.. Косилки покупают, будто рук у них нет, звонки ставят, словно и крикнуть уж нельзя… Да и чего кричать-то?.. Открыто ж всё… Было… Не то, что сейчас…
Старик качал головой.
– Эх, были времена – верёвочку натянул – вот тебе и забор! Две жерди воткнул – калитка! Подлез – и дома, и порядок!.. А сейчас?.. Мерзость одна… Ни тебе вида, ни тебе понимания… А всё от чего это?.. А всё от дикости!.. Заборы понатыкали и сидят за ними как мыши… Никакого размаху… Да и евреи тоже не те пошли… У нас вот на заводе был один, и ничего, с пониманием… Танкист!.. Всю войну прошёл! Кулак что буханка! А пил как?! А матерился?! Человек! А эти, тьфу, мелюзга… Смотреть тошно… Нет, ну где это видано, чтобы дорожки на участке веником подметают, а!? Я дома не подметаю, а они… Одно слово – инородцы…
Долго кручинился, таким образом, Степаныч. Долго жаловался своему отражению в чёрном окне веранды. Но к полуночи приободрился.
– А вот только хрен вам! – радостно хлопнул он по столу трудовой ладонью и горделиво приосанился. – Шиш вам да камыш! Не на тех напали! С роду тут такого безобразия не было и никогда и не будет!.. Выстоим!.. Не прогнёмся!.. СГНОИМ!
Степаныч ещё раз звучно стукнул по столу, проглотил последние капли самогона, бросил бычок в консервную банку и улёгся тут же, где сидел, на продавленном диване, накрывшись распоротой брезентовой палаткой; и сны ему снились соответствующие.
Утро застало его врасплох. Встававшее солнце немилосердно пекло ему спину, и старик кряхтел и ворочался, не желая, однако, сдаваться и перебираться в прохладу второго этажа.
– Пережду, гнида, – ворчал он, обливаясь потом, и тщетно пытаясь загородиться от солнца горячим брезентом. – Не на того напало, паскуда… Шиш да камыш…
Наконец, после часа ожесточённой борьбы, солнце укатилось за соседский дом, и старик, победоносно позёвывая, вновь начал проваливаться в дремоту, как вдруг…
– Василий Степанович!.. Доброе утро!.. Это сосед ваш, Алексей… Вам нужно чего?.. Мы тут в город собрались, решили узнать, по-соседски так сказать, вам купить что-то?.. Василий Степанович?!
От этих звуков Степаныч вскочил с дивана точно ошпаренный и перепуганной канарейкой заметался по веранде. Тридцать лет его никто не называл по имени отчеству, да к тому же с похмелья… Голос снаружи, меж тем, не стихал.
– Так как, Василий Степанович, вам нужно что, в городе? Вы не стесняйтесь, говорите, нам не трудно. Мы на автомобиле.
Эти слова застали старика, слегка уже оправившись от первого, простительного испуга, на лестнице второго этажа. Затаив дыхание и по-детски высунув кончик языка, Степаныч попытался бесшумно пробраться наверх, чтобы там, в прохладной мгле своей берлоги, молча, как раненный медведь, залечь и переждать нашествие супостатов. Затея ему почти удалась, но, на предпоследней ступеньке, он ненароком наступил на край палатки, в которую он до сих пор кутался точно в римскую тунику. Споткнувшись, старик судорожно схватился обеими руками за воздух, в сердцах выругался и, со страшным грохотом кубарем скатился вниз, едва не откусив себе язык и в кровь ободрав колени и локти.
– Тудыть тебя растудыть, да в бога душу военно-морскую килематерь, – прорычал старик, поднимаясь на ноги и оглядывая ободранные суставы. – Это что ж такое-то, а? Совсем житья трудовому человеку не осталось…
Некто в белой панаме, услышав в доме шум, и заметив через окно какое-то движение, неистово замахал руками.
– Доброе утро! У вас калитка открыта была, ну я и заглянул… По-соседски так сказать… Хотел спросить, вам ничего не нужно в городе, а то мы едем…
Пойманный с поличным, Степаныч беззвучно взвыл, прошагал к двери и порывистым жестом распахнул её настежь.
– Хлеба! – промычал он, не вполне ещё владея прикушенным языком.
– Простите? – откликнулся Кузнецов, удивлённо переводя взгляд с безумного лица Степаныча на его колени, локти, палатку и обратно на лицо. – Что вы сказали?..
– Хлеба, – сипло проревел Степаныч. – Хлеба и консерву. Бычок в томате. Черноморский!
Последнюю фразу старик почти прокричал, но ранний гость, кажется, не придал этому большого значение и лучезарно улыбнулся.
– А, понял… Хлеба и бычки в томате… Хорошо… Вы уж простите, что я без приглашения, – затараторил он, снимая с головы белоснежную панаму. – Меня Алексеем зовут. А вон – жена моя, Людмила. Мы ваши новые соседи. Рад знакомству…
Голос Кузнецова дрогнул, встретившись с затравленным взглядом Степаныча. Так смотрит попавший в капкан волк на желающего ему помочь человека. Впрочем, длилось это не более нескольких секунд, после чего, взгляд старика вновь стал твёрдым как орудийная сталь. Он плотнее запахнул свою тунику и посмотрел на гостя взглядом потревоженного Нерона. Возникла пауза.
– Так, значит, хлеба и бычков… – пробормотал, наконец, Алексей, не зная как ещё поддержать разговор. – Верно?..
– Верно, – угрюмо процедил старик, мерно бронзовея лицом.
– Черноморских…
– Чер-р-рномор-р-рских!
– Ага… Ясно… Понятно… Ну, что ж… Я пойду тогда?..
Степаныч, окончательно превратившийся к этому моменту в грозное изваяние самому себе, снисходительно повёл бровями. Кузнецов, помяв в руках панаму, начал пятиться.
– Тогда мы как вернёмся, я загляну, хорошо?.. Часика через три…
Нерон еле заметно кивнул.
– Вот и славно… – расплылся в улыбке Кузнецов. – Тогда, до встречи.
Он ещё немного попятился, потом стремительно развернулся, шмыгнул в распахнутую калитку и был таков. Степаныч, с видимым равнодушием сплюнул на землю, зевнул и неспешно закрыл дверь, точно вновь собирался лечь спать. На самом же деле, скинув ненавистной палатку, он пулей взмыл на второй этаж, и приник к окну. Кузнецов как раз закрывал ворота. Людмила уже сидела в машине и чему-то улыбалась. Степаныч нахмурился.
– Вот ведь негодники, – пробормотал он. – Подстерегли… И имя ведь моё, подлецы, у кого-то выпытали… Не иначе у сторожа… Ну что за люди?! Тьфу!..
Кручинясь, старик опустился на стул и загоревал. Не так он видел их первую встречу, совсем не так.
– И на кой чёрт я на их хлеб согласился!? – сокрушался он вполголоса. – И бычков ещё, в придачу, старый дурак, попросил… Ведь купят, паразиты, обязательно всё купят! И привезут! Такой уж они, евреи, народ… А платить то я им чем, спрашивается, буду, а?! Об этом они, подлецы, подумали!? Нет! Куда им… Ростовщики!!! Пенсия в четверг, а сегодня только суббота! И не стыдно же вот так вот людям с утра по чужим участкам шляться, да клянчить всякое… Да по СУББОТАМ! Э-хе-хех…
Степаныч косо посмотрел на пустую бутыль самогона, лежавшую у его ног и понял, что пора ему навестить своего старого друга, сторожа.
– Заодно и про евреев его порасспрошу, – причмокнул губами старик. – Авось слышал что…
Степаныч хитро прищурился и решительно встал. Пружинистым шагом он покинул участок и двинулся к Кремлю, – как в народе называли сторожку и примыкающей к ней магазин, – разнюхивая по пути свежие сплетни и всласть угощаясь чужим табаком.
Однако, на пороге сторожки его ждало глубокое разочарование, в виде Галины, жены сторожа, дамы весомой во всех ракурсах и отношениях.
Смерив Степаныча неодобрительным взглядом, она, не без злорадства, сообщила ему, что Славка, муж, алкаш проклятый, с вечера ушёл на ночную рыбалку с двумя дачниками, и до сих пор не вернулся…
Старик завистливо присвистнул. В последнюю свою ночную рыбалку, они со сторожем так напились на небольшом острове посреди озера, что проткнули топором взятую на время надувную лодку, сожгли одно весло и так перепутали свои снасти, что выбросили их к чёртовой матери. Вдобавок ко всему, отплывая утром «на материк», они начисто забыли залить водой остатки костра, так что к вечеру следующего дня, небольшой торфяной островок был весь окутан едким дымом.
Торф тлел степенно, так что огню потребовалось почти две недели, прежде чем на месте крохотного зелёного оазиса, на поверхности воды образовался горелый блин, с обугленными остовами берёз и зияющими ямами, в которых застыла черная и тягучая, точно нефть, вода.
– Тогда передавай привет… Как вернётся, – весело подмигнул сторожихе Степаныч, хотя у самого на душе кошки скреблись.
– Передам, передам, – ухмыльнулась Галина, подперев свои могучие бёдра столь же могучими руками. – Смотри в навоз не наступи…
Пропустив мимо ушей обидную реплику, старик, битый, но не побеждённый, обогнул сторожку и пристроился в хвост очереди в магазин, – последней его надежды на халявное спиртное. Тут, разморенной зноем толпе, ему не раз удавалось завязать разговор с нужными людьми и, взамен, бесплатно угоститься холодным пивом. То были его охотничья угодья, и он окинул их одним опытным взглядом старого браконьера, чтобы понять, кто станет его жертвой. Но, увы, этим утром фортуна окончательно отвернулась от Степаныча. Во всей очереди почти поголовно стояли одни бабы, а один мало-мальски подходящий мужичок, с глазами грустными и прозрачными как сентябрьское небо, купил шесть пачек сливочного пломбира и печально удалился.
– Тьфу, неладная, – сплюнул старик и нехотя побрёл домой. – Никакого житья трудовому народу… Ни тебе поспать, ни тебе выпить… Ладно, хоть чаю с мёдом употреблю… А Славка, паскуда, пусть мне только на глаза попадётся… Вспорю!..
Степаныч схватился за рукоятку самодельного ножа, что вечно болтался у него на ремне и глаза его потемнели от праведного гнева. В этот момент, его и нагнала машина. Старик, который уже и думать позабывший про своё утреннее приключение, забавно подпрыгнул, когда его внезапно окликнул знакомый голос.
– Василий Степанович! Держите! Всё как вы заказывали… Хлеб и консервы… Мы только не знали белого вам или черного, так что держите оба.
С этими словами, Кузнецов сунул через опущенное окно Степанычу в руки восхитительно пахнущий свежей сдобой пакет. Совершенно растерявшийся старик что-то прошамкал в ответ, но Кузнецов испуганно замахал руками:
– Что вы, что вы!.. Какие счёты! Такая мелочь… Ничего не нужно… Хорошего дня!..
Словно боясь, что старик передумает, Кузнецов быстро включил скорость и умчался.
Когда пыль осела, Степаныч недоверчиво обнюхал наисвежайший батон, помял в жадных ладонях ещё тёплую, пахнущую кислинкой половинку чёрного, настойчиво постучал жёлтым ногтем по банке черноморских бычков в томатном соусе, точно желая знать, есть ли кто дома, а потом с чувством выдохнул:
– Нет, ну, точно евреи!
Сом
– Врёшь, – внезапно сказал Куликин. Его рыбьи глаза дрогнули, ожили и трудом сфокусировались на окаменевшем лице Степаныча.
– Что?.. – недоверчиво прохрипел старик, вздрогнувший как от пощёчины. – Что-что?..
– Врё-ёшь, – отчётливо повторил Куликин. – Нет тут никаких сомов, и никогда не было. Не мог ты никого тут поймать ни такого, – Куликин широко развёл в стороны руки, – ни вот такого, – он уменьшил размер воображаемой рыбы, – ни даже вот такусенького.
Куликин свёл большой и указательный пальцы левой руки на ширину спичечного коробка и поднёс их к самому носу оторопевшего от такой неслыханной дерзости Степаныча.
Все замерли… Сквозь протяжный стрекот кузнечиков, стало вдруг отчётливо слышно, как за лесом, на дальнем поле, натужно гудит комбайн, собирая на силос незрелую кукурузу. Бывший моряк Северного военно-морского флота шире расставил ноги, сочно сплюнул под ноги и прищурился. Его узловатая, точно морёная коряга рука поправила ремень и, словно невзначай, коснулась истёртой рукояти уродливого самодельного ножа.
– Так, значит, вру?.. – переспросил он сквозь зубы, не то с угрозой, не то с надеждой.
– Врешь, – безучастно кивнул Куликин и широко зевнул. – Как пить дать. Нет тут сомов.
Степаныч издал сдавленный рык и шагнул вплотную к своему обидчику, надеясь его запугать, но безрезультатно. Минутный всплеск жизни уже покидал тучное тело Куликина и им вновь овладевал бесконечная сонная апатия.
Старик затравленно огляделся. Много мыслей роилось в его косматой голове. И ещё больше изощрённейших флотских ругательств готово было сорваться с его острого языка, но он молчал, ибо давно и крепко усвоил простое правило своего давнего наставника, мичмана Зуева – «Можешь вдарить – вдарь, а не можешь – молчи!»
И Степаныч молчал. Молчал с чувством. С жаром. Со страстью! Молчал так, что любой МХАТовец отдал бы за такое молчание полжизни. Его испепеляющий взгляд резал Куликина вдоль и поперёк. Кромсал на куски. Стирал в муку. Аннигилировали его. Вот только Куликину, увы, до этого никакого дела не было. Его одутловатое лицо выражало полную отрешённость, а глаза походили на две мутные лужицы. Битва с дерьмом была проиграна.
– Ладно, – сказал кто-то из мужиков, когда неловкое молчание стало затягиваться. – Пойду я, пожалуй… Дел по горло…
– Да… Да… Точно… Дела… – закивали остальные, стараясь не встречаться со Степанычем взглядом. – Увидимся… Пока…
Через минуту переулок опустел. Последним, склонив свою тыквеподобную голову к правому плечу, медленно удалился негодяй Куликин. Поверженный и посрамлённый, Степаныча остался один. Прекрасное летнее утро и все связанные с ним светлые надежды были в одночасье растоптаны в прах. И кем!? Куликиным! Человеком жалким и никчёмным во всех своих земных проявлениях.
– Ну, подлец… – шипел Степаныч, нервно обыскивая свои карманы, в поисках давно закончившихся папирос. – Оскорблять меня вздумал!.. Сомов тут, видите ли, не водится!.. Сопляк!.. Я вот следующего сома-то изловлю, да тебе через заднее рыло-то и заправлю, по самые небалуйся… По самый трюм нашпигую негодника!.. Посмотрим, как ты тогда запоёшь… Земноводное!..
В сердцах, старик увесисто пнул окаменелым кирзачем близлежащий забор, да так удачно, что одна из досок звучно переломилась. По ту сторону забора немедленно полыхнул яростный собачий лай и послышались голоса.
– Вот ведь неладная, – досадливо пробормотал Степаныч, втягивая косматую голову в некогда могучие плечи. – Совсем житья трудовому человеку не осталось…
И со всех ног кинулся прочь.
Оставшийся день промыкался старик в тяжких думах. Было ясно, что подлеца и выскочку Куликина надобно проучить, и проучить, как следует, но что для этого необходимо сделать, Степаныч еще не понимал. Конечно, проще всего было найти надёжного свидетеля, который бы принародно подтвердил правоту его слов, но в этом-то и была вся загвоздка… Никаких сомов в округе и в правду не водилось, и старик отлично это знал. Вся его история была выдумкой чистой воды. Старик и удочки то отродясь в руках не держал, хотя и видел однажды, как пьяные мужики таскают бреднем карасей из колхозного пруда. Само собой разумеется, всегда можно было подговорить сторожа Кузьмича, который, за бутылку самогона, подтвердил бы, что Степаныч ловил в округе не только сомов, но и омаров с осьминогами, но, по воле жестокого рока, слова сторожа никакого должного веса на дачах не имели.
– Да, дела… – бормотал Степаныч, грустно бродя меж ульев. – Ну да ничего, ничего… Найдём на него управу… Не в первой…
Когда багровые закатные тени проползли по участку и скрылись в соседских кустах, а следом, из почерневшего леса, наползла таившаяся там до поры тьма, Степаныч, чувствуя, что от горькой безысходности во рту у него сделалось предельно сухо, затрусил в свою «обсерваторию». Там, причудливо отражаясь в надраенном до жгучего блеска самогонном аппарате, старик открыл прохладную бутыль смородинового самогона, пододвинул к себе плошку окаменевшего мёда и принялся вдумчиво пить.
«А может, ему дом спалить?.. – неслось в горемычной голове Степаныча. – Или, хотя бы, баню… Баня-то у него, у подлеца, отменная… Евреи строили… Всё у него, у паршивца этакого, гладко да стройно, а сам – говно… Ни разу меня папиросой не угостил, паскудник… Не курит он… Паскудник и есть!.. А уж в долг дать трудовому человеку, так это и вовсе пиши пропало… Сгноит, а не даст… Не наш человек… Не-е-е… Жмот мелкосопочный…»
Вспомнилось Степанычу, как тридцать лет назад, лихо и дружно, всеми дачами, они лихо курочили закрытую за ненадобностью деревенскую школу. Как трещали бревенчатые стены, звенели стёкла, летела вниз крыша, как ловко спорилась работа в умелых руках, и как хорошо и радостно было у всех на душе. У всех, кроме Куликина… Когда в перерывах, мужики жгли небольшой костерок из разбросанных школьных тетрадок, чтобы вскипятить чаю, и, довольные добычей, смеялись, этот мелкий поганец, Куликин, уже тогда смурной как сморчок, бродил поодаль, печально вздыхая и портя всем настроение.
– И зачем вот его, спрашивается, чёрт дёрнул туда поехать? – недоумевал Степаныч. – За каким таким интересом? Мало того, что палец о палец не ударил, так ещё и не взял ничего!.. Ни пользы от него, ни удовольствия, один туман да разбодяживание… И бродил там и бродил, и охал и охал… А чего охать то, трудовому человеку, чего!? Трудовой человек он во как жизнь держит!
Степаныч схватил узловатой ладонью горсть затхлого воздуха и сжал до хруста.
– Разворотили – построили! Делов-то! – громыхнул старик. – А этот, как не родной, как не с нашего завода… Всё стонал… Всё причитал… Да кому эта школа тут нахрен нужна была, когда вся деревня давно разбежалась?! Три калеки да баба с поросём!.. Зачем им школа?! У них сельпо имеется… Эх, Куликин, Куликин, не русский ты человек… Ну никакого размаха… Небось и в армии то не служил, мухомор кривобокий… Да куда ему, дармоеду институтскому… Эх, а знатный забор у меня из тех досок тогда получился, жаль сгнил весь…
Степаныч снова закручинился, но ненадолго, поскольку после 4 стакана на него внезапно снизошло озарение.
– Вот я старый дурак, – хлопнул он себя по лбу. – Как же это я про него забыл то?! Это он во всё виноват, рассказами своими… Только он родненький теперь и помочь мне может! Только он…
Степаныч порывисто вскочил, набросил на плечи сальный пиджак, сунул в карман свежую бутыль и растаял во мраке.
Путь его лежал на соседнюю улицу. Там, за высоким забором, в большом доме из толстого бруса, жил неутомимый браконьер, пьяница и балагур Колька, по прозвищу Афганец. Хозяйство его было большим и опрятным, но управляться ему приходилось одному, поскольку жена и дочь в такую глушь ездить категорически отказывались. Впрочем, Колька не скучал.
– О-о-о, какие люди и без охраны! – шумно приветствовал его хозяин. – А у меня как раз банька поспела… Смекаешь, Степаныч?..
Колькин влажный глаз хитро подмигнул старику и у того полегчало на душе. «Правильный человек, – подумал он. – С пониманием… Поможет…»
– Да ты, я вижу, и веничек смородиновый прихватил, – ухмыльнулся Колька, углядев томный блеск торчавшей из кармана бутыли. – Уважаю…
– Совет твой нужен, – напрямую сказал Степаныч. – Совсем одолели окаянные… Никакого житья трудовому человеку не осталось…
– Ну, за советом делом не станет, – твёрдо заверил его хозяин. – Как-никак, все мы родом из страны Советов… Да ты проходи, проходи… Там накрыто уже… Сейчас всё решим… Ты разливай пока…
Степаныч благодарно кивнул и засеменил по узенькой тропинке в сторону двухэтажной бани. Сердце его пело.
– Так значит, сом тебе нужен, – спустя пару часов, подытожил Колька.
– Сом… – мощно кивнул головой Степаныч, едва не падая из-за стола.
Цыганские глаза Афганца заискрились смехом.
– Так ведь нет тут никаких сомов, Степаныч… – проворковал он. – Нет, и никогда не было…
– Были бы – не пришёл, – буркнул старик, силясь твёрже поставить локоть на стол. – Ты мне лучше скажи, где мне его достать. Может, они в Рыбхозе имеются? Ты ж там… э-э-э… бываешь…
Колька счастливо улыбнулся.
– Бываю… Но сомов там нет… Проверено… Может тебе сазан подойдёт, а? Сазан он страсть какой хороший случается… Могу договориться…
– Да провались ты пропадом со своим сазаном! – взвился доведённый до отчаянья Степаныч. – Говорю тебе – сом и точка.
Колька тщательно потёр подбородок и, подцепив кусок колбасы, принялся старательно его жевать.
– Так что?.. – донимал его Степаныч. – Где мне сома достать, а?
– Тогда только рынок остаётся, – прожевав, ответил Колька. – Лучший способ… В райцентр тебе надо, Степаныч… В рыбные ряды… Там ух какие хорошие сомы бывают…
Степаныч пригорюнился. Про рынок он и сам сразу думал, если бы не одно но…
– Так сом-то, он того, денег стоит… – пробурчал старик. – А денег нет…
– Тогда – хана, – развёл руками улыбающийся Колька. – Тогда- сазан.
Степаныч почернел лицом и стиснул зубы.
«Напрасно только я на тебя, гадину, самогон самодержавный извёл, – подумалось ему. – И без тебя, подлеца, ясно, что в магазинах сомы имеются… Браконьер ты проклятый… Сдать бы тебя куда следует, да дел по горло… Тьфу на тебя, расхититель…»
Но вслух старик ничего не сказал. Допив свой стакан, он утёр рот и, со второй попытки, поднялся.
– Уже? – удивлённо вскинул брови Афганец. – Что ты рано нынче… Стареешь, Степаныч, стареешь…
– Моряк свою норму знает, – крепко держась за стол, отчеканил старик. – Полундра!..
Палуба внезапно качнулася под его ногами, но Степаныч сдюжил и не упал.
– Слушай, – вдруг оживился Афганец. – Что это мы… У тебя же мёд отменный имеется!
– Допустим, – ответил Степаныч, боясь отпустить стол. – И что?..
– А то, дурья твоя башка, что продашь ты свой мёд на рынке и купишь себе сома! – ответил Колька. – Килограмм на 10!.. Куликин твой весь изморосью покроется, когда его увидит… И ухи ещё себе потом наваришь на неделю… Сплошная выгода… Дело верное, надо только…
Но Степаныч не дал ему договорить.
– Что?! – проревел он, выпучивая глаза. – Торговать!? Я?! Ни за что!!!
С этими словами, он размашисто шагнул к двери, ударился о косяк и был таков.
Благоуханная ночь подхватила Степаныча под ослабшие руки и понесла его сначала в сирень, потом на стену дома, а после, прямиком на калитку. Только вывалившись в черноту переулка, старик немного отдышался и, покачиваясь, побрёл к дому, бормоча себе под нос проклятья.
***
На рынок Степаныч приехал спозаранку. Узнав, что место стоит денег, он решительно повернулся и зашагал в сторону железнодорожной станции. К груди старик прижимал трёхлитровую банку мёда, в меру разбавленного водой и сахаром. Взор его был затравлен и дик. Всю ночь Степаныч рассчитывал, за какую цену ему надобно продать свой продукт, чтобы денег хватило на большого сома, и меньше чем за две тысячи рублей отдавать своё добро не собирался.
«А может и две с полтиной дадут, – мечтал Степаныч, уже трясясь в зябком утреннем автобусе. – Тогда ещё папирос себе прикуплю, с фильтром, и колбасы…»
Торговать на самой станции Степаныч не решился. Он занял позицию в ста метрах от неё, на узкой асфальтовой дорожке, прорезающей небольшую рощу. Там, он начал стыдливо предлагал свой товар торопливо снующим туда-сюда людям. Заискивающе глядя в им глаза, старик робко протягивал свою банку, шепча нечто нечленораздельное, а потом, видя, что от него шарахаются, хмурился и слал в спину приглушенные проклятья.
Несколько раз на горизонте мелькал полицейский патруль, и старик срывался с места и гигантскими прыжками мчался в кусты, где и отлёживался, пока горизонт не расчищался. После третьей такой «лёжки», грязный, жалкий и разъярённый, Степаныч уже не заискивался перед прохожими, а грубо совал им свою банку прямо под нос. Когда же те, вполне ожидаемо, пытались улизнуть, старик начинал злорадно смеяться и от души посылал их ко всем чертям, потрясая вслед кулаком.
Промаявшись, таким образом, до полудня и обессилев до дрожи, старик свернул с большой дороги, понуро прошёл в дальний конец рощи и присел на трубы теплосети. Там, без понимания и вкуса, он в один заход выпил припасённые 300 гр. самогона, грустно зачерпнул пальцем из банки немного мёду и уныло захрустел сочным яблоком.
– Сукины дети, – бессильно клял он на все лады нерадивых покупателей. – Я им, блядям, со всей душой, свой наилучший мёд втюхиваю, а они, гниды сухопутные, нос воротят, будто я им дерьмо какое сую… Демократы хреновы… И куда я теперь с этим мёдом?.. Куда?! Мне сом нужен, а не мёд этот, провались он пропадом…
Старик с отвращением посмотрел на свой товар и пригорюнился. Но, самогон уже растекался по жилам, будоража ненасытную его кровь и отгоняя тоску…
Через пять минут, порозовевший Степаныч пружинисто поднялся, протёр банку мёда от прилипшей к ней грязи и твёрдо двинулся обратно.
– Мёд! Кому мёд! – громко начал вещать он, стоя у края асфальтовой тропы. – Отличный мёд! Замечательный мёд! От всех бед, от всех болезней!
А ещё через пару минут, сам того не заметив, Степаныч, как заправский зазывала, перешёл с прозы на стихи.
Мёд сладок да гладок,
Банку съел и порядок!
Не горчит, не перчит,
Глаз горит, хер торчит!
Говоря это, старик, выделывая ногами замысловатые коленца, так что прохожие так и покатывались со смеху. Сразу несколько человек согласились понюхать предложенный Степанычем продукт и тот, окрылённый, наддал жару:
Заболел? Рецепт простой!
Мёд военно-луговой!
Он от триппера, от гриппа,
Пердежа и гайморита,
Всю семью излечит враз,
Вместо тысячи лекарств!
Хош – соси, а хочешь – жуй,
Но поможет ВСЁ РАВ-НО!!!
Через пять минут, подвыпившая компания москвичей, насмеявшись до упаду и сделав со стариком несколько фотографий, купила вскладчину банку мёда за три тысячи рублей, вдобавок одарив Степаныча начатой пачкой сигарет. Не веря своему счастью, старик быстро пересчитал деньги, воровато оглянулся, сунул бешенные тысячи куда-то за пазуху и крупной иноходью двинулся к рыбным рядам.
– Учитесь, – радостно бурчал себе под нос расправивший крылья атлант. – У-ЧИ-ТЕСЬ!.. Я вам покажу, коекакеры!.. Три тысячи!.. ТРИ, как одна копеечка!.. И сигареты!.. Мать честная!.. Так жить можно!..
С сомами проблем не было. Степаныч быстро приобрёл внушительный экземпляр с великолепными усами и сунул его в рюкзак. Затем, чувствуя себя заправским богачом и кутилой, старик на оставшиеся деньги купил себе круг чайной колбасы, два блока сигарет, пакет пряников, свежий хлеб, пачку приличного чая и, неслыханную роскошь, литровую бутылку хорошего пива прямиков из холодильника. Сев в автобус и скрутив с бутылки крышку, старик жадно припал губами к живительной влаге и пил до сладостной икоты и выступления крупных слёз.
– Накоси-выкуси, Куликин, – беззвучно шептал он всю дорогу домой. – Пиздец тебе, земноводное! Натурально пиздец… Туши огни, гнида бесхребетная, ледокол Красин прёт!..
Дома, сунув сома в старый как мир холодильник, где кроме него ничего не было, старик устроил себе небольшой пир, после чего, окончательно раздобрев, начал готовить операцию.







