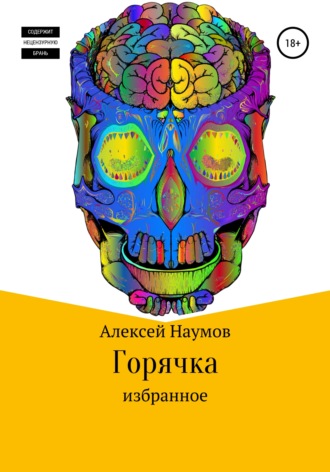
Алексей Наумов
Горячка
– И чего ты со своими болотами заладил, – кручинился Степаныч. – Грязь кругом, да слякоть, да комары… Ни дороги, ни лужка… Даже пчёлы туда не летают… Живи дома… Тут тепло, сухо, самогон…
– Родина у меня там, понимаешь, Степаныч, Родина?! – всхлипывал чёрт. – Каждая кочка у меня там родная, каждая осинка, каждая коряга гнилая… Отпусти меня, Степаныч, отпусти, а то сбегу…
– Не могу, – мотал головой дед. – Родину я, конечно, понимаю, а вот отпустить тебя, ну никак не могу… Привык я к тебе… Приручился… И потом, опять же, с кем мне тогда самогон гнать прикажешь?.. Нет, брат, и не проси… Не могу…
Но однажды, в самом начале мая, под вечер, когда земля стала пахнуть совсем уже одуряюще, а роща за дорогой внезапно сделалась нежно-салатовой, сердце Степаныча дрогнуло точно лёд на реке и поплыло. Он изумлённо посмотрел на чёрта, жадно ловящего каждый тихий звук, что приносил с болот лёгкий ветерок и подумал: «А ведь и вправду отпустить бы надо поганца… Какой никакой, а животный… Родину, опять же, понимает… Негоже живую тварь на цепи держать, в особенности по такой-то вот весне… Негоже…»
Сел Степаныч рядом с чёртом, обнял его за плечи и говорит:
– Слушай, расхититель медовой собственности, вот, допустим, отпущу я тебя сейчас на все четыре стороны, и что ж ты делать будешь? Куда направишься?
– Прямиком на болота и направлюсь, – с робко надеждой ответил чёрт, уловив в голосе Степаныча нечто новое. – Своих навещу, в топи искупаюсь, к русалкам загляну… Они страсть как хороши по весне, просто сил никаких нет…
– Ну а потом, потом, что делать будешь? – настаивал Степаныч. – Как ты потом-то жить будешь, а?
– Как раньше жил, так и буду… – неуверенно пожал плечами чёрт. – Как иначе?..
– Это что же, – нахмурился Степаныч, – опять будешь мёд таскать, да людей по болотам пугать? В глаза смотри! Будешь?!
– Ну, я же болотный чёрт, Степаныч… Мы иначе не умеем…
– Ах вот как, – разозлился Степаныч. – Тогда слушай моё условие. Согласишься – можешь уходить, а нет, будешь до конца дней на цепи сидеть, и третьему не бывать!
Прошептал дед чёрту что-то на ухо, тот дёрнулся, задумался, почесал рогатую голову, посмотрел мутным взором на оживающий лес, да и согласился; и той же ночью покинул чёрт дом Степаныча, будто бы его там никогда и не было. Старик погоревал было, погоревал, но с новой пасекой было у него столько забот, что вскоре перестал кручиниться и зажил по-прежнему.
Самогон его с того времени стал пользоваться таким надёжным спросом по всей округе, что его внуки вновь начали донимать деда, предлагая ему на сей раз открыть целое коммерческое производство и торговать заграницу, но бывший матрос Северного флота на все их увещевания отвечал чётко и недвусмысленно…
Всё также ходил Степаныч вечером за грибами, охотился на синиц и ухаживал за пчёлами, но главным и наилюбимейшим его занятьем, конечно же, было самогоноварение, коему он отдавал ночи напролёт, запершись в своей обсерватории.
– Темнота она крепость даёт… – шептал дед, склоняясь над пузырящимся чаном свежезаваренной браги. – И дух… Понимать нужно… Ну и, хвост, конечно, немаловажен…
С этими словами он вытаскивал из шкафа трёхлитровую стеклянную банку, аккуратно извлекал из неё слегка подсохший обрубок чёртового хвоста, трижды смачно плевал на его кончик, а затем бережно макал в густое, душистое варево.
Беседка
Лет, эдак, за пять, до того как Степаныч поймал чёрта, повадившегося воровать у него мёд, услыхал он однажды , что на последнем переулке, аккурат за трансформатором, третью неделю как, лежит ничейная куча свежего навоза… И не то чтобы Степанычу очень был нужен навоз – хозяйство его было простым и «натуральным», что, в понимании бывшего моряка Северного флота, означало, что никакой заботы о нём не требовалось. Старые яблони год от года исправно плодили ему гору кислющих яблок, пчёлы самостоятельно летали на поле и изготавливали душистый мёд, а огорода у него отродясь не было, потому как «не флотское это дело, в дерьме копаться…». И всё же, прижимистая душа Степаныча не находила себе с той поры места. Бесхозное добро манило его, как дармовой стакан зубровки, так что через пару дней, утром, сразу после завтрака, старик решительно объявил:
– Схожу! А заодно и к сторожам загляну, проведаю…
Сказано – сделано. Подпоясавшись старым ремнём, с самодельным ножом в корявых ножнах и натянув линялую тельняшку, Степаныч отправился в путь, который, надо заметить, у обычного человека занял бы не более получаса спокойной ходьбы в обе стороны. Но не таков был наш новоявленный Одиссей! Путешествие к навозной кучи растянулся на целые сутки и потребовало от Степаныча всех усилий его недюжей воли. И имело для него самые неожиданные последствия… Но обо всём по порядку.
Утро было тёплым и ясным. Отдав швартовый около 10, Степаныч, сладко позёвывая и не менее сладко почёсываясь, степенно двинулся навстречу новому дню. Сердце его пело. Он по-детски предвкушал то наслаждение, что подарит ему очередной погожий день, столь располагающий к вдумчивому созерцанию мира и обстоятельному разговору со старыми друзьями, т.е. к тем двум делам, в которых Степаныч слыл непревзойдённым гуру.
Неспешно вышагивая меж зеленеющих садов, старик весело окликал своих знакомых, (а на дачах его знал каждая собака), заводил непринуждённую беседу, а за хорошей беседой, как известно, не грех было вдоволь покурить чужих папирос, благо, что свои у старика заканчивались ровно через неделю после получения пенсии. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что хозяева папирос никогда в накладе не оставались, поскольку взамен старик травил такие замечательные и непотребные байки, что желающих угостить его табачком всегда было пруд пруди. Так, окутанный дымом и славой, точно заправский военный корабль, Степаныч медленно курсировал от одного участка к другому, попутно впитывая в себя наисвежайшие сплетни, которые он немедленно переиначивал и запускал в оборот на следующей стоянке.
В первом часу, преодолев без малого полкилометра и накурившись до лёгкой одури, Степаныч бросил якорь у сторожки. Истомлённый жаждой и страстно желая увидеть своего верного друга, сторожа Кузьмича, он играючи вспорхнул по шатким ступеням разваливающегося крыльца, деловито постучался сухим кулаком в обитую драным дерматином дверь и, не дожидаясь ответа, лёгким змием скользнул внутрь…
Что происходило за закрытыми дверьми сторожки до 8 вечера, сказать трудно. Известно лишь, что после этого таинственного промежутка времени, Степаныч, утоливший мучившую его жажду до изрядной бортовой качки, поднял паруса и взял курс на трансформатор. Глаза старика горели, а шаги были столь мужественны и широки, , что Одиссею порой приходилось опираться всем корпусом на трескучие заборы, обрамлявшие его непростой путь..
– Шторм моряку – пустяк… – бормотал Степаныч, отталкиваясь от заборов, для нового рывка вперёд. – Шторм моряку – тьфу!.. Видали мы таких… Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!.. ПолундрЯ-я-я!..
День умирал. Кровавые отблески заката слепили уставшего странника, сумерки цеплялись за его расхристанную одежду, ветви черёмухи и заросли шиповник преграждали ему путь, но Степаныч был внутренне твёрд, и упорно продолжал свое нестройное движение к намеченной цели. Какие-то люди помогали ему, чьи-то голоса увещевали вернуться, смех дрожал зыбким эхом, но старик не сдавался и лишь повторял:
– Шторм моряку – нуль!.. Понимать надо… С дороги, сукины дети, с дороги!..
На последний переулок он добрался уже во тьме. Тёмная махина трансформатора, с давно перегоревшим над ней фонарём, угрюмо маячила в конце улицы. Завидев её, усталый пилигрим издал торжествующий вздох и прибавил шагу. Цель была столь близка, что Степаныч на мгновенье утратил свою легендарную бдительность, за что и был наказан. В трепетном свете звёзд, зачарованный странник не заметил врытую в землю старую автомобильную покрышку, споткнулся об неё, взмахнул руками и… мощно рухнул прямиком в цель своих странствий.
– Ах ты растудыть-тудыть да в бога душу вашу военно-морскую мать, – выругался про себя Степаныч, так как его рот и ноздри были под завязку забиты пахучим навозом. – Кто ж так строит!?
Он встал на четвереньки и пятясь выбрался из кучи. Кругом было ни души. Дачники давно сидели по своим домам, уткнувшись в телевизор, так что его падение, которому могла бы позавидовать сама Римская империя, осталось никем незамеченным.
– Нехристи! – пробормотал Степаныч и пнул липким сапогом виновницу его нелепого крушения. – Это ж надо, такое удумать!.. Посерёд дороги колёса городить!.. Совсем стыд потеряли… Утоплю…
Кое-как отряхнувшись и ещё раз пнув покрышку, Степаныч угрюмо поплёлся обратно, поминутно сплёвывая горький вкус странствий… Путь его был долгим и извилистым, ибо помимо страшной усталости давила ему теперь на плечи тяжёлая дума. Овеваемый всеми ночными ветрами, старик брёл по опустевшим улицам и суровое чело его, с засохшими следами навоза, было склонено к самой земле. То было время страданий.
Ближе к полуночи, рок вновь вынес печального путника к дверям сторожки. В надежде получить крупицу утешения и добрую порцию водки, Степаныч толкнул было дверь, но та не поддалась. Всё ещё не веря, старик навалился на неё плечом, но, небывалое дело, засов с другой стороны был опрокинут…
Вне себя от гнева, Степаныч принял колошматить дверь кулаками, однако сторож, то ли уже мертвецки спал, то ли, уловив исходящий от ночного гостя недвусмысленный аромат, двери ему так и не открыл. От такой гадкой низости, старик даже не смог как следует выругаться, а только прошипел нечто неразборчивое и, метясь в дверь, смачно плюнул себе же на грудь…
То был финал достойный пера Эсхила! Потерянный и жалкий, Степаныч понуро добрёл до стоявшей неподалёку колонки, наугад умылся и присел на бог весть когда сваленные рядом брёвна, ставшие мягкими от гнили и покрывшего их сизого мха. Он хотел только немного передохнуть, но сам того не ведая, задремал, повалился на бок и укрывшись чёрной августовской ночью точно бархатным покрывалом, бесповоротно уснул.
Ему снились свинцовые воды Баренцева моря, колючий ветер, тяжёлая дрожь палубы под ногами и гул машин. Он кричал что-то радостное наперекор рвущемуся в лёгкие ветру, и жизнь колебалась в такт с упругими ударами волн о стальные борта. Сон был таким реальным, что, в конце концов, Степаныч начал мерзнуть. Тщетно пытался укутать он лицо в ворот несуществующего бушлата, – холод всё равно пробирал его до костей, так что под конец, его правая рука и нога потеряли всякую чувствительность.
– Полундра, – прохрипел Степаныч, силясь пошевелиться и проснулся.
Розовая, полупрозрачная шаль зари только начала опускаться на притихшие дачи и крупные капли росы, застывшие на его голых плечах, отливали рубинами.
– Вот ведь неладная… – чертыхнулся старик, вставая и разминая затёкшие члены. – Что за жизнь… эх…
Сбросив остатки сна, Степаныч пригладил волосы, поправил ремень, проверил свой «кортик» и решительно направился к сторожке, дабы расквитаться за нанесённую ему полуночную обиду.
– Я вам покажу, черти полосатые, как раненному товарищу не отворять, – бормотал он, подбирая с дороги увесистый булыжник. – Это ж надо, двери на ночь запирать?! Не по-нашему это! Не по-людски… Но ничего, сейчас я тебе кингстоны то повышибаю…
Сжимая камень в руке, Степаныч крадучись обошёл дом, раздумывая над тем, как лучше покарать предателя. Бить окна он посчитал мальчишеством, тогда как курочить древний, наполовину вросший в землю мотоцикл с коляской – варварством. Поразмышляв немного, старик избрал своей мишенью ржавую спутниковую тарелку, красовавшуюся под самой крышей корявой избы.
– Сейчас я тебе, прохвост, спутник-то твой вражеский аннулирую, – недобро усмехнулся он, жмуря один глаз и прицеливаясь. – Сейчас ты у меня, гнида, за всё ответишь… Н-н-на!..
Но аннулировать вражеский спутник оказалось делом непростым. Несколько раз взвивались в воздух, брошенные мощной рукой Степаныча булыжники, однако, описав большую дугу и не причинив супостату никакого вреда, они мирно падал в бурьян. Дикий охотничий азарт охватили старика. Все обиды была забыты, теперь, сбить ненавистную антенну, было делом его флотской чести.
– Моряк в грязь лицом не ударит, даже если где и найдёт, – зло шептал Степаныч, тщетно сдувая со лба слипшиеся от навоза пряди. – Я тебя, гадина, всё одно достану… А то ишь, тварюга, выпучилась…
Окинув взглядом поле боя, старик приметил нестройную поленницу дров, робко жавшуюся к ветхому сараю.
– Ага, – недобро усмехнулся он. – Плацдарм…
Вооружившись половинкой кирпича, Степаныч с тысячью предосторожностей взобрался на поленницу, широко расставив ноги, тщательно прицелился, отвёл назад богатырское плечо, и внезапно, позабыл про всё на свете…
С пьедестала, на который его волей случая вознесла судьба, увидел он картину, которая поразила его до самой печени. За высоким соседним забором, скрытая от любопытных глаз, белела изящная, почти невесомая ажурная беседка с резной куполообразной крышей, до половины увитая начинающими уже розоветь листьями дикого винограда.
Кирпич выпал из рук мстителя и увлажнились глаза его, и издал Степаныч не то вздох, не то всхлип, не то стон, полный горячей истомы и нестерпимой же нежности. Трепетное сердце мечтателя и алкоголика ёкнуло в его крепкой груди и воспылало пламенем. Едва дыша, словно боясь вспугнуть явившееся ему чудо, спустился старик на грешную землю и торопливо зашагал домой, бережно прижимая руки к груди, будто нёс он своего первенца.
Двое суток был Степаныч тих и задумчив. Беседка стояла перед его взором точно прекрасная дева, и не было на свете ничего сладостней и желаннее, чем обладание ею. Самогон был мутен в те грозовые часы, горек луговой мёд и тленом пахли сочные яблоки. Старик таял точно апрельский снег, и даже ночь не давала ему роздыху, поскольку даже во сне он видел всё ту же восхитительную, тонкую, белую красавицу-беседку увитую алчными, кроваво-красными руками виноградных лоз.
На третий день мучений, иссохший и растерзанный Степаныч понял, что если не устроит у себе точно такую же красоту, то умрёт.
– Умру, – так он и сказал себе. – Натурально умру… Выпью, напоследок, всё, и умру… Прямо под ульем…
Степаныч представил, как осиротеют его пчёлы, как они будут ползать по его остывшему телу, тщетно пытаясь найти крупицу тепла, под стылым небом и содрогнулся. Нет, умирать ему было никак нельзя. Его деятельная натура жаждала жизни, и раз цель была определена, то оставалось лишь найти средство, что её достичь.
– Построю, – решил старик, и впервые за последние дни его лицо озарила улыбка.
– Построю! – громче повторил он и с аппетитом надкусил недозрелое яблоко. – Ещё лучше построю! – уже крикнул он и юркнул в дом, где осанисто хватил полный стакан самогону.
– Душист, чёрт, – крякнул Степаныч, закусывая его столовой ложкой мёда. – До чего же душист, гад… А всё от чего?.. А всё от понимания… Потому как с душой продукт предъявлен, оттого и приятен и нутру и глазу и прочим субстанциям…
Через час, парадно одетый Степаныч (т.е. накинувший на свою бессменную серо-синюю тельняшку линялый пиджак, и сменивший чудовищные сапоги, на не менее чудовищные ботинки) спешил на автобусную остановку. На его спине болтался много раз латанный-перелатанный рюкзак, в котором многозначительно булькала трёхлитровая банка лучшего самогона. С её помощью, как в былые времена, рассчитывал он добыть на старой лесопилке близ местного лесничества пару-тройку дюжин крепких досок, для будущего строительства.
Дождавшись автобуса и сев у окна, Степаныч прижал к животу рюкзак и блаженно зажмурился. Всю дорогу он представляя себе, как вскорости обустроится в своей собственной беседке и будет, вопреки любому природному катаклизму, оглядывать строгим хозяйским оком свои владения не уходя с улицы.
– И до чего же удобно мне будет, – мурлыкал себе под нос старик, предаваясь сладким грёзам. – И до чего же хорошо… Просто жуть…
Обратно вернулся Степаныч нескоро. Ни с кем не здороваясь, прошагал старик к своей калитке, запер её на огромный железный засов, прикрученный к гнилому дереву двумя донельзя ржавыми шурупами и тут только дал волю своему гневу. Сняв с плеч рюкзак, где, судя по звуку, оставалось не более половины содержимого, он сорвал с плеч пиджак, швырнул его на землю и принялся яростно его топтать, изрыгаю бессвязные проклятья, больше похожие на волчий вой. Но горе было слишком велико, чтобы передать его словами или излечить бешенством, а потому, спустя пару минут, старик остановился, подобрал пиджак с земли, закинул одну лямку рюкзака на плечо и как побитый пёс зашмыгал к дому. Там, выставил на стол остатки зелья, он пододвинул к себе плошку с мёдом, вместе с погибшими в нём мухами, перекатил туда-сюда зелёное яблоко и горестно вздохнул:
– Ишь, чего удумали, дармоеды?! Деньги за материал требуют!.. Что ж это за люди то такие, а?!. Лес кругом от дерева ломится, а они – плати!.. Ладно бы ещё по-человечески попросили, самогону или меду взамен, так ведь деньги ведь просят, ДЕНЬГИ!.. А где ж я их возьму то, денег этих ваших, где?! Э-хе-хех…
Выпил Степаныч и стал вспоминать те счастливые времена, когда в обмен на самогон, мог он себе позволить не то что беседку, а целый дом отгрохать, а в придачу к нему и баню с забором. Конечно, материал был весь плохонький, и дом, местами, уже подгнил, а баня слегка накренилась, да что с того! Главное, время было чуткое, понимающее, а время, это люди…
– Да, люди были не те, – подытожил свои размышления старик. – Понимающие были люди… Ты к ним с душой и они тебе взаимовыгодно… Понимать нужно…
Выпил Степаныч ещё, и вспомнилось ему, как однажды, всего за поллитра, разрешил ему сторож взять со стройки столько железных вёдер, сколько старик сможет унести. На зависть всем врагам, унёс тогда старик целых 18 штук, причём два из них, были полны сухого цемента…
Цемент, правда, вместе с вёдрами, пришлось потом выбросить: на радостях Степаныч так напился, что забыл их на улице, под начинающимся дождём, а когда вспомнил, всё уже окаменело. Впрочем, выбросил вёдра старик тоже с выгодой: затопил он их в узком ручье, через который ему нужно было перебираться, чтобы идти в лес за грибами или хворостом. Через год, конечно же, вёдра засосал ил, но целую осень ходил Степаныч в лес как король, не по шатким брёвнышкам, как все, а по основательному, железно-бетонному мосту. Оставшиеся вёдра, хотел было у Степаныча купить Славка Рыжик, живший через три дома от него, но цену, по мнению Степаныча, определил несправедливую и отступать от неё никак не хотел. Но он плохо знал старика… Осерчав, Степаныч принёс топор и тут же, на глазах Рыжика, крест-накрест пробил днища всем оставшимся 16 вёдрам. После чего, жестом торжествующего гладиатора, швырнул их к ногам обомлевшего покупателя, презрительно сплюнул и вразвалочку удалился восвояси…
– Да, – мечтательно пробормотал Степаныч, – были времена… А сейчас?.. Тьфу!.. Одни деньги у людей на уме… Никакой фантазии… Только б разжиться на трудовом человеке… Только б обмануть… Скарабеи..
Горевал Степаныч до глубокой ночи, закусывая душистый самогон недозрелыми яблоками и прошлогодним мёдом с мухами, а после уснул, подложив под косматую голову крепкую жилистую руку.
– Шиш им с маслом, а не деньги… – хрипел он во сне, грозно хмуря кустистые брови. – Шиш да камыш вам, черти полосатые!.. Врагу не сдаётся наш гордый Варяг… Ишь, деньги им подавай… А хрена лысого им не запрячь?..
На следующее утро, Степаныч встал рано. За ночь, в его голове родился новый план, и он, даже не позавтракав, немедленно принялся за дело.
– Если гора не идёт к Магомету, то иди она лесом… – бормотал старик, хитро улыбаясь своим сокровенным мыслям. – Нам чужого не надо, а своё мы и так отнимем… Я им покажу, сукины дети, денег они захотели… Ни за что!!!
Для начала, Степаныч тщательно обследовал свой дом и баню, на предмет лишних досок.
– В крепком хозяйстве завсегда излишек имеется, – рассуждал он, внимательно ощупывая и простукивая стены. – Нужно только этот избыток найти и с умом оторвать…
Однако поиск был непростым, так как ещё при постройке, старик на всём сильно сэкономил.
– Ничего, ничего, – успокаивал себя Степаныч. – Ежели отовсюду помаленьку забрать, то аккурат и наберётся мне на беседочку… А ежели, где сквозить будет, так я рубероидом заткну или соломой, зато уж беседочка у меня выйдет всем на зависть… Ни у кого такой беседки не будет… Краски, беленькой, добуду, перила, что прошлой весной на помойке нашёл, присобачу и заживу… А то удумали, деньги им подавай, бизнесмены хреновы!..
Но досок всё равно катастрофически не хватало… Как ни старался Степаныч, на какие только уловки не шёл, а набралось их всего на всё про всё 10,5 штук разномастных досок, одна кривей другой.
– Ничего, – решил старик, пораскинув мозгами. – Заднюю стенку из кольев смастерю… В лесу осин полно, не пропадать же добру… Всё одно потом виноградом оплетать, так чего огород городить то… Управлюсь, не впервой…
Подкрепившись на скорую руку макаронами с квашенной капустой, Степаныч немедленно приступил к строительству.
– Мне много не надо, – рассуждал он, намечая на земле неровный круг. – Если с пониманием подойти, один чёрт хоромы получатся, как ни крути… Пол, так его вообще, можно не делать… Только мышам раздолье, да тараканам… Нет, пол не нужен… Шифера, что под домом у меня валяется, наколю, вдоволь, и посыплю, не хуже гравия будет… И сухо и красиво… Главное – каркас надёжный соорудить, а там пробьёмся…
Но с каркасом дело не спорилось. Трижды он рушился на спину Степаныча. Трижды возносил старик проклятья небу, земле и подводному царству. Трижды бросал он всё, топтал гнилые доски ногами, выбрасывал в кусты банку с ржавыми гвоздями и уходил пить в баню. И трижды же возвращался обратно, не в силах совладать со своей страстью. Внеся должные поправки, он вновь принимался за работу и каждый новый круг, что чертил старик на земле, был кривее и меньше предыдущего. Наконец, когда окружность сделалась размером с обеденный стол, каркас обрёл относительную крепость и старик удовлетворительно крякнул.
– Мал золотник, да свой, – произнёс он, любовно охлопывая своё сооружение. – А то ишь – плати им!.. Вон, какая красота возникла, и всё бесплатно!.. Через один лишь человеческий разум и трудовой подвиг…
5 дней безвылазно провозился со своей беседкой Степаныч, но работа удалась на славу. Когда последние колья были забиты, а ржавые гвозди заколочены, втиснул старик внутрь беседки старый заводской стул, сел на него, закурил, и уже совсем было расслабился, как начался дождь и тут только спохватился дед, что напрочь забыл про крышу…
– Вот ведь падлюка неладная, – зло сплюнул Степаныч, выбираясь наружу. – За что ж ты, курва, так меня невзлюбила сразу, а?! Я ж тебя, заразу, всей душой, а ты, паскуда… Ну, ничего, ничего, бельдюга, простипома, пелядь… Всё равно я тебя уконтропупю… Так и знай…
Огляделся старик в поисках материала, туда-сюда сунулся, но ничего путного у него не осталось. Только дыры в стенах, да кривой сортир. И тут Степаныча осенило!
– И как я раньше не догадался, – счастливо хлопнул себя по лбу старик. – Мигом сейчас всё организуем!
Старик схватил топор и, не обращая на льющуюся с небес воду, сноровисто подставил лестницу к стенке туалету…
Через пару часов всё было готово. Крыша сортира встала на беседку точно влитая, только шифер местами потрескался, да переломилась одна гнилая доска. Степаныч сиял.
– Хороша, чертовка, – бормотал он, оглядывая творение своих неуёмных рук. – Покрашу, и хоть в Париж вези… Да что там Париж – на ВДНХ!.. А вам всем – во!
Старик удовлетворённо показал на все четыре стороны крепкую фигуру из двух скрещенных рук. Потом проворно юркнул в беседку и с наслаждением закурил.
– Жаль, столик не влезает, – покручинился, для порядка, Степаныч. – Ну да ничего… Снаружи прилажу… Так оно и сподручнее даже… Мусору меньше… А сортир… сортир перебьётся… Чай не зима… Да и вентиляция, опять же, улучшится… Дым глаза не выест и прочая зараза… А будет нужда, зонтик возьму, а на зиму так и вообще лапником прикрою… Оно и теплее будет и ароматнее…
Старик любовно похлопал рукой по шатким стенам.
– Кровинушка ты моя!.. Теперь заживём…
Так и зажил Степаныч. Днём он пил в беседке, а ночами любовался на неё из окна. Покрасить он её, правда, так и не покрасил, зато приладил к перилам огромную консервную банку, для бычков. Сам он их туда, правда, бросать забывал, но когда к нему заходили гости, грозно следил, чтобы пепельницей пользовались по назначению.
– Культуру понимать нужно, – говорил он. – А то ишь, повадились… Коекакеры…
Беседка рассыпалась ровно через 40 дней, ночью, от порыва осеннего ветра. Восстановлению она не подлежала и старик, погоревав немного, решил сделать из её остатков новый улей, «на вырост». Улей вышел на редкость жуткий и неуютный, так что старик, поругавшись, недолго думая разрубил его на дрова и вскорости сжёг. Что же до сортира, то он стоял без крыши до ноября, пока не пошёл снег. После этого, старику пришлось всё же заделать верх лапником, но до того момента, в ясные ночи, Степаныч мог запросто любоваться проплывающими над его головой созвездиями, что он с превеликим удовольствием и делал.
Евреи
Новые соседи по даче не понравились Степанычу с первого взгляда. Было в них нечто, отчего на душе у него сделалось тоскливо и муторно, как от начинающейся зубной боли. Но не таков был наш герой, чтобы сразу же обидеть неприятных ему людей. Для начала, бывшему моряку Северного морского флота требовалось к ним как следует присмотреться…
Побросав свои нехитрые дела, старик живо юркнул в дом, проворно вскарабкался на второй этаж и, скрываясь за посеревшим от пыли тюлем, приник к мутному окну, чтобы внимательно изучить повадки незваных гостей. Поскольку вахта обещала быть долгой, с собой Степаныч прихватил початую бутылку самогона, пару зелёных яблок и плошку окостеневшего мёда с утонувшими в нём мухами, более похожего теперь на первостепенный балтийский янтарь.
– Вот ведь принесла неладная, – пробормотал старик, спешно проглатывая первые полстакана и вгрызаясь в яблоко белоснежными зубами. – И чего их сюда только угораздило?.. Ишь, смеются, черти полосатые!.. А чего смеяться то, чего?.. Это ж Мещёра!.. Понимать нужно… Ну что за люди…
Степаныч горестно вздохнул, вытер рот рукавом и продолжил наблюдение.
Соседний участок пустовал 7 лет. Прежний его хозяин, Борька Опездух, как его неизменно именовал Степаныч, был непомерно жирный и добродушный мужчина с серыми, водянистыми глазами и нелепым, лягушачьим ртом.
Почтенный бездетный вдовец, Борис всё свободное время проводил внутри своего громадного, ангароподобного дома, откуда, с полудня и до полуночи, доносился монотонный стук молотка, перемежающийся визгливым стоном пилы. Что делал Борис внутри этого монстра последние четверть века, оставалось загадкой, но говорили разное…
Одни утверждали, что он строит деревянный космический корабль на торфяной тяге, дабы покинуть на нём опостылевшую ему землю и направиться к Альфа Центавре, в надежде найти там собратьев по разуму.
Другие настаивали, что гигантский дом и есть космический корабль, и что инопланетянин Борис уже прибыл в пункт своего назначения, и теперь осторожно разбирает свой космолёт, готовя плацдарм для вторжения внеземной цивилизации. Отсюда, мол, из самого сердца гиблых Шатурских болот, представители высшего разума и начнут своё триумфальное шествие на Москву, Париж и Бердянск…
Третьи продолжали исступлённо твердить, что записанные на магнитофонную ленту стук молотка и шум пилы, не более чем отвлекающий маневр. На самом деле Борис, вовсе не Борис, а Об-Фездух, прямой потомок ужасающего сирийского чародея и алхимика Насруса Авусраси, умевшего превращать дерьмо в камни, камни в траву, траву в серу, а серу в пыль, из которой, впоследствии, он собирался добывать золото, но не успел, ибо погиб при ужасающих обстоятельствах. Когда воины султана Сулеймана I Великолепного пришли арестовывать чародея за казнокрадство, алкоголизм и чревовещание, он, забаррикадировав дверь лаборатории, и принялся уничтожать плоды своего труда – глотать пыль… Когда солдаты, наконец, ворвались в помещение, всё было кончено – золотоносной пыли и след простыл, а на полу лежал раздувшийся до непотребных размеров труп мага, с посеревшим лицом и выпученными глазами. Именно там и зародилась ставшая затем крылатой фраза – заебёшься пыль глотать…
Однако тайные знания Насруса не погибли вместе с ним. Спустя почти пять столетий, Об-Фездух продолжает дело своего пращура, обосновав новую лабораторию в неприметном СНТ на краю торфяных болот… Здесь, под прикрытием строительства дома, он уже более 25 лет незаметно роет сеть подземных туннелей, с целью объединения всех выгребных садового товарищества ям в одну большую клоаку, дабы обеспечить себя необходимым ресурсом дерьма, чтобы затем, без помех, начать свои чудовищны превращения…
Шутки шутками, но на деле, истинное положение вещей знали лишь двое – сам Борис и Степаныч – ибо, по слухам, лишь ему одному выпала необыкновенная честь быть гостем таинственного дома.
Действительно, несколько раз, Борис, очевидно совсем уже одурев от своего добровольного отшельничества, прерывал свои загадочные дела и, по-соседски, звал Степаныча в гости. Хоть сам он спиртное никогда не употреблял для гостя, на не хитро сервированный стол, неизменно водружалась прохладная бутылка «Старки» и одна гранёная рюмка. После чего, откинувшись на спинку самодельного кресла, Опездух, с нескрываемым удовольствием наблюдал, как сноровисто и ловко Степаныч приканчивает настойку, как маслянеют его озорные глаза, как развязывается язык, и как, наконец, удовлетворённо крякнув и закурив, начинает старик травить свои наипохабнейшие байки, способные заставить корчится от хохота даже мертвеца. В такие ночи из загадочного дома не доносилось ни звука, ибо смеялся Об-Фездух хоть и от всей души, но совершенно беззвучно…
Однако рассказывать об своих посиделках с чародеем Степаныч отказывался наотрез. В противовес своей обычной говорливости, едва речь заходила о странном доме и его таинственном обитателе, старик смолкал и только его лукавые глаза посмеивался над нелепыми догадками землян…
Но однажды огромный дом опустел. Борис не появился ни весной, ни летом, ни осенью, и никогда больше. «Инсульт…», качали головой одни. «Улетел…», говорили другие. «Попался…», злорадно шептали третьи. И только Степаныч, знавший всё на свете, по-прежнему хранил молчание, но не весело, как прежде, а с печалью, точно проводил в далёкое странствие доброго друга.







