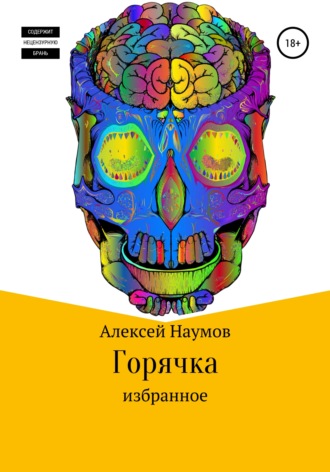
Алексей Наумов
Горячка
– Полундра, сукины дети! – гаркнул дед и трижды стукнул обухом топора по подвешенной рельсе. – Горите, сукины дети, горите, как пить дать!..
С душераздирающими криками полуголые родственники вылетели из дома и как перепуганные наседки стали носиться в ночном мраке, гремя вёдрами, падая, сталкиваясь, и от этого вопя ещё громче. Сам же виновник ночной иллюминации в это время преспокойно сидел на лавочке подле бани, дымил папиросой и жмурился, словно кот, вдоволь отведавший свежей деревенской сметаны…
Когда остатки дровяного сарая совместными усилиями, наконец-то удалось погасить, и чумазые, всклокоченные родственники тесно обступили деда, жужжа точно потревоженный рой, Степаныч неспешно поднялся. Его лицо было подобно лику верховного жреца, занёсшего ритуальный клинок над человеческой жертвой, а в глазах плясал дьявольский отблеск последних углей пожарища.
Гул стих. Жёны испуганно попрятались за спины внуков, а те сгрудились в кучу. Тогда, в оглушительной ночной тишине, под ликом звёзд, с горьким привкусом пожарища на устах, Степаныч, недрогнувшим голосом во всеуслышание объявил, что в следующий раз он подожжёт дом, причём предварительно подперев снаружи входную дверь ломом…
Тьма, дым, боль в разбитых лбах, обожжённых руках и роковая интонация в словах деда, казавшегося в эту минуту на голову выше их всех, окончательно сломили волю внуков к сопротивлению. В тот же час, на веранде, стороны подписали двусторонний пакт о дружбе и ненападении, согласно которому, родственники отказывались от каких-либо дальнейших попыток изменить что-то на участке Степаныча, вопреки его воле. В ответ, дед милостливо пообещал не сжигать их заживо, а после смерти оставить им участок «на полное растерзание»… Договор был скреплен доброй толикой самогона, со стороны Степаныча и, едва ли не большей порцией валокордина, с другой, после чего, участники ночной драмы разошлись по своим постелям. Но уснул в ту ночь один лишь счастливый поджигатель, и от его богатырского храпа в доме дрожали стёкла…
«Потерпевшие» до зари боязливо шушукались в своей комнате. Точно перепуганные мыши они боялись разбудить деда, и когда он ворочался, пугливо замолкали, чтобы затем вновь «зашуршать». Излив друг другу свои обиды и страхи, они, в конце концов, пришли к вполне утешительному выводу, что спешить им, по большому счёту, нет никакой нужды…
– Не сегодня-завтра похороним деда… – бойко попискивали они со своих кроваток. – Не сегодня-завтра… Надо только немного подождать … Тогда уж и займемся… Тогда уж и заживём… Тогда уж, да… Подождать…
Наивная вера в скорую кончину старика, по причине его преклонного возраста и неукротимой страсть к алкоголю, наполнила их мелкие сердца светлой надеждой. Они заулыбались в свете растущей зари и безмятежно уснули, а проснувшись, принялись ждать…
День сменял ночь, лето зиму, брус гнил и темнел, камни всё глубже погружались в сырую землю, а Степаныч и в ус не дул, продолжая закусывать свой доморощенный самогон луговым мёдом, и за десять лет ожидания нисколечко не изменился, в то время как сами внуки заметно сдали, обрюзгли и окончательно потеряли всякую веру в счастливый исход дела. Они всё реже навещали деда, не рискуя более брать с собой близких, и часто даже не ночевали, а просто заглядывали на дачу на несколько часов, с затаённой надеждой на чудо, но всякий раз убеждались, что Степаныч – Твердыня, совладать с которой ни природе, ни смертному мужу невозможно.
–То-то, бобры вислобокие… – удовлетворённо бурчал Степаныч, оглядывая пьяным глазом своих располневших и облысевших внуков, а также своё родное, подгнившее, но нетронутое переменами хозяйство. – А то ишь, ульи им помешали… Это ж какими подлецами нужно быть, чтоб пчела не нравилась, а?.. Коекакеры, одно слово…
Беда случилась в ночь с субботы на воскресенье. Обильно оросив себя горячей водой в бане, а затем холодным самогоном на веранде, Степаныч отправился спать, но сон, от чего-то к нему не шёл. Старик ворочался с боку на бок, много курил, бормотал всяческие проклятья и яростно сжимал кулаки, но ничего не помогало. Ко всему прочему, из головы у него не шли пчёлы, а точнее крайний пятый улей, обитатели которого второй день подряд трудились неслаженно и гудели встревоженно и печально, точно занесённый снегом паровоз.
– Видать заболели, сердечные… – качал в темноте головой дед. – Не иначе сороки, будь они неладны… Кто как не они?! Уж я их, и в хвост и в душу и в мать!..
Около двух часов ночи, докрутившись до умопомрачения, Степаныч не выдержал и порывисто встал. Набросив на голые плечи сальную телогрейку, сунув в рот папиросу и прихватив свой «грибной» фонарь он вышел наружу и двинулся к пасеке. Луна совсем недавно всплыла над болотами и длинные тени от домов и деревьев пересекали тропинку, зловеще сплетаясь и змеясь под ногами полуночника, но старик был чужд любой мистики и уверенно шагал к своей цели, не переставая ругаться.
Приблизившись к злополучному улью, Степаныч торопливо опустился на колени, приложил трепетное ухо к стенке, раскрыл рот и вслушался. Внутри улья стояла мёртвая тишина, и у старика похолодело в желудке. Дрожащими руками, он торопливо скинул крышку, и посветил фонарём внутрь. О, ужас, улей был пуст! Там не было буквально ничего кроме голых стенок, с остатками прилипшего к ним мёда и пары дюжин мёртвых пчёл, сиротливо лежащих на дне.
Крик застыл в горле бывалого самогонщика. Не веря своим глазам, он отчаянно замотал головой, силясь отогнать кошмарное видение, но, сколько он ею не тряс, улей оставался пустым. Тут-то Степаныч и издал тот ужасающий вопль, что не на шутку переполошил половину садового товарищества, а затем принялся ругаться так, что поднимающаяся над землёй луна заметно порозовела и едва не поворотила вспять…
Оставшуюся часть ночи, старик провёл на ногах. С топором в руках, он, вышагивая вокруг уцелевших ульев, подозрительно прислушиваясь к шорохам тёплой августовской ночи, с отвращением куря одну папиросу за другой, и в который раз пробуя пальцем тупое лезвие. Такое дикое, хладнокровное и бесчеловечное воровство поразило Степаныча в самую душу, и случись кому-то приблизиться к нему в тот момент, он убил бы его без колебания, тем же отточенным движением, каким он ловко рассекал молистые, сосновые поленья.
Когда солнце окончательно растопило ночной мрак, и оставшиеся пчёлы трудолюбиво потянулись к лежавшему за рощей полю, Степаныч отбросил топор, схватил литровую бутыль самогона и побежал прямиком в сторожку, откуда вернулся через два часа, с горящими глазами и тремя огромными, насквозь проржавевшими капканами.
Старик чистил, правил и смазывал их до самых сумерек и когда кровавые отблески заката зажглись на его головой, стальные челюсти были готовы к употреблению. Опробовать их он решил на черенке лопаты. Когда острое железо звонко, жадно и глубоко впилось в сухое дерево, лицо Степаныча озарила первобытная улыбка, первая за этот день.
Дед расставил капканы на трёх стратегических направлениях вокруг ульев, замаскировав их сверху сухой травой и пылью, а сам спрятался в бане, готовый выскочить наружу, едва услышит подозрительный шум. Он сердцем чуял, что «медокрад» вновь пожалует к нему в гости и в этот раз готовился встретить его во всеоружии.
Ночь выдалась ветреной. Несколько раз Степанычу казалось, что кто-то пробирается к ульям, и он отворял дверь бани, готовый ринуться в кишащую призраками тьму, но то были лишь тени и шорох ветвей, шорох и тени. После четырёх часов тревожной вахты, в течении которой, старик, без устали, поддерживал в себе боевой дух смородиновым самогоном, мерный срежет веток по крыше бани начал его усыплять. Он шлёпал себя по щекам, щипал за ляжку, прикладывал прохладную бутыль ко лбу и просто ругался, но свет в его глазах неуклонно мерк…
Во время одного из таких «полуснов», ему почудилось, что кто-то осторожно сдвигает крышку улья. Кровь бросилась в голову Степанычу. Забыв про фонарь, с топором наголо, он выскочил наружу и увидел какую-то тень, склонившуюся над ульем, а затем, к вящему его ужасу деда, юркнувшую внутрь и задвинувшую крышку обратно…
Сжав зубы, чтобы не зареветь и не вспугнуть супостата, Степаныч, не разбирая дороги, ринулся вперёд, намереваясь схватить мерзавца, и для начала как следует «угостить» его обухом, но неожиданно, услышал звучный лязг. В туже секунду его левую икру пронзила острейшая боль…
Степаныч стерпел. Беззвучно рухнув на землю, точно раненный разведчик близ вражеского окопа, он молча начал проклинать весь белый свет, попутно пытаясь разжать топором мёртвую хватку капкана. По счастью, его старые, сроду нечищеные, и оттого полностью окаменевшие «кирзачи», которые дед носил с марта по ноябрь, смягчили удар, и кость уцелела. Немного отдышавшись и придя в себя, старик, оставив попытки высвободить ногу, поднялся, и шустро допрыгал к улью, чьё потревоженное чрево издавало странные звуки. Порывисто сдёрнув крышку, он, не раздумывая, запустил внутрь жадную руку.
– Убью! – заорал он не своим голосом, чувствуя, что ухватил кого-то небольшого и верткого. – А ну, гад, вылезай! Вылезай по-хорошему, падла!
В ответ, некто так тяпнул Степаныча за пальцы, что старику показалось, что будто он сунул их под пресс.
– Ах ты, чёрт! – взвыл он и, отбросив топор, дважды ударил дюжим кулаком куда-то в темноту и, как ему показалось, попал своему неприятелю прямо в глаз.
Существо пронзительно взвизгнуло, если бы кто-то пнул сапогом тощую свинью и разом обмякло.
– Получил, гадёныш! – радостно зашипел Степаныч. – Это тебе на затравку!
Ухватив вора обеими руками, он выволок его из улья и встряхнул на вытянутых руках. В неровном свете мелькавшей за тучами луны, он попытался разглядеть свою безвольную добычу, но смог различить лишь короткое, толстое, бочонкообразное тело, пару маленьких рук, пару маленьких ног, уродливую голову и длинный, облезлый хвост…
– Попался, в бога душу моря мать, – радостно заревел дед, видя, что грабитель приходит в себя. – Куда дел мёд?! А ну говори! Говори, а не то в раз пришибу! Буй тебе по боку!
Степаныч вновь занёс с самым свирепым видом свой могучий кулак и это подействовало. Существо, мешком повисшее в его руке зашевелилось и подало голос:
– Съел… – пробурчало оно.
– Весь?! – изумился Степаныч.
– Весь… – печально ответил «бочонок».
– А рамки куда дел? А пчёлы? Ты куда всех пчёл подевал, Геббельс ты ручной?! А ну, говори!
– Всё съел… – жалобно отозвался незваный гость. – Вместе с рамками и с пчёлами… Больно уж он у тебя вкусный… Мёд…
Степаныч поднёс тушку к своему уху и действительно услышал внутри нестройное гудение.
– Ах ты, подлец! – заволновался старик. – Мало того, что весь мёд умял, так ещё и улей разорил! А ну, выплёвывай пчёл обратно! Как есть выплёвывай, а не то сам выну!..
Старик схватил топор и затряс им в воздухе. Существо задрожало от страха.
– Хорошо, хорошо, – затараторило оно. – Только не убивай меня! Только не убивай!
– Выплёвывай, а там видно будет! – сурово отрезал Степаныч. – Только, ты, гад этакий, аккуратно их выплёвывай, по одной, чтоб не повредить! За каждую пчёлку мне ответишь, пакостник ты мелкий, за каждую!
Старик опустил неопознанное существо головой в улей, и рявкнул:
– Ну, чего застыл? Сказано было – выплёвывай живо!
Для пущей убедительности, дед звучно шлёпнул плоской стороной лезвия по тому месту, где, по его предположению, у грабителя находилась задница.
«Бочонок» хрюкнул, ойкнул, обречённо вздохнул и, давясь и икая, начал одну за другой выплёвывать обратно всех проглоченных пчёл. Пчёлы были с головы до ног перепачканы мёдом и чем-то чёрным, похожим на солярку, но в массе своей были живы и, судя по всему, должны были скоро оправиться.
– Так тебя и раз так… – сказал дед спустя четверть часа, убедившись, что в животе странного существа никто больше не гудит. – А теперь, идём как в дом.... Посмотрим на свете, что ты за фрукт такой!
– Отпустил бы ты меня лучше, – ужом заизвивался незнакомец. – Я больше не буду!
– Ты мне ещё за это ответишь! – прикрикнул на него старик, указывая на сомкнутый капкан на своей ноге. – И за пальцы!.. Идём по-хорошему, а то ещё раз приложу!..
«Бочонок» обречённо повис в руке деда и тот, прихрамывая, двинулся к дому.
Когда Степаныч зажёг на веранде свет и его близорукие глаза перестали слезиться, то увидел, что поймал он никого иного как… чёрта. Чёрт был старым и походил на грустную, старую, пузатую макаку, какую старик видел однажды в зоопарке. Мышиного цвета шерсть чёрта была плешивой и грязной, брюхо почти голым, ноги кривыми, рога маленькими и неряшливыми, а под левым глазом красовался огромный «фонарь», при виде которого старику на душе потеплело.
– Помнят руки…
Чёрт смотрел на Степаныча с нескрываемым ужасом. Его уцелевший глаз выражал страх и покорность, и весь он вздрагивал от каждого резкого движением деда, ожидая новых ударов, но закончившему беглый осмотр своей «дичи» старику было не до него. Крепко скрутив чёрта бельевой верёвкой и бросив его под стол, Степаныч с помощью топора и лома снял капкан, стянул сапог, закатал штанину и начал промывать рану единственной имеющейся в хозяйстве медицинской жидкостью – крепчайшим самогоном, настоенным на майском смородиновом листу. Он так же немного плеснул на укушенные пальцы, после чего, приняв двести грамм обеззараживающего снадобья внутрь, неуклюже перебинтовал ногу серым кухонным полотенцем и полез на чердак, спать.
– Утром решу, что с тобой делать, – сказал он чёрту, затыкая ему рот сапогом. – И смотри тут, не бузи, а то враз угомоню… Ишь, черти, повадились… Ну дела, ну дела…
Проспал Степаныч допоздна, а проснувшись, никак не мог понять, радоваться ему или нет, и только после долгих размышления нахмурился.
– Вот ещё заняться мне не чем было, так чёрта поймал на свою голову – пробурчал он, закуривая. – Э-хе-хех, ладно, посмотрим… Может для чего и сгодиться в хозяйстве, а нет, так утоплю…
С аппетитом позавтракав яичницей с сухарями, старик вытащил наполовину задохшегося чёрта из-под стола, вырвал у него изо рта изжёванный сапог и милостиво протянул кусок тому сухарь и стакан воды.
– На ка, поешь маленько… А то уж больно ты жалкий…
Однако чёрт замотал головой и сказал:
– Нет, Степаныч… Мне бы то же яишенки… И самогончику… Принеси, Степаныч! Я знаю, у тебя есть…
– А хрена лысого с мочёным якорем, тебе, случайно, не поднести? – веско осадил его дед. – Покуда ульи мне не поправишь и всех пчёл не вылечишь, будешь под столом жить, связанным, на воде и хлебе. И лупить тебя буду, каждый божий день, на завтрак, обед и на ужин, авось тогда ума наберёшься, пчелоглотатель хренов!..
– Не умею я ульи чинить, – заверещал чёрт. – Не приучен! И пчёл лечить не обучался! Вот есть могу, это да. И пить. Это мне сподручно, а вот наоборот – ну никак…
– А раз не можешь, то и на кой чёрт ты мне сдался? – вдумчиво произнёс Степаныч. – Брошу ка я тебя в сухой колодец, а сверху песком закидаю, да камнями… Там тебе самое место будет… Это ж удуматься надо, чтобы мёд целиком с пчёлами жрать! Каким же поганцем быть нужно, что таким подлым делом заниматься, а!? Понимать же нужно…
– Не могу я без мёду, Степаныч, – завопил чёрт. – Болею я! Вишь, какой мерзкий стал? Самому противно…
– Вижу, вижу, – покачал головой Степаныч, доставая бутыль из шкафа. – И чем же это ты таким болен, а?
– Известное дело чем, – уныло ответил чёрт. – Болотной чесоткой… Этой напастью в Мещёре каждый второй чёрт мается… А лучше мёда, известно, средства нет… В особенности лугового… Чертовски он целебный…
– Я вот тебя сейчас от чесотки-то твоей живо вылечу, – стукнул стаканом по столу Степаныч. – Керосина плесну на твою поганую шкуру, да и подожгу, вмиг будешь здоровёхонек!
– Не надо, Степаныч, – захныкал чёрт. – Я ж безвредный… Сижу себе в болоте, да людей пугаю… Но не до смерти, а так, для острастки, чтоб не совались… Нечего им на болотах делать… Наше это место, чёртово…
– Не до смерти значит? – веско уточнил Степаныч, проглотив самогон и лукаво прищурившись. – Ну, тогда, совсем другое дело!.. Тогда совсем другой с тебя спрос!.. Я ж, поди, не зверь тоже какой… Я ж с пониманием… Сейчас решим наш вопрос… Полюбовно…
Выпил Степаныч ещё немного, заткнул обратно чёрту рот сапогом, снял свой старый ремень с пояса, смочил его хорошенько в скипидаре, посыпал от души морской солью, и ну давай охаживать чёрта по спине да по заднему месту, да не просто, а с оттягом, «что бы в точности уразумел».
Чёрт верещал и силился вырваться, но Степаныч крепко наступил ему на хвост и лупил подлеца больше часа, покуда руки не устали. Напоследок так припечатал тощий зад чёрта пряжкой, что на том отчётливо засияли и якорь и пятиконечная звезда. Затем он оставил чёрта хныкать в углу и ушёл в огород, а к вечеру вернулся.
– Ну, как самочувствие, – осведомился он у чёрта. – Ничего не ломит?..
Чёрт замотал головой.
– Нисколечко!
– Ага, – прищурился хитрым глазом старик. – А не щиплет ли, где, часом?..
– Нет, – твёрдо ответил чёрт.
– Совсем-совсем?..
– Нет!
– Стало быть, к труду и обороне полностью готов?..
– Готов! – выпалил чёрт без малейшей задержки.
После утренней «оздоровительной» процедуры, он сделался точно шёлковый и был на всё согласен.
– Вы мне только покажите, многоуважаемый Степаныч, как ульи чинятся, – лепетал он, украдкой ощупывая свой пылающий зад. – Я всё мигом усвою! Я понятливый…
– Некогда мне тебе уроки устраивать, – хмуро пробурчал в ответ Степаныч. – Наколи как лучше дров и баню затопи, а то от твоей вони издохнуть можно, а там поглядим…
Степаныч развязал чёрта, а чтобы тот не сбёг, присобачил ему к ногам цепи, прикрепив к концу одной старый аккумулятор, а к другой, ржавую раму от гоночного велосипеда. Напоследок он ещё раз внушительно потряс ремнём:
– Попробуешь смыться – поймаю и так выдеру, что всю жизнь будешь стоя спать! Понял?
Чёрт кивнул. Зад у него вспух так, что даже без цепей он еле ковылял. Однако, он быстро наколол дров, ловко истопил баню и явился к Степанычу с докладом.
– Всё готово, Ваше сиятельство! – выпалил он, силясь стать по стойке смирно. – Мыться подано!
– Какое я тебе сиятельство?! – побагровел страшно польщённый Степаныч. – Я – матрос Северного флота! Ясно тебе?! Я тут эту вашу контрреволюцию не потерплю!
Чёрт испуганно вжал голову в плечи, но дед добродушно усмехнулся.
– Ладно, ладно, сохатый, пойдём, попаримся… Глядишь, и чесотка твоя сойдёт… Есть у меня одно средство…
Но чёрт заупрямился.
– Я болотный чёрт, а не какой-то там домовой, – с достоинством заявил он. – Нам мыться никак нельзя… И особливо в горячей воде… Облезть можем…
– Хуже уже не будет, – повысил голос Степаныч и, ухватив чёрта за рога, потащил его в баню.
Крепко прикрутив поскуливающего чёрта к лавке его же цепями, старик, для начала, окатил несчастного крутым кипятком, после чего посыпал золой, потом негашёной известью, а после начал старательно тереть железной щёткой… Чёрт выл и умолял отпустить его, но Степаныч заткнул ему рот поленом и продолжил трудиться, прерываясь только лишь для того, чтобы выпить полстакана самогону и закусить его долькой яблока, макнув её в мёд.
Когда шерсть начала сходить с чёрта клоками, а кожа под ней стала цвета раскалённой печи, Степаныч вновь окатил «пациента» крутым кипятком, а затем от души намылил его окаменевшим стиральным порошком двадцатилетней выдержки и дал настояться четверть часа.
К этому моменту чёрт уже не кричал, а только обречённо подвывал, моля убить его, а не мучить, но Степаныч был неумолим. Он в третий раз окатил бедолагу кипятком, после чего выволок бездыханного негодника на свежий воздух. Несчастный чёрт не подавал признаков жизни и был красным как знамя, но Степаныч знал толк в бане. Включив на полную мощность насос, он стал усердно поливать распростёртое перед ним тело ледяной водой из скважины, от чего рогатый страдалец мигом ожил, закрыл глаза руками и заплакал, думая, что это новый этап чудовищной экзекуции.
– Ну, чего раскис-то, вставай, – крякнул Степаныч, выключая воду и с удовлетворением оглядывая плоды своего труда. – Самогон будешь?..
Чёрт робко открыл свой недобитый глаз и недоверчиво переспросил:
– Самогон?..
– Самогон, самогон, – засмеялся дед. – Не молоко же! Или ты что же, ещё разок попариться надумал?.. Так это мы враз устроить можем… Воды не жалко…
– НЕ-Е-ЕТ! – заорал чёрт гнусавым голосом. – Буду самогон! И керосин буду! И всё, что угодно, только больше не парь меня, прошу! УМОЛЯЮ! Не могу я больше, веришь, Степаныч, миленький мой, не могу?.. Правда не могу!.. Еле жив я…
– Ничего, отойдёшь, – приободрил его дед, наполняя стаканы самогоном и срывая с ветки пару яблок. – На, не расплескай только, окаянный… Ишь, трясёт всего…
С самогоном чёрт управлялся мастерски. После третьего стакана он полностью пришёл в себя, раскраснелся до вишнёвого цвета и сделался говорлив.
– У меня дядя был, – вещал он¸ презрительно отвергая нехитрую стариковскую закуску, – так он на спиртзавод повадился лазить. Пять лет туда хаживал. До того пить выучился, что мог в чане по три часа преспокойно плавать, а потом домой самостоятельно добираться! Он-то меня пить и научил. Эх, хороший был чёрт, с душой… Совесть понимал…
– И что же, никто его на заводе ни разу не видел? – удивлялся Степаныч.
– Отчего же не видел, видели, – ухмыльнулся чёрт. – Много раз. Да только кто ж признается, что он чёрта на спиртзаводе приметил? Сразу ж уволят, а то и похуже!..
– А где ж он теперь?– уважительно поинтересовался Степаныч. – Всё там же?
– Три года как нет дядьки… – сокрушённо поник чёрт. – Под электричку попал… Прям под Рождество… Невезуха…
К вечеру, оба напились до такой степени, что сидели в обнимку. Степаныч в тридцатый раз исполнял «Варяг» и чёрт тоскливо подвывал ему в след, пуская слезу и вытирая её кончиком лоснящегося хвоста.
– Ты на меня не серчай, – сказал дед около полуночи. – Я за свои ульи горой! Сам понимаешь – мёд…
– Понимаю… – уверял сквозь напавшую икоту чёрт. – Мёд – продукт наиценнейший. На дороге не валяется. Но ты не переживай, Степаныч. Я тебе новых пчёл принесу. Ещё больше. Хочешь? За дальним лесом знатная пасека имеется, да только мне всё идти лень было. Но я схожу и украду для тебя. Хоть целый улей, хоть два. Сколько скажешь, столько и принесу. Целёхоньких, Степаныч! Ну, как, договорились? Будет у тебя десять ульев, заместо пяти, и вдвое мёда! Соглашайся, Степаныч…
От таких невероятных перспектив у Степаныча закрутило живот, однако, по зрелому размышлению, пользоваться ворованными пчёлами он наотрез отказался.
– Я флотский парень, – шумел он, категорически размахивая руками. – Понимаешь? Матрос!!! А матрос в грязь лицом не ударит, даже если где и найдёт!.. Не нужны мне твои пчёлы! Подавись ими, гад болотный! И вообще, кончай это занятие, по чужим ульям шастать! Это я вот малый отходчивый, а попадись ты кому другому, так он бы с тебя враз три шкуры спустил, причём – одномоментно…
– Тогда, я тебя научу самогон варить, – икнул чёрт.
– Меня? – сначала остолбенел, а затем демонически расхохотался Степаныч. – Самогон?! Да лучше моего самогона во всей округе не сыщешь! Слеза, а не самогон!
– Самогон у тебя, Степаныч, паршивый, – сказал расхрабрившийся от безудержных возлияний чёрт. – А слеза она, Степаныч, всё от грусти…
Степаныч вскочил, почернел и поднёс свой жёсткий кулак к самому носу крепко зажмурившегося чёрта.
– Так значит мой самогон паршивый, да? – с маниакальной нежностью прошипел он в ухо чёрта. – От грусти значит, так?..
– Как есть паршивый, – мрачно кивнул чёрт, готовясь к неминуемой смерти. – Паршивее некуда… Таким самогоном только котельную топить или стёкла паровозам протирать… Гадость, одним словом…
Степанычу сделалось от таких слов дурно. В голове у него протяжно завыла морская сирена, а палуба кухни дала крен. Забыв про смертоубийство, он яростно затопал ногами и закричал не своим голосом:
– А что ж ты, паскуда, тогда целых два литра его выхлестал, а?! Назло может быть, а?! Назло?!
– А за неимением, Степаныч, за неимением, – бойко ответил чёрт, видя, что гроза миновала. – Но я тебя научу! Всё как есть расскажу. Без утайки. Сам увидишь. Лучше чёртового самогона на всём свете не сыскать. Уж поверь…
Степаныч до хруста сжал кулаки, заскрежетал зубами, выпучил налившиеся кровью глаза, но сдержался. Молча налил он им ещё по одному стакану, молча чокнулся, молча выпил, и только когда последний бульк в его горле стих, выдохнул:
– Обманешь – чучелу из тебя сделаю… Набью компостом и внуков по ночам пугать буду… Помяни моё слово…
– По рукам, Степаныч, – улыбнулся чёрт. – Не прогадаешь!
На следующий день, похмелившись и наскоро перекусив, Степаныч повёл чёрта в свою «обсерваторию», где с гордостью продемонстрировал сияющий, как палуба перед смотром, самогонный аппарат.
– Сам делал… – любовно проворковал дед, оглаживая медные детали механизма. – Каждую детальку своими собственными руками с завода вынес… Он мне как родной… Даже хуже…
Но чёрт не слушал. С видом знатока он быстро всё осмотрел, где-то покрутил, где-то пощёлкал, деловито осведомился о рецепте браги, температуре, прочих нюансах и вынес свой короткий вердикт.
– Так гнать нельзя!
Степаныч затравленно огляделся.
– Да что же это такое, а!? Какой-то чёрт болотный, будет меня, Степаныча, учить, как самогон нужно гнать! А ну ка, выметайся отсюда! Вон, я сказал, паршивец этакий, вон! Что бы духу твоего здесь больше не было! Будешь мне колодец новый рыть, пока из него нефть не забьёт!..
– Ты, Степаныч, не бушуй, – примирительно заметил чёрт, смекнув, какой подход необходим к деду. – Я тебе дело говорю. Тут немного совсем подправить надо, и рецепт малость переменить и всё. И Степаныч, ну почисть ты аппарат свой хоть раз!
– Почисть? – разинул от негодования рот Степаныч. – Да ты видно совсем ослеп сдуру! Он ж сияет!
– Снаружи-то он сияет, а вот внутри… – ухмыльнулся чёрт. – Внутри он, Степаныч, что твои сапоги – ископаемое!
– Ты мои сапоги не трожь, – обидчиво фыркнул старик. – А то ещё раз на вкус попробуешь… Говори-ка лучше толком, внятно и по уставу, что делать-то надо, а то елозишь как жаба, смотреть тошно… Ну!
Чёрт подробно объяснил Степанычу все тонкости чёртового самогоноварения, после чего они вместе разобрали самогонный аппарат, всё прочистили и продули. А вечером, старик усадил «специалиста» в свой рюкзак и они отправились вдвоём на болота, где чёрт указал старику нарвать каких-то невзрачных трав, которые они затем мелко накрошили, высушили и бросили в брагу.
– Теперь будем ждать, – сказал старик, принюхиваясь к бражке. – Недельку не меньше…
– Только не со мной, – весело подмигнул старику чёрт. – Учись, дед, пока я жив!
Чёрт живо облизнул кончик своего облезлого хвоста, макнул его ненадолго в чан и бражка, в мановение ока, дозрела и недвусмысленно запахла…
– Ну дела… – почесал голову Степаныч. – Таким макаром можно каждую ночь гнать…
– А то, – смеялся чёрт, довольно потирая руки. – Начнём?..
Они залили брагу в аппарат, включили газ и приступили к процессу, усевшись друг подле друга на скамье, хихикая и толкаясь точно два шкодливых школьника.
– Тут, главное, вовремя начать и вовремя остановиться, – увещевал старика чёрт, когда первые капли горячительного напитка потекли из крана. – Лишнего сцедишь – весь вкус пропадёт… Мера тут нужна, Степаныч, мера…
Но Степаныч ничего не желал слышать. Его глаза светились безумием, кадык судорожно вздымался на морщинистом горле, а жилистые кулаки тряслись от вожделения.
– Гнать, гнать, гнать! – рычал он, ревниво следя, чтобы ни одна капля драгоценной жидкости не ускользнула от подставленных бутылок. – Гнать, не останавливаться! ГНАТЬ, ТОЛЬКО ГНАТЬ!
Чудный запах наполнял помещение и оба самогонщика сладко облизывались.
– Чуешь? – улыбался чёрт. – Мёдом пахнет…
– Точно, мёдом, – кивал в ответ Степаныч. – А вкус-то, вкус-то какой?.. Точно парное молоко пьёшь… А как забирает?.. В самый небалуй льётся… Аккурат, в самый небалуй… Чертовщина, да и только…
– А я тебе что говорил? – радостно хлопал деда по ляжке чёрт. – Лучше моего самогона нигде не сыщешь! Веришь мне теперь, а?
– Твоя правда… – неохотно соглашался старик. – Хорош самогон… Страсть как хорош… Да только и мой недурён! Просто этот помягчее будет малость… Поскользливее… Поизвивчевее… Пошабутнее…
С той поры чёрт прочно обосновался у Степаныча. Чесотка, после устроенной ему бани, прошла без следа. Мышиная шерсть скоро вновь отросла и была гладкой и блестящей, а по вечерам даже отливала благородной синевой. Днём они поочерёдно кололи дрова, ухаживали за пчёлами, а вечерами самогонили до одури, так что под утро не стояли на ногах. Продукт, что они получали, был таким качественным, что в скором времени Степаныч выменял на него себе ещё пчёл, и теперь у него было ровно 13 ульев.
– Хорошее число, – говорил чёрт. – Крепкое. Основательное.
– Мало, – для виду возражал Степаныч. – Сурьёзу не хватает… Нужно сотню заиметь, а лучше две… Я, вообще, думаю весь дом в улей превратить… А что, пусть живут… Пчела – животное полезное, не то, что там птица или свинья какая-нибудь… Пчела она всё понимает… Тварь без дурости, людям не чета…
Прожили они так всю осень и зиму, душа в душу, но по весне, чёрт, вдруг, захандрил.
– Вот скажи мне, Степаныч, ты мне друг? – спрашивал он старика за кружкой свежего самогона.
– Друг, – уверенно отвечал Степаныч. – Самый что ни на есть друг…
– А товарищ ли я тебе, Степаныч?
– И товарищ, – легко соглашался дед. – Самый что ни на есть первостепенный ты мой товарищ, чёрт… Первее некуда…
– А брат ли я тебе, Степаныч? – не унимался чёрт, роняя слёзы в кружку. – Скажи мне?
– Брат, – размашисто кивал старик. – Самый что ни на есть первородный брат ты мне… Кровинка моя, черченячья…
– Тогда вот ответь мне, Степаныч, отчего ты своего друга, товарища и брата родного как скотину пустую, да безродную на цепи держишь, да ещё и в подпол на ночь запираешь? Разве ж с братьями так поступают, а?.. Скажи?..
Слёзы увлажняли хитрые глаза Степаныча, и он говорил:
– А это всё от того, друг мой, брат и товарищ чёрт, что есть у меня к тебе любовь, но нет у меня к тебе доверия… Сбежишь ведь, подлец… Как пить дать сбежишь… Сердцем чую… Самым что ни на есть сердцем…
– И сбегу, – начинал капризно подвывать чёрт. – Обязательно сбегу! Подкоп вырою и сбегу… И ещё улья твои прихвачу…
– Ты говори, говори, да не заговаривайся, – беспокойно елозил на табурете Степаныч. – Пчелу не трожь… Пчела – это святое… Кто пчелу обидит, того я из-под земли достану, а потом обратно положу, но в разборе…
– Всё равно сбегу, – гнусавил чёрт. – Не могу я в доме жить, Степаныч! Ну вот никак не могу!.. Обратно бы мне… На болота… По весне там жуть как хорошо…







