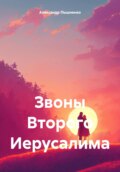Александр Пышненко
Напиши мне о галчонке. Записи на железнодорожных билетах
Выбравшись из пылающего танка через верхний люк, Егоршину открылась картина настоящего ада. Она будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Дымят подбитые и горящие танки на поле боя. На броне танка – висят кишки командира Акопяна. У него – распорот осколком живот. Тело лейтенанта, безвольно лежит, возле гусениц. Он видит немца, который строчит с автомата. Пули тенькают по броне; они рикошетят и впиваясь ему в руку. Он теряет сознание, сползая с танка наземь…
На этом атака не захлебнулась в лужах крови, и его подобрали подоспевшие санитары… …В эшелоне, увозящем раненных подальше на восток, у Егоршина открылась старая рана в боку, полученная еще под Перемышлем. Эта рана не будет давать ему покоя всю дорогу. Это от нее, он в бреду кричал всю дорогу: «– Наводка 90 градусов! Огонь по наступающему врагу!».
Долго стояли на станции Арысь, что: под Ташкентом. Запомнилось, хорошо. После этого, их повезли в горы, а ж за Алма-Ату, где содержали немецких кобылиц, молоком которых там и выхаживали тяжело раненных бойцов. При приеме в госпиталь, начальник велел санитарам, чтоб те подносили каждому раненому бойцу большую кружку кобыльего молока. Многие, почему-то, отказывались пить кумыс. Но Егоршин выпил, – и еще попросил повторить лечебную процедуру.
«– Посмотрите на этого богатыря! – Сказал, улыбаясь, начальник госпиталя. – Этот боец обязательно выздоровеет! Попомните мои слова!»
Как в воду глядел. После госпиталя, Егоршин, некоторое время, готовил молодое пополнение под славным городом Тула. Снова открылась злополучная рана в правом боку. Оттуда он снова попадает в военный госпиталь…
«– Не выживешь ты, брат, Егоршин! – Сказал ему доктор, выписывая с госпиталя. – Ищи себе для жизни местность, которая бы не очень пострадала от войны. Чтоб молоко обязательно было с коровы, и хорошая баба! Только это тебя и сможет спасти! »
«– Да где ж я такую местность найду? Я – сирота. Мою деревню немцы сожгли. Нету для меня такого места! » – Взмолился, Егоршин.
Доктор пожал плечами, переводя взгляд на сидевшего на выписке полковника. Тот, до этого времени, молчал.
«– Знаю я такое место! – Обозвался полковник. – Вижу, Егоршин, парень ты мировой! Едем со мной, – не пожалеешь…».
Так Егоршин попадает в послевоенный Конотоп. Это было время массового переселения неприкаянных россиян в Украину. Полковник отвел Егоршина в райисполком. Там как раз заправляла всеми делами боевая, властная женщина. Полковник переговорил с нею с глазу на глаз, а потом позвал в ее кабинет Егоршина.
«– Вот, – этого парня, я рекомендую, – говорит этой женщине полковник: – Это старший сержант, гвардеец, танкист. Он хочет здесь жить и работать. Можно подыскать ему такое место, которое не сильно пострадало от войны?.. »
«– Такие люди мне сейчас позарез нужны, – ответила женщина. – Отправлю я его, сейчас же, руководить целым колхозом…»
«– Не могу я руководить, – сказал Егоршин. – Я, – сильно контуженный. Мне сейчас руководителем быть никак нельзя. У меня чуть что, я перенервничаю, открываются раны. До войны, я окончил землеустроительный техникум. Поставьте меня, если можно, простым землеустроителем…».
“ – Ладно, – сказал председатель Райисполкома. – Очень жаль. Обычно, все хотят пребывать на командирских должностях”.
Так Егоршин устроился землеустроителем на три присеймовских села. Женился. Стало поправляться здоровье. Стал кандидатом в члены кпсс…
В 48-м году в управление колхоза приходит строгая директива. Председатель колхоза Лебедь срочно собирает весь партийный актив села.
«– Надо, – говорит, – срочно собрать урожай! Пришла директива…».
«– Нельзя этого делать! – Озабоченно, воспротивился Егоршин: – Зерно еще молочной спелости! Оно лежать долго не будет. Покоробит его солнце…».
После этих слов, в конторе, наступила гробовая тишина.
«– А мы его еще в партию собрались принимать? – Слова парторга Сірика прозвучали, как приговор тройки: – Не видержав ти іспитательного сроку, Егоршин. Твої слова йдуть врозріз з генеральною лінією комуністіческої партії! ».
«– Да, шо там з ним цацкаться? Гнать його треба в шию! – Сказал Лебідь. – Шоб ноги его тут більше не було! Щоб на 50 метров до контори не підходив! ».
«– Ложи, Егоршин, на стіл свою карточку кандидата. – Сказал ему, парторг Сірик. – Не нужний ти такий, нашій коммунистической партії! И катись-ка ти, чоловіче, до чортової матері. Або: на всі чотири сторони! »
После этих слов, ему ничего не оставалось делать, как достать из кармана гимнастерки свою карточку кандидата, и уйти, потупив глаза, из конторы…
«– Поставили меня дежурить на мосту», – продолжает Егоршин.
В самом начале октября месяца, их заставили вкопать перед мостом шлагбаум, чтоб по мосту не ездили грузовые машины. Мост рассчитан был только на три тонны. В тот же день он почему-то оказался дежурным на мосту. Хотя очередь была не его.
«– Стою, – говорит, поэтически вздохнув, Егоршин. – Тихо. Осенние звезды светят ярко…». – По его словам, проехала подвода запряженная коровой. В., с дочкою повезли домой лепеху, которой всю зиму будут кормить ее же, корову.
…И тут… от села… светят фары; подъезжает, с фанерной кабиной, ЗиС. В кабине сидит шофер, и заведующий Кролевецкой заготконторой. Едучи с Конотопа, они якобы завернули к своему другу, председателю, посидели там до полуночи, а потом, – чтоб не возвращаться назад в Конотоп 42 километра, – решили ехать напрямик, через деревянный мост. А, чтоб не сбились с пути истинного, – по версии Егоршина, – показывать дорогу им до моста, Лебедь послал какого-то своего верного холуя (Луговца), который присутствовал на посиделках. Того посадили в кузов, где уже находилось человек пять каких-то, проверенных, бойцов…
«– Можно проехать через мост?» – Спросил у Егоршина, заготовитель.
«– Да вы мне мост завалите, – отвечал ему Егоршин. – В вашей машине пять тонн веса, а мост рассчитан всего на три!».
«– Да ты я вижу, парень совсем не сговорчивый! – Повысил свой голос заготовитель. – А, ну-ка, ребятки, поймайте мне этого молодца! – Сказал он, заглядывая в кузов своей машины».
С кузова на землю, тут же, посыпались его люди. Егоршин, перепугавшись, стремглав бросился в кусты, в надежде берегом добраться до села…
«– Куда там! – Говорит Егоршин. – Это люди были военные, быстро раскусили мой маневр…».
Растянувшись длинной цепочкой на лугу, они быстро приперли его к реке, и, «взяв в плен», привели к своему начальнику». Тот стоял на мосту, переваливаясь с носков на пятки. Отечное лицо, наглые глаза. Усики, по тогдашней моде. Работая до этого лагерным вертухаем, привык к тому, что ему все подчинялись беспрекословно.
«– Тек-с, – начал распоряжаться судьбой Егоршина заготовитель, – свяжите-ка ему, братцы, руки, и киньте его в воду! ».
Но тут, – вдруг, – заупрямился шофер.
«– Если свяжете ему руки, – сказал он, – не повезу вас дальше! Что хотите со мной делайте!»
Трудно определить теперь, была ли эта история чистым розыгрышем? Я не жил в то время, но, судя по понятиям современных начальников и бандитов, это вполне похоже на интригу. Нравы, в тех местах, судя по всему, немногим изменились. Я сам попадал там, в бандитские 90 -е, в похожие обстоятельства. Для этого местный пахан, нанимал бандитов, которые стреляли дробью «как бы в шутку», – но холуи, от вседозволенности и безнаказанности, легко переходят всякие грани.
Как всегда, в подобные мгновения, время превращается у вечность. Заготовитель по-прежнему переваливался с носка на пятки, с интересом рассматривая плененного Егоршина. Он искал на его лице страх. Палачи любят наблюдать человеческий страх. Эти психопаты питаются энергетикой чистого страха, и, за этим, готовы отправиться за много километров. Охота на людей, в крови у советских (и постсоветских) начальников. Здесь: и лишняя порция адреналина в крови, и авторитет, и помощь «хорошему» «нужному» человеку. Который, в нужную минуту, выручит и его, когда представиться такая же возможность. Те, кто приехали вместе с заготовителем, не были, обязательно, на передовой. Это могли быть охранники лагерей. Которые убивали, получая от вида смерти, наслаждение.
Егоршина не связывали. А, вытащив его за ноги, на середину моста, бросили в ледяную купель…
– Течением меня затянуло под мост, – вспоминает Егоршин. – Я схватился за толстую поперечину, которой были скреплены все четыре пали забитые в дно, и вылез на нее… «– Вы от меня далеко не уедете! – Кричал Егоршин из-под моста. – Я номера, вашей машины, запомнив! »
Кричал, похоже, находясь в состоянии аффекта. Посовещавшись на берегу, преступная компания вернулись обратно. Похоже, что они чего-то испугались: и от шуток, решили перейти к делу. А поскольку Егоршин находился под мостом, где его не так-то просто было достать, – они, оторвав шлагбаум, начали заводить его одним концом под мост, чтоб сбить Егоршина с поперечины.
«– Но разве удержишь в руках такую тяжелую дубину? – Спрашивая, Егоршин взводит на меня замутненный грустью глаза, чтоб показать пережитый им ужас. – Она тут же вырвалась у них с рук, и поплыла мимо, – продолжает он, увидев мою реакцию: – Тогда они, срывая настил, начали ломать над моею головою, доски…
Егоршин все время кричал, находясь под мостом: «– Люююди-и-и! Спасииите-е-е! Помогииите-е-е! »
С луга, кто-то откликнулся. Объездчик! Объездчики, постоянно, сторожили луга от не очень сознательных колхозников.
«– Иду-у-у! » – Услышал Егоршин спасительный голос.
Только после этого, нападающие перестали отрывать доски, и бросились к машине. Через минуту она прогрохотала над головой Егоршина, обсыпая того пылью…
Объездчик помог Егоршину выбраться с воды. Для этого пришлось тому снова лезть в студеную воду, а потом со всех сил грести к берегу.
– Если б меня занесло под кручу, – говорит Егоршин, мне б оттуда никогда не выбраться. Там течение быстрое, а берега скользкие. Амба мне была б…
Объездчик помог разжечь Егоршину костер, чтоб тот хоть немного смог согреться, и обсушиться. Только после этого Егоршин отправился в село, к председателю Лебедю, доложить о происшествии на мосту. Кому же еще? Только у того телефон в конторе села.
А у того гулянка еще в полном разгаре. Председатель уже знает, что произошло. Его холуй, обо всем и доложил.
– Не стал помогать мне, – в голосе Егоршина прозвучала нотка не перегоревшей за полвека обиды, – а побежал докладывать председателю! Вот такие бывают люди! – Возмутительным тоном, говорит Егоршин.
«– Ти нікому не розказував? » – Спросил Лебедь, пристально посмотрев, Егоршину в глаза.
«– Нет», – сказал Егоршин.
«– Тоді, й кажи нікому. Мій тобі совєт. То очень хорошие люди були! Ось тобі стакан самогонки. Для сугрєву. Да й дуй собі додому»! – По-отечески, советовал председатель. …Через месяц к Егоршину на мост явился все тот же шофер.
«– Ты, – спрашивает, – никому не рассказал о том, что с тобою произошло? »
«– Зачем же мне говорить о тебе, когда ты меня от смерти спас? » – Вопросом на вопрос, спрашивал Егоршин.
«– Тогда держи! » – Шофер подал ему две бутылки водки, и бумажный сверток, в котором, колечком, лежало полкилограмма колбасы.
– «Там мы доски на мосту поломали? » – Шофер полез в кузов. – «Держи! » – Крикнул он, выбрасывая перед остолбеневшим от свалившегося изобилия, Егоршином, две длинные, дубовые доски.
«– Я сделал из них деревянный диван, который стоит у меня до сих пор», – говорит мне потрясенный, до сих пор, Егоршин.
«Что такому надо, за унижение страхом? – задаю я сам себе тут же вопрос, на который существует уже фирменный ответ: – Полкило колбасы по 2. 20 и, естественно, водка. К этим символам советского изобилия, приучали и нас, тогдашних школьников. Егоршин, своим рассказом, помог мне заглянуть вглубь уходящего века. Кнут и пряник, – вот символы советской эпохи, – колбаса и страх!.. »
– Вон мои гуси плывут! – Этими словами Егоршин выводит меня из состояния грустных размышлений над судьбами людей. – Разве ты не видишь моих гусей? – Обращенный ко мне голос, требует живого участия. – Гусак белый, а четыре гусыни, серые!..
Я, натружено, всматриваюсь в разинутый зев сумеречного залива.
– Нет, – говорю, – ничего не вижу.
– Я их голоса слышу! – Уверенным тоном, говорит Егоршин. Его лицо облагораживает светлая радость.
Проходит несколько минут томительного ожидания, и, в пространстве пролива, возле Островка, показывается караван важно плывущих гусей. Впереди, белым пятном, проступает крупный гусь, как-то гармонично вписываясь в чернильные сумерки, надвигающейся на залив ночи…
1996 (2017)
Свадебный поезд
Предисловие
Словно в насмешку за какие-то запамятованные давно прегрешения – сама судьба направила меня в бессрочную ссылку, в одно захудалое село. С поэтами-бунтарями подобным образом поступали всегда. Пушкина – в Михайловское, Бродского – в архангельскую деревню за тунеядство…
Это только во Франции поэты рождаются в провинции, чтоб потом умереть в Париже. На моей дороге случилось село под поэтическим названием – Хижки, в Конотопском районе, в Сумской области. О Киеве, тогда, я мог только мечтать, находясь в нем.
О этом месте, можно было подумать, как о божьем даре: для прохождения литературной линьки. Стояла во весь рост лишь проблема элементарного выживания. И еще, престарелая мать, которая по причине многих своих хронических болячек, оставаясь по сути дела, никому не нужной; уже давно затравленной собственной сестрой.
За матерью пришлось ухаживать, как за неизлечимо больным человеком (дело было даже не в старости).
Поэтому работу радиотелефониста, на первых порах, я считал «сущим подарком, ниспосланным мне высшими силами, как производственное орудие, необходимое для добывания хлеба насущного». Обихаживая обширный клочок земли, я нарабатывал необходимые навыки в выращивании урожаев. Этих знаний мне хватило, чтоб с одной сотки кормиться не один год; даже в Киеве. Исключая, конечно, картошку, которую приходилось прикупать.
Скоро в меня появились в селе обширные грядки клубники, которые обеспечивали весьма приличным заработком. В сочетании с материной пенсией, я устроился довольно-таки неплохо в эти смутные, 90-е, годы.
Бывшая колониальная агентура, всегда работающая на Кремль, не сразу пришла в себя после планетарного развала Советского Союза. Очень медленно восстанавливалась агентурная сеть, по мере разворовывания адептами колониального владычества Москвы, всего того, что еще оставалось от «социалистической экономики»; как плата тем, кто готовил Украину для нового порабощения.
Проекты поэтапного объединение в новый «союз», сработают в их головах уже в начале следующего столетия, когда вся эта братия, приходит в себя от дикого шока, вызванного начальным периодом. До этого, они призваны были поддерживать жизнь в определенных структурах.
В это время, я мог спокойно заниматься своими хозяйственными и литературными делами.
Агентуру возглавлял Бардак. Можно представить себе в виде такого себе породистого альфа-самца, морда-лица которого светилась свежими наростами жира; имеющего двойной подбородок и набухший живот, словно у классического кулака-держиморды. Узнаваемый тип украинского хохла, который верой и правдой служит поработителям за малую долю: пользоваться неограниченной властью. Этот некоронованный король, лишенный всякой совести, руководил избранными холуями. К подобным психопатическим типам больше подходит мерзко звучащее слово «пахан», которое произвела на белый свет сталинская система для использования его в закрытых пенитенциарных заведениях. Как по тюрьмам, – так и в колхозах, – существовала подобная, рабская, система организации труда.
Посему, я буду принципиально употреблять для символических обособлений подобных Бардаку социальных типов – этот сугубо тюремный термин, обозначающий роль главенствующего тела в определенной среде.
Судьба, естественно, определила автора под его неусыпное наблюдение. Этими делами занимались его людишки, имеющиеся в каждой сельской щели. Это были – его глаза и уши, которые никогда не прятались. Мерзко осознавать, что за тобой ведется постоянное наблюдение. Эта мышиная возня создавала видимость ему основной работы; затем поддерживалось доносительство.
Я выучил всех сельских стукачей, услугами которых, активно пользовался местный пахан. Их очень много; практически каждый фуфаечник, мог выдать конспирологическую версию на основании даже случайно мною обронённого слова. Это служило основанием для строительства каких-то оперативных планов и действий. Пахан обладал всеми данными на случай развития ситуации в том или ином русле. Естественно, он знал, кто, как и чем дышит на его территории, и мог дать любому исчерпывающую характеристику. Все, последовавшие за моим прибытием, события в этом селе, разворачивались на фоне тотальной разрухи привычной среды обитания колхозных трутней.
Вследствие неизбежного коллапса колхозной системы, навевался жуткий страх неверия, в устойчивость всей украинской государственности. Испугавшись ельцинской России, в свое время, колхозникам дали, в едином порыве, проголосовать за исторический акт, подтверждающий независимость страны. Но, увидев какие могут быть исторические последствия, после того, как все устаканилось, – и, в первую очередь, в России, – вот тут-то им и довели до сведения: как они опростоволосились, пойдя на поводу у мнимых националистов. Пытаясь как-то наладить обратный отсчет исторического времени, они взяли курс на реинкарнацию московской империи в Украине.
Я не стану распространяться о хронической зависти колхозников даже к тем небольшим деньгам, что платили мне за бесподобное лазание по гнилым опорам электропередач, что серьезно бы удлинило этот рассказ. Радиоточки молчали, в этом селе, годами. От меня требовалось починить их за один месяц. Фидер пришлось распутывать, отключать закороченные участки; вводы в сельские хаты лепились с каких-то ржавых обрывков провода…
Весь октябрь и начало ноября, я провел на дряхлых столбах…
1
На самом краю села жил Карпушенко. Это был всеми уважаемый ветеран и офицер Красной Армии. К несомненным заслугам Карпушенко приписывали, что это он помог своими обращениями в вышестоящие инстанции, помог отправить в отставку самого одиозного даже для этого села, председателя сельского совета, сексота Гончаренко (в быту: Вани Черного), в перечень преступлений которого, однозначно: вписывалось – уничтожение сельской церкви. При этом, не учитывалось мнение, что сами колхозники активно помогали саперам закладывать взрывчатку: занимались бурением дыр в каменных стенах.
Церковь была возведена в 18 веке, на средства неких сестер Клочковых, упокоенных в ее склепе, разрушенном варварами-комсомольцами, в начале 20 века. Не ими строенная красота, простоявшая триста лет, в 1985 году превратилась в кучу битого кирпича.
В середине холодного ноября, я целую вечность просидел на столбах в огороде Карпушенко, чтоб слепить ему из обрывков проводов целую линию. Это была плата, за его настойчивость. После чего, он позвал меня в свою хату, чтоб напоить меня горячим чаем. (Я думаю, в среде колхозников, он хвастался, что заставил меня делать ему линию в собачий холод… ).
Чтоб занять меня во время чаепития, он рассказывал мне о прошедшей войне. Он говорил на местном суржике, который попытаюсь передать в силу своих возможностей:
– В самому началі війни я не дуже вже й жалів себе, – вспоминал, бывший фронтовик. – Жизнь для меня имела небольшую ціну. Я був зовсим молодый, горів ненавистю до врагов. Німці повісили в селі матір і батька за те, що в них нашли рацію, яку отступающие наши войска оставили для партізан. Хтось доніс. Із наших, із сельчан… Бувають же ж такі люди? – Задает он мне вопрос, не единожды слышанный мною, в этих местах. – Страх меня настиг уже в самому конці войни, у Венгрії, – продолжает Карпушенко, – Мадьяри, тогда, отчаянно сопротивлялись. Боявся, що уб"ють в самому кінці войни. Може це мене, и спасло. Бої шли упорниї. Було чого злякатися!..
2
Моя мать, старая учительница, к тому же хорошо знавшая историю села, смогла кое-что прибавить к этому рассказу.
– Перед войною – припоминала она: – в сім"ї Карпушенко було а ж четири сини. Три з них воювали на фронті, – а один, старший, – робив на оборонному заводі. Після війни, в село прийшла звістка, шо Петро помер од якоїсь там хворобы.
Стройный рассказ о героической семье чем-то смахивал на многие сталинские мифы, которые утверждались в умах советских граждан. Матросовы и «панфиловцы» – это: государственный уровень пропаганды, а семья Карпушенко – это уровень обычного села. Но, поскольку отличающихся данных у меня нет, этот рассказ, я вынужден буду передавать без купирования.
Младшему сыну из семьи Карпушенко, пулеметчику Константину, молва приписывала «героическую смерть в смертельном бою», от вражеской пули. Семья вынуждена была стать героической, во всех отношениях.
– Первым в село повернувся Сашко, – продолжала рассказывать эту историю, мать, в том же патриотическом духе: – У Сашка Карпушенко, вся грудь була в орденах. А ж два рази він горів у танку…
…Сашка вернулся в село, сразу же после войны. Тогда, как его брат, Алексей, – (у которого я ремонтировал радио), – вынужден был, еще, дослуживать в Венгрии. Алексей был офицером-артиллеристом. Ему – некоторое время после окончания боевых действий – пришлось обучать, поступающее на смену фронтовикам, пополнение.
В это время, в селе разыгралось настоящая драма. На ферму прислали молодую учетчицу, из соседнего села Козацьке, – и Сашка решил взять ее себе в жены. Катя приглянулась ему. Свадьбу – назначили на ближайшее воскресенье.
– Які були свайби? – Задавала риторический вопрос мать, и сама же отвечала на него: – Жених збирав своїх дружків; вони сідалы на виз, та й їхалы за нєвєстою. Называлось, це – «Свадебним поїздом». Застолий, як тепер, тодi ще не справляли. Люди жили дуже бідно. Забирали подушки, невесту, – та й везли до жениха. Оце тоді так женились!
Сашке не повезло, что в тот день, власть назначила какие-то выборы (в сталинские времена – это было политическое мероприятие; с принудительной явкой всего электората). Чтоб обеспечить стерильность подобного действа, в назначенный день, запрещалось все мероприятия, кроме единогласного «волеизъявления народа».
– Да шо я тобі все розказую, – вдруг, будто спохватившись, говорит мать: – Сходи до Симонихи. Баба Верка тобі все розкаже. Вона була тоди «дружкою» у жениха.
3
Мечта связать свою судьбу с районной журналистикой, заставляла меня искать свежие сюжеты из народной жизни. Я часто бывал в редакции местной районной газеты. Меня там хорошо принимали, и довольно-таки охотно печатали. Правда, мне не долго пришлось тешить себя иллюзией попасть к ним в штат. Надо было еще самому добраться мозгами до очевидного сейчас вывода: что печатаемое в этих колхозных листках не имеет ничего общего с реальной ситуацией на местах. Запудривая мозги своим немногочисленным читателям, часто насаждаемыми сельскими сексотами, мифами, редакционные работники определяли свое сносное существование в этой колхозной системе. Я еще не знал, что в этом селе, в этот только что организованный сельскими паханами печатный листок, была определена писать сельская учительница (она же сноха, альфа-сексота). Мне еще предстояло пройти определенный этап познания этой непреложной истины. Но в самом начале этого пути, я по простоте душевной думал, что в районной редакции засели творческие люди, преданные общечеловеческим понятиям правды, которые тут же схватятся за эту тему обеими руками, – а не какие-то борзописцы-политруки, призванные защищать своих колхозных покровителей. Поэтому я, не откладывая свой визит к бабе Вере в долгий ящик, тут же схватил велосипед и помчался за сермяжной правдой. Найдя ее в веранде собственной хаты, готовившую кормежку для своих хрюшек. Разговорить бабу Верку не составляло особого труда. Было видно, что она пережила в те годы нечто, что до сих пор отягощало ей память, просилось к исповеди. Готовясь рассказывать свою историю, она от волнения то снимала, то опять надевала очки. Ей только что сделали неопасную операцию, заменив помутневший хрусталик в глазу. Она еще стеснялась очков с толстыми линзами. Была такой же высокой, стройной, как, наверное, в цветущей молодости.
А через час, я уже мчался домой, записывать невыдуманную историю.
4
Сашка собрал своих дружков в тот же день, чтоб ехать за своей невестой в соседнее село, которое находилось в десяти километрах от Хижок. Дорога недалекая, если учесть, что впереди долгая, семейная жизнь. Все знали, что в день выборов, районные власти (директивой) запретили подобные мероприятие. Но наши люди, еще тогда, научились обходить суровость существующих законов. Да и Сашка, много раз, переживший в недавних боях не раз свою смерть, слишком уж глубоко уверовал в свою счастливую долю. Он выпросил у конюхов жеребчика, которого специально держали для таких мероприятий; посадил в воз своих дружков, и отправился в соседнее село за невестою. Возвращаясь назад, не рассчитали сил колхозной коняги. И воз, до предела груженый молодыми, здоровыми людьми, пожитками невесты, застрял на половине пути, в какой-то грязной колдобине. Где и застал их едущий от села «бобик» с районным начальством. За рулем, они узнали еще издали, сидящего председателя райисполкома Канавца, – а позади, на сиденье, местного эмгэбэшного начальника Прохоренкова, возле которого умостилась его любовница. Нюрка была в том самом пуховом оренбургском платке, который служитель доблестных органов получил в подарок к ноябрьским праздникам. Не жене повез – своей любовнице…
Канавец – всю войну провоевал в здешних лесах, во главе партизанского отряда: «Смерть фашистам!». Он хорошо знал местность и часто приезжал в Хижки. У сельских активистов, ему всегда был готов: и стол, и кров. К услугам была услужливая колхозная челядь, и целый сонм бесплатных колхозных проституток.
Нюрка, – судя по рассказам старожилов, – была пристроена принимать молоко от населения. И мужика ее держали на той же работе. Должностей, – по завезенной еще с древней Византии традиции, – для мужей своих содержанок, местные начальники, никогда не жалели. Вот они решили, в тот день, прокатиться до города. В этом месте: молва разошлась во мнениях. Ходили еще слухи, что Прохоренков хотел в этот день забрать к себе Нюрку: в жены. (Что и произошло, в ближайшее время. Хотя, совместная жизнь у молодоженов, так и не сложиться. Это, лишь, к слову). Увидев застрявшую в грязи колымагу, начальственный ковчег остановился напротив.
– Кто разрешил? – Окинув всех присутствующих ястребиным взором, грозно спросил, высунув голову из кабины, суровый районный начальник. – Не слышу? – Задает он, ещё один наводящий вопрос. – Была же четкая директива: – Чтоб никаких свадеб, на сегодня, не было! За нарушений, будете отвечать по всей строгости! Это я вам обещаю, – продолжал разносить в пух и прах, оступившуюся молодежь, председатель райисполкома: – Во время войны, за невыполнение приказа – расстрел! Ты, Сашка, должен знать это, как никто другой!
– А те, шо у мене нікому дома борщу зварить, ви це знаете? – Сашка прыгнул в воду, и побрел к машине районного руководителя. – Я, – хозяйку додому везу! – Эту фразу, он бросил чуть не в лицо районному начальнику.
Наступила недолгая пауза. Начальство, истратив весь запал, соображало, как выпутаться с этой сложной жизненной коллизии, чтоб не пасть лицом в грязь, и сберечь свой непререкаемый авторитет. В этот момент, из-за спины Сашки, как черт из табакерки, совсем некстати, вынырнула Сымонышина Верка.
– Вы б не кричалы на нас, а помогли б нам, – начала она, по-женски исправлять ситуацию. – Он, у вас, я бачу, и цепок лежить в машині! Дерніть воза!
– Вот щє! – Скривила свой рот, в бесконечном презрении, молчащая до этих пор Нюрка. – Будемо тутечки помогать разным б…м!
– Це я, б…дь?! – Заревела волчицей, Верка. – Да я… по сравненію с тобою… У мене чоловік на фронті погиб! Рiдну матiр німці застрелили! А ты?!.. Шалава! Да я, тебе, счас! – С этими словами, она вцепилась руками за Нюркин пуховой платок, и стала выволакивать ее с машины.
Платок затрещал, Нюрка – заверещала нечеловеческим голосом; машина – дернулась с места…
Под утро, под Симонишиным двором, тормознул «черный воронок». В будке уже сидел арестованный Сашка…
Верке, дали несколько минут на сборы. Успела только отвести свою буренку к соседям; туда же, к родственникам погибшего мужа, отправила и свою пятилетнюю дочь. Сговорчивый районный суд, быстро довершил картину полного погрома. Жениху Сашке и дружке Верке – «за хулиганство» – впаяли: солидные, тюремные сроки.
5
Сидя в Харькове, в пересыльной тюрьме на Холодной горе, Верке советуют обратиться к Председателю ВЦИК, Михаиле Ивановичу Калинину. Рассказ о перипетиях ее сиротской доли, тронул сердца даже бывалых зэчек. Мать ее, бригадиршу во время войны, немцы отправили в концлагерь за слова, обращенные к молодежи, которую те агитировали ехать на работу в Третий Рейх: «Не їдьте туди, там вам буде плохо…», – эти слова, стоившие матери жизни, запали в душу Верке, на всю оставшуюся жизнь.
До войны, Верчина мать, была стахановкой, – «пятисотницей», – так называли свекловодов, достигших рубежа: в пятьсот центнеров свеклы с гектара.
Среди заключенных, постоянно циркулировали легенды, что «Всесоюзный староста» помогает жертвам произвола начальников. Тут же ей помогли составить необходимое письмо.
А тем временем «столыпинский вагон» уже вез ее дальше на восток. Долго пробыла в Красноярской пересыльной тюрьме.
Только через полтора месяца, попала этапом на Колыму. Ту, самую каторжную, описанную Варламом Шаламовым в своих знаменитых рассказах.
Молодую, работящую украинку, лагерное начальство пристроило присматривать за своими поросятами. Все успевала сделать; и даже больше. В свинарнике всегда порядок; чистота. Успевала даже дорожки песочком притрусить…
Наблюдая за ее умелыми действиями, бригадирша однажды сказала:
– А ты, Веро, раньше меня домой попадёшь!
Сердце узницы ГУЛАГа екнуло от предчувствия скорого освобождения. Ведь бригадирше, – Вера знала, – оставалось, находиться в заключении, меньше месяца. Свой длинный, десятилетний срок, она "доматывала" за то, что, в свое время, вынесла с колхозного лабаза полкило сливочного масла, чтоб накормить своих пухнущих от голода детей.
В тот же день, Верка услышала, что: она может считать себя вольнонаемной. Ее вызвали в оперативную часть, и зачитали приказ о снятии с нее всех обвинений. Срок работы на Колыме, засчитывался «в трудовой стаж».
Оказалось, что она была освобождена еще в Красноярской пересыльной тюрьме. Ее письмо тронуло сердце тому, кому оно предназначалось.