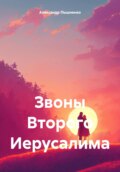Александр Пышненко
Напиши мне о галчонке. Записи на железнодорожных билетах
– Хохлушки, совсем не умеют краситься, – заявляет она, безапелляционным тоном. – После моих осторожных возражений, все еще, словно по инерции, продолжает настаивать: – Хохлушки не умеют следить за собой. У них под ногтями скапливается грязь.
В это же время, подрывается со своего места какая-то безумная старуха, закутанная в обноски, и, тыча скрюченным пальцем в потолок ободранного вагона, кликушечьим голосом, причитает:
– Люди, добрі! Гряде кінець світу! Ось, побачите!
Хочется, поскорее, добраться до Киева.
…Возле зала, в котором продаются билеты на Центральном вокзале, лежит в липкой грязи какая-то лярва. Грязная юбка заголена до самого бедра; видна обнаженная, по-лягушачьи, вытянутая нога. Люди обходят ее стороною, переступая. Рядом застыл милиционер. Седовласый ветеран, с чуть виднеющимися орденскими планками под расстегнутым пальто, стоит у книжного развала, на котором, чернеет своим темным переплетом: «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Я купил: «Это я – Эдичка!», Эдуарда Лимонова – и плетусь к выходу. С открытой двери видеосалона, вырывается наружу, гнусавый голос переводчика (крутят порнографические фильмы).
Целый день я брожу по городу, словно мультяшный: «ежик в тумане». Все это время, меня не покидает ощущение: присутствия рядом невидимого врага. Ощущение такое, будто этот город, только что, покинули свои войска, а новый Муравьев, все еще чего-то медлит с входом в обреченную столицу; смотрит в бинокль с ближайших горбов, на золотые купола ее роскошных, киевских церквей.
…Вот, я стою в самом начале Крещатика… На Киев наползают серые, декабрьские сумерки. Вижу себя, боковым зрением, возле Бессарабского рынка. Одновременно наблюдая Крещатик в разные времена года, и в протяжении долгих лет. Эта улица прекрасна была в пору моей ранней юности, в опрятной бедности времен Советского Союза. Всегда многолюдная, с как бы парящим портретом Брежнева, над смотровой площадкой перед кинотеатром «Дружба», как раз напротив Центрального универмага. После очередного награждения, картинному Леониду Ильичу, подмалевывали свежую звезду «героя». Для этой процедуры (мне представлялось, как это делается) портрет «дорогого Ильича» роняли на землю. Однажды забрелел в полуподвальную парикмахерскую на Ленина (напротив ЦУМа), чтоб снять с лица свой юношеский пушок. Одетый по последнему писку моды парикмахер, – в потертом джинсовом костюме, – ловко орудуя опасной бритвой около сонной артерии, снимал с шеи обильную пену. Вдруг, «Маяк» оборвал мурлыкающую мелодию на полуслове, и диктор, с дубовой интонацией голоса, начал зачитывать только что явившийся указ об очередном награждении «дорогого и любимого» Леонида Ильича. Парикмахер злобно протащил острие лезвия бритвы по моему горлу, так, что у меня холодок прошел по телу. Стряхнув хлопья белой пены на пол, парикмахер раздраженно спросил, обращаясь к кому-то неведомому мне: «Опять?». В глазах его, легко угадывался еще один вопрос: «До каких же пор, будет продолжаться это издевательство над здравым смыслом?».
Теперь я даже не совсем узнаю давно знакомую улицу. Чего-то ей сильно не достает. Помню, что на крыше здания Центрального гастронома, горела красными литерами большая надпись: «Слава КПСС» (что-то в этом роде).
И здесь я надоумил себя! Я вдруг отчетливо понял, что для полной узнаваемости этой улицы, не хватает кумачовой нарядности. Не единой красной ленты, транспаранта или еще какого-то лоскута; не единой жизнеутверждающей здравницы в честь Ленина или КПСС. Советский праздник закончился.
12 декабря 1992 года.
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЗАПИСЬ:
«Дебют»
На улице Саксаганского, я отыскал необходимую мне редакцию патриотической газеты, в которой только и возможен был состояться мой литературный дебют. По всем признакам (занимала отдельную трехкомнатную квартиру), она напоминала мне революционный комитет, времен борьбы за независимость 1918-1920 годов, чем настоящую редакцию газеты.
А. Л., творящий под псевдонимом «Сашко», – отвечающий в редакционной коллегии за литературную страничку, начал перечитывать наброски маленьких рассказов (отпечатанных на склеенных листочках серой бумаги, в которую завертывают пирожки возле железнодорожного вокзала города Конотопа), раскладывая их в две неровные стопки. Большую кучку, он велел автору забирать себе, а два маленьких листика, оставил лежать среди бумажных сугробов.
– Напечатаете? – Спрашиваю, затаив дыхание. –
Ти ж сам бачиш, що надрукуємо, – сказал А. Л.
…В самом начале марта, состоялся литературный дебют…
23 февраля 1994 года
ПЯТНАДЦАТАЯ ЗАПИСЬ:
«Сотка»
Сельское болото засасывает, и, если не найти твердую почву, то можно не выбраться из него, никогда. Я пять лет проживаю в богом забытом селе, Хижки, и все никак не вырвусь на оперативный простор. Мне – душно; я терплю, публикуя в Киеве мелкие рассказы.
Однажды, в автобусе, встречаю взрослую девушку, Катю. У меня сложилось подобие «тесных и дружеских» взаимоотношений с ее отцом. Он играет, незавидную роль «сельского простака», к которому больше бы подошло звание: провокатор и стукач у начальства. Он постоянно провоцирует меня на какой-то резкий выпад против местного начальства, чтоб, потом, перекрутив смысл, донести до нужных ушей. То, что он первым подавал руку, при редких встречах, тогда как другие прятались и перебегали на другую сторону улицы, – лишь подтверждало мою, конспирологическую версию.
Я позволяю нести ему нести всякую несусветную агентурную чушь. Он на полном серьезе говорил мне, что видел собственными глазами Максима Черновола, – оппозиционного лидера, – на котором висело, накинутое, кожаное пальто с плеч самого Адольфа Гитлера. Что без России: “Все хохлы передохнут скоро с голоду”.
Иногда он озвучивает свое желание, чтоб я написал о нем статью в районную газету:
– В мене німець стреляв з автомата. Пулі просвистіли над самою головою!
– Чем-то, видать, допек-таки, немчине? Человек, видимо был поставлен охранять какой-то склад с оружием? – Отшучивался я, в ненавязчивом разговоре.
Иногда он рассказывал что-то правдивое о моем отце, чтоб втереться в доверие: – Він безобидна людина. Він нікому не робив зла. – Это звучало как отголоски, обычной сексотской возни, вокруг имени моего отца. Сексоты, после первых публикаций, пытались как-то осадить меня.
Он рассказывал мне: как еще мальчишкой просился на фронт, приписав себе год от рождения. Служил во вспомогательных войсках (возможно, в трофейной команде?). Его голова разминулась со снайперской пулей, лишь, на какое-то мгновение.
…С его молодящейся дочерью Катей, мы доехали, тогда, до Конотопа. Ей, недавно, перевалило за четвертый десяток. Тщательно скрывая, старившие ее глаза, за темными стеклами очков; она рассказывала о киевском фестивале на Співочому полі возле стен Лавры, который ей очень понравился.
– Мне очень понравилось! – подытожила она свой рассказ.
«Неисправимый ты романтик, Катя». – Подумалось мне.
Катя, медсестрой, прошла войну в Афганистане. Получив, в виде трофея, за свое романтическое приключение, однокомнатную квартиру в Киеве. Катя рассказала, что работает в столичной поликлинике. Она дала свой киевский адрес.
Я рассказал ей, что, изредка, бываю в Киеве. Хожу по редакциям. Я пообещал ей, что наведаюсь к ней, как только соберусь в гости.
…В детстве, сельская детвора, знала ее, как «Сотку». Этому предшествовала какая-то, совершенно, нелепая история: замешана на потери девственности. Виной всему стал ее взбалмошный отец, который не смог смириться с этим неизбежным для девушки обстоятельством. Он, настойчиво, обвинял О., в причастности к этому делу. Тогда, как по причине давно совершенного деяния, найти настоящего виновника, не представлялось возможным. О., получил лишь штраф: сто рублей – «сотку». Возможно, что Катя, убоявшись ответственности, наговорила на живущего по-соседству, не совсем здорового, на голову, парня?
По складу ума, Катя росла мечтательной натурой. У нее были какие-то эксгибиционистские наклонности. Она любила, нагишом купаться в укромном озерке. Сельская детвора, знала это живописное место: заросшее густыми зарослями лоз. Там купались взрослые женщины, нагишом. Сотке это, очевидно, давало какой-то дополнительный стимул. Она слышала, за своей спиной, озабоченную возню ребятни. Отвечала на это изящным полуоборотом, словно позировала для фотографов. На ее симпатичном личике, тогда блуждала загадочная ухмылка.
Однажды, чтоб получить более объемную картинку, в летний зной, я забрался в самую гущу лоз (занял позицию как раз напротив того места, где купались обнаженные женщины). Лозы были густые: пролезть по ним, не наделав шума, было немыслимо. Мне хотелось, увидеть Сотку. Просидел там почти до вечера, наблюдая за хороводами водомерок и жуков-плавунцов. Вечером, я увидел девушку. Это была не она. Девушка стояла на берегу: о чем-то задумавшись. К ней подошел парень… Возможно, что юный вуайерист, смог бы обогатить свою память чем-то большим, чем наблюдение лобка или голых ягодиц. Но, у него, запершило в горле. Сколько, я не кусал себе руку, спазм не проходил…
…На столичном вокзале, автор купил розу и шампанское (бутылку водки, прихватил на всякий случай). Без особого труда, отыскал высотку на Севастопольской площади. Какая-то женщина, нагнувшись, убиралась на лестничной площадке. Как найти квартиру №??? – Спрашиваю.
Это была Катя. Без макияжа, – я не признал ее. Чем очень обидел ее.
– Ты поставил меня в неловкое положение. Я не хочу, чтоб нас видели соседи. Мне здесь жить. Давай расстанемся, пока! – Сказала она, пятясь к дверям собственной квартиры.
Я лепетал что-то насчет редакции. Чтоб попасть туда, надо было где-то переночевать. Я просил, словно по-инерции, понимая, что пришел не вовремя.
…Мы сидели на кухне. Она по-хозяйски распределяла привезенную мною провизию. Рыбу – вынесла на балкон. Вырезку – положила на подоконнике. При нищенской зарплате медсестры, ей жилось в столице, мягко говоря, не очень.
– Живу я скромно, в однокомнатной квартире, – рассказывает она о себе, когда немножко успокоилась: – Я дам тебе переночевать. Потом, мы оформим наши отношения, и все будет по-иному. Можешь заниматься литературными делами. Я не буду мешать. Мне уже за сорок. Да и ты уже, не мальчик. Вон, – лысина пробивается…
Напоминание о пробивающейся лысине, почему-то, окончательно уничтожает остатки далеко не ангельского терпения. Пропадает всякое желание оставаться на ночь. О, чем я и заявляю.
– За привезенные продукты, расплатится отец. Он принесет молока. – Словно сквозь сон, пробиваются ее слова. – А теперь, – уходи!
Я выхожу, в распахнутую настежь дверь. Следом за мной, летит газета «Спортэкспресс». – И газету свою забери! – Вопит Катя, не боясь соседей.
…Скоро (я узнаю), Катя попалась в сеть какого-то брачного афериста. Продав свою квартиру, она отправилась жить с ним, в Южную Пальмиру.
…Финал, вполне, в духе времени. Оказавшись без крыши над головой, она выбросилась из окна многоэтажного здания.
27 декабря 1997 года
ШЕСТНАДЦАТАЯ ЗАПИСЬ:
“ Мошенники”
Около десятка лет, я живу в забытом богом и людьми, небольшом сельце Хижки, что под Конотопом. Иногда я выбираюсь в столицу, чтоб показать результаты своих творческих потуг. Поискать работу.
Чиновники не дают мне спокойно жить в селе. Я уже пережил несколько судов и бандитских нападений.
Поэтому, я, иногда, отправляюсь в столицу, чтоб показать им свою: “кузькину мать”. Это помогает мне выживать.
В начале одного июня, киевляне и гости столицы могли наблюдать такую картину: по Крещатику, топает какой-то гражданин средних лет (это: я), в черном костюме и белой кружевной рубашке. В руке – большой дипломат. В нем, кроме рукописей, кипа отписок от высокопоставленных мошенников.
На углу улицы Городецкого (вход в подземный переход, в так называемую «Трубу»), уличный мошенник, разыгрывает сценку: эффектно поймал, якобы выброшенную из проезжающей машины, пачку долларов! Потрясая, папушею американских долларов передо мной, сказал: – Выбросили из проезжающего джипа!
– Поделим? – Спросил, когда нога уже занесена над первой ступенькой.
– Делим! – Кричит мошенник, погнавшись за мною.
Я не стал останавливаться. Суть это мошенничества: «лоха» заманили бы в укромное место, где его (с подельником) нашел бы «хозяин» долларов (скорее всего: «куклы»: настоящие купюры – сверху и снизу). Мошенник скрылся бы с деньгами, а лох должен будет возместить все потери.
…В «кадровом агентстве», тоже работали мошенники. Они выписывали адреса фирм, и отправляли туда приезжих, не неся никакой ответственности.
..,В Дарнице, на меня напала толпа. Мошенники “сработали под контролеров”. Не успел я войти в салон трамвая, как оказался в их окружении: Плати, иначе загремишь в милицию! Чтоб доехать до села, мне пришлось брать деньги взаймы, у племянника.
– Таких «кондукторов», тысячи стало. Выходят из тюрем, и начинают обирать приезжих. Киевляне, те, дают сдачи. Их не трогают. – Выслушав о мошенниках, говорит мне женщина, с которой мы стоим на перроне Северного вокзала, и обсуждаем наперсточников, которые, тут же: “крутят наперстки”.
20 мая, 2004 года.
СЕМНАДЦАТАЯ ЗАПИСЬ:
« Литературный папаша»
Молодые люди склонны переоценивать свои больше чем скромные литературные возможности. Хотя, вне всяких сомнений, вера в свою исключительную талантливость, очень помогает начинающему литератору. До тех пор, пока он не поймет, что зашел слишком далеко, и уже нет возможности повернуть назад. Литература, укоренившиеся в его существе, глубокими метастазами, не оставляет иного выбора. Ее будут питать, сладкие мечты о славе (честолюбие). Если все это умножится на недюжинную работоспособность, то, в отдаленном будущем, что-то должно сработать. До этого, лишь яркие вспышки вдохновения, будут подменять, такую необходимую, мастеровитость.
Ощущение легкости письма, иногда изменяет начинающему автору. Слова смотрятся лениво в написанной строчке, делая неостроумным даже то, что еще недавно, казалось смешным. Только уверенность в будущем, заставляет вести эту многотрудную работу. …И вот, спустя 10 лет, попав в сложные житейские обстоятельства, когда понадобилась опора для борьбы с чиновниками, – я, не нашел ничего иного, как снова заглянуть в ту же редакцию (на улице Саксаганского, 61), в которой опубликовал первый рассказ.
За эти десять лет, добавилось революционной неустроенности. Половину редакции, занимал, салон красоты «Ярославна». (Сдавать квадратные метры в аренду, в самом центре столицы, оказалось, выгоднее).
Меня здесь, откровенно, не ожидали…
С. Л., под чьей редакцией, увидел свет мой первенец, небрежно спросил:
– Чимось займаєшся?
– Выращиваю клубнику. – Ответил я.
– То принесить більше користі, ніж література. – Сказал, литературный папаша.
20 мая 2004 года
ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЗАПИСЬ:
“Оранжевый Майдан»
Меня не надо было дважды вызывать на " Майдан". Даже если бы не эти дикие обстоятельства, в центре которых я невольно оказался в последнее годы своей жизни в забытом Богом и людьми селе, – где меня разве что дустом не травили, – я б все равно отправился в Киев, делать эту замечательную революцию. Тем более, что в этом убогом селе, я постепенно прошел все стадии духовного и творческого возмужания, и был внутренне готов к подобного рода мероприятиям патриотического характера.
Во мне, в то историческое время, настоялась на ненависти, довольно-таки градусная закваска, которая рано или поздно должна была побудить меня, выступить настоящей войною против самого отвратительного режима: кормления сексотов. Меня постоянно тянуло в открытый бой; подмывало стать с ними лицом к лицу; ибо они всю мою сознательную жизнь, действовали из-за угла, – из под тишка, – действуя грязными щупальцами. Самое гнусное отребье, в виде гопоты в подворотнях, охотилось на меня. Расплачиваясь с ними, сексоты раскурочивали экономику державы. Самые завалящие гниды, прислуживали им.
…И вот – меня зовут на Майдан! Какое счастье! Сражаться в открытом бою! Делать настоящую революцию! Как же не воспользоваться таким подарком судьбы? Да я, – мигом! Не каждому творческому человеку в жизни выпадет такая счастливая судьба! Это же просто, нельзя лучше было и придумать!
Моей естественной ненависти ко всем этим власть имущим бандитам и прочим сволочам, нашлось в этот момент очень надежное применение.
Я сказал тогда, больной и практически уже не ходящей матери, которая стоически переживала этот сложный период в жизни:
– Я тоже поеду в Киев… Если не я, – то кто же? – Последние слова прозвучали, совсем не риторическим вопросом. Так думали многие, кому была дорога Украина.
– Їдь, – сказала мать, старая учительница.
Целый день, я готовился к своему отъезду. Наносил на кухню воды и дров. С погреба натаскал картофеля и капусты. Закупил, на несколько дней, хлеба. Открыл банки с салом и разносолами.
Я не знал, на самом деле, сколько дней продлиться вся эта историческая свистопляска в столице. Дня-три, я думал, что продержусь в Киеве.
Утром, 23 ноября, я был на остановке, и ждал рейсового буса. В туманной серости и сырости, рождающегося в холодных муках нового ноябрьского дня, угадывались силуэты стоявших на автобусной остановке колхозников. Большинство из них, спешили на базар. Некоторые из них, – таких как сплетница, Мацэдунша, которую очень активно использовали гебнявые в деле: распространении клеветы и измышлизмов, – «вышли побеседовать», – а точнее: собрать какие-то новые инсинуации. Скорее всего, она ожидала ответной реакции на слухи, которые запустила накануне. Обычно, проходит дня три, пока сплетни обойдут село вдоль и в поперёк, обрастая, как днище корабля моллюсками, тяжелыми словесными испражнениями гебнявых холуев и их подстилок.
Многих из них, узнаю только по голосам. Как всегда много выступает Петро. Он, не из местных, – но очень старается, чтоб выглядеть: как все. Он пытается попасть в струю «общественного мнения», поскольку только в этом видит реальный шанс закрепиться в этом селе. Это делает больше его жена. Скоро его посадят, по модной в то время статье «педофилия». Он приютит двух сироток, выплаты на которых, станут причиной, закрыть его надолго на зоне.
Пока внимание сексотов нацелено на меня, ему частично удается, держать внимание колхозных увальней в своей орбите. Петра, даже, пытаются использовать в качестве дешевого провокатора.
После того, как его свекор пропил в областном центре квартиру, он живет, с молодой женой, на самом краю села. Держит двух коров, – и возит, поутру, на базар в Конотоп, – продает молоко.
Всех волнуют события, происходящие на Майдане в Киеве. Петя, пугает “майдановцев” – небесными карами.
– С Донбасса приедут шахтеры, – уверенным голосом, выступает провокатор: – всем “майданутым” понабивают морды. На этом всё и закончится.
Он, явно, выдает желаемое всеми за действительное – то: что от него хотят услышать.
– Можно бонбу кинуть! – Звучит чей-то голос.
Стараюсь: это не слушать. (Пропаганда сексотов, делает черное дело). Пытаюсь сосредоточиться на предстоящей поездке. Еще предстоит: битый час трястись в бусе по разбитой дороге до самого Конотопа. А это – целых 42 км не самой лучшей дороги! А, потом, – три с половиной скучных часа, в электричке.
Показалось маршрутное такси.
Ближе к Конотопу, тряский " бусик", наполняется базарными бабами. Они тащат в Конотоп все, что дало им натуральное хозяйство. Так было и десять, и двадцать лет назад.
Я не знаю, сколько лет этим бабам. Может 60, а может – и все 100 лет! Сколько себя помню, они были такими. Всегда в неизменных фуфайках и бурках. С морщинистыми и простыми лицами. Кожа на руках землистая, потресканная; их ногти, похожи на «копаницы», – так любила выражаться моя покойная бабушка Танька.
«Это оттого, что рук никогда не моют», – думаю теперь я. Сколько себя помню, они продавали на базаре: чеснок, сало, молоко, сметану, цибулю…
Эта, нехитрая провизия, целую эпоху, упакована в сплетенные с рогожи сумки. (Здесь я пытаюсь заполнить себя зарисовками с провинциальной жизни).
…В электрике – будничная атмосфера. Здесь торгуют коробейники. Они прочно оккупировали вагоны; таскают взад и вперед свои сумки. Пиво, минералка…
До самого пригорода столицы, ничего не напоминает о той революции, которая разворачивается на Майдане. Покупаю в дороге – килограмм колбасы и батон хлеба.
В районе Дарницы появились первые напоминания о том, что где-то происходят революционные события. На заборах появились: соответствующие надписи.
Вот по тропинке, прошли молодые люди, перевязанные оранжевыми ленточками. Некоторые в оранжевых дождевиках.
Меня начинает наполнять чувство причастия к чему-то большому и историческому. Я немного волнуюсь. Мне хочется, как можно скорее окунуться в атмосферу революционного Майдана.
На Пригородном вокзале столицы, я встречаюсь с революционерами – людьми: с оранжевыми ленточками и флажками. Они раздают революционную атрибутику.
В здании Пригородного вокзала, знакомлюсь с кучкой революционной молодежи. Свисающие с одежд оранжевые ленты, делают их похожими на экзотических шаманов.
– Можно взять у вас хоть одну ленточку? – Спрашиваю у них.
– Езжайте на Майдан. Там вам выдадут. – Отвечают.
Захожу метро. По эскалатору, наверх течёт оранжевый поток. Многие возвращаются с Майдана. Одеты в оранжевые дождевики.
Вот и вздыбленный, Майдан. Огромная чаша площади, запружена возбужденным народом. Сколько нас здесь всех собралось? С ходу не определить… Сто тысяч? А может и на весь миллион потянет?..
Есть ли смысл считать поднявшийся на борьбу, против власти негодяев, народ?
На подсвеченных революционным огнем, лицах, играет торжество причастности к чему-то большому, историческому. Возбужденные лица, говорят сами за себя. Они светлы, словно освящены светом молодой Авроры. Это – не пафос. Это – реальность. Майдан встречает меня несмолкаемым гулом встревоженных голосов.
Трепещут на ветру оранжевые стяги. На них написаны названия городов и сел моей милой родины. Здесь я впервые почувствовал себя причастным к чему-то грандиозному.
Жил на свете один человек; привык обходится собственными силами. А попал на Майдан – и: офигел. Таких, как он – миллион!
– Разом, нас багато – нас не подолати! – Скандирует многоликая толпа. – Юща! Юща! – Ревет в едином порыве.
На огромной сцене артист (Онищук), озвучивает революционные декреты. Толпа, во многом послушна этому голосу; ведет себя удивительно дисциплинированно. Словно бы понимая, что по-иному – нельзя.
Нас предварительно разбивают на несколько колон. Мы движемся по определенному маршруту. Поднимаемся по Грушевского. Шествуем мимо: Кабинета министров… Мимо: Верховной Рады… Сворачиваем на Шелковичную… Над нашими колонами, реют революционные знамена. На каждом человеке – оранжевые ленточки. С многих окон, приветствуют люди. Клаксонят в такт, мимо проезжающие автомобили; на многих национальные знамена и оранжевые ленточки.
Мы движемся, в тесном пространстве, между роскошными иномарками. Возле одной из них задержался патлатый молодой человек.
Кто-то узнал в нем известного вратаря «Динамо».
– Шовковский! – Понеслось в колонне.
– Присоединяйся к нам!
Вратарь сборной Украины по футболу – тут же заулыбался, и скорее юркнул в свою иномарку.
Мы обходим по периметру весь центр Киева. Как бы демонстрируя кому-то невидимому свою большую, нравственную силу. Мы находимся в полной уверенности, что за нами наблюдают стены этих правительственных зданий, мимо которых мы в это время проходим. На окнах и балконах, многих из них, вывешены государственные флаги с завязанными на них оранжевыми ленточками. Я думаю, что за нами, затаив дыхание, смотрит и весь остальной мир. Мне хочется, чтоб так было. Дождался же, я: на своей улице праздника.
Вечер. Майдан кипит, как огромный котел. На трибуне появились вожди революции. Ющенко, Луценко…
Они – вожди революции. Рядом с ними стоят известные на весь мир владельцы чемпионских поясов: братья-боксеры Кличко.
Все жадно слушают выступления. Хочется верить, что ложь навсегда выхолащивается из политики. Вожди и народ, пока что, едины. Юща встречают долгими, несмолкаемыми овациями.
– Ющ! Ющ! – Луженой глоткой, кричит толпа.
Политики уходят. На сцене появляется Руслана Ложичко, – победительница конкурса "Евровидения". Дает здесь настоящий концерт. Она объявила голодовку! (Хотя, выглядит она вполне упитанной). На всю мощь звучат, ее импрессивные: " Дикі танці". Весь наэлектризованный революционнымМайдан, своим порывом, собрался возле ее ног.
Я, заражаюсь чудесной энергетикой.
Рядом, вовсю, веселится какой-то заросший бородатый бродяга. На голове у него малинового цвета берет. Он бросил под ноги свою котомку. Когда он оборачивается ко мне, его морщинистое лицо выражает крайнюю степень возбуждения. От него несет мускусным запахом зассаной подворотни. Наблюдаю его лицо, крупным планом: гусиная кожа, нос картошкой. Он, вихляясь, все время гримасничает!
Миг, в истории пробудившегося от векового сна народа! Танцуй, танцуй " бомжик"! Пришло, наконец, и твое время! Ты равный со всеми! Здесь тебя накормят и напоят сердобольные киевляне. Они принесут на Крещатик еду и крепкий чай! Они принесут сюда тёплые вещи! За тебя беспокоятся олигархи, которым потребовалась твоя помощь! Танцуй и кушай вместе со всеми! К ритму твоего сердца, прислушивается весь мир!
…Спускаюсь в " Глобус". В какой-то кафэшке, беру свободный стул. Я, сильно устал. Мне хочется, лишь немножко отдохнуть. Меня обволакивает липкий сон. Очнулся, довольно-таки, скоро. Кто-то тормошит меня и просит, чтоб я освободил стул. Уже поздно. Кафе закрывается.
Я, снова возвращаюсь на Майдан… Там, относительно тихо. Желающих просят отправиться отдыхать в Украинский Дом.
Украинский Дом – штаб революции. Возле окна, сидит мужик в белой шапочке из "Народної варти"; глядит в окно, чтоб с этой стороны никто из посторонних не ворвался в здание. Хочу с ним побеседовать. Он просит меня отойти. Боится провокаций? Нет?
Просто: ответственно несет свою службу. Эти " стражи революции" живут в огороженных местах " Украинского дома". У них настоящая армейская дисциплина. Они несут охранную службу, во время митингов. Я не пробую прибиться к ним; дома ждет больная мать. Я иду туда, где вповалку спят рядовые бойцы революции. Нахожу место под развернутым транспарантом " Львівська політехніка". Пытаюсь уснуть, чтоб утром выглядеть свежо.
Сквозь сон проникают чьи-то приглушенные голоса:
– А «наша» Руслана так їм каже: " Мене знає весь світ! Я – оголошую їм голодівку! ". – На этих словах, меня и настигает тревожный сон, революционера.
Я просыпаюсь от неприятных ощущений. Меня начинает морозить. Днем, я очень промочил ноги. Я иду вниз: к кучам нанесенной киевлянами одежд. К счастью там выдают новые носки…
Иду бродить, по опустевшему Майдану. На Крещатике, покрытом палатками, киевляне раздают горячий чай и бутерброды. В очереди, встречаю молодого москвича. У него подбит один глаз. В руках бутылка коньяка. После недолгой беседы, он предлагает мне: допить ее.
– Какими судьбами? – Спрашиваю.
В ответ, он несет что-то невнятное. Что-то типа, что вряд ли в России ему удастся пережить что-нибудь подобное: вот и приехал – поучаствовать.
Возвращаюсь назад в Украинский Дом. Место уже занято. Ложусь, где придется. С лежащими, вповалку, людьми. Сон, окончательно, покинул меня. Зато явился тот, на чьем месте, я нашел себе пристанище.
– Где-то здесь лежала моя шапка? – Ворчит, пришедший. Я, становлюсь, причастным к его возне. По его голосу, заключаю, что он – пьян.
«Голову б ты свою потерял!», – думаю, я. Собираюсь уходить; ибо, этот пьяный тип, все равно не дает мне покоя, своим бурчанием. У него, тупое лицо колхозника, с застывшим дубовым выражением.
" Уж не ошибся ли он лагерем? " – Задаю себе справедливый вопрос.
– Мог бы дома жрать свою водку! – Сказал я, перед тем как уйти.
Тот, сразу же упал на “мое" место.
Второй день: Майдана.
Целый день мы блокируем Кабинет министров. Его охраняет горстка солдат. Вооруженные люди, постоянно меняются. Во дворе Кабмина стоят автобусы со спецназом. Нам приходится ходить греться в " Украинский дом".
– Вас с Рязани сюда прислали? – От скуки, задаю провокационный вопрос офицеру.
Смеется.
– Неее! Мы не с Рязани, – мы, свои, украинцы! – Отвечает, воин.
– Знаем, какие вы украинцы. Вся Украина нынче с революционерами. А с кем вы? – Вопрос звучит, резонно.
Выглядим уверенно в своей правоте. Офицер улыбается немного виноватой улыбкой.
Долго тянется время. Команды на штурм у нас нет: " Боятся, что ли, командиры, чужие изорвать мундиры"?
Над нашею организованной толпой, по-прежнему реют желто-синие знамена с начертанными на них названиями городов и сел. По ним можно писать учебник истории революционной страны. Ветер листает его страницы. Уходит еще один напряженный день. Тревожный день ожидания, общей победы. Теперь у меня есть постоянное место в Украинском доме. Туда перекочевали все мои вещи. Я сушу здесь обувь и одежку.
На третий день, возле стадиона " Динамо", мы ждем прибывшие в Киев для разблокирования Кабинета министров и " наведения шороха" донецких " шахтеров". Там – штаб " контрреволюции".
Спокойно переговариваемся с их " стражниками". Спорадические споры возникают то тут, то там. Нас разделяют только цвета прикрепленных на одежду ленточек. Кто-то из "наших", подзывает меня к небольшой толпе спорщиков.
– Вы только посмотрите на него? – Задает он вопрос кому-то из контрреволюционеров, показывая на меня. – Разве люди, с такими одухотворенными лицами, способны на что-то плохое?
Вдруг все вокруг зашевелилось и тут же приняло вид боевого порядка: «Идут!». Вверх, по Грушевского, сплоченными рядами, поднималась огромная масса людей: под бело-синими знаменами.
Сбоку припекой к ней реяли стяги какой-то непонятной, малиновой расцветки. Они врезались в наше оранжевое море; в надежде сотрясти нашу твердыню.
Затрещали – наши и их – кости. Мы стали для них: несокрушимой стеной. Их колонна, скользнув по нашей стене, ушла в сторону стадиона " Динамо".
Предо мной, как в кино, промелькнули пьяные, – искаженные злобой, – лица каких-то донецких бандюков. Они ехали к нам полные решимости стереть нас с лица земли; всю дорогу, видать по лицам, сосали дармовое пойло. Не вышло. Никто их уже не боялся. На что они, посему, видимо рассчитывали. Слишком сильны мы были своим духом.
Я возвращаюсь в Украинский дом. Это – заключительный аккорд моего участия в революции. Завтра, уеду домой. Я пробил в Киеве три дня, которые потрясли мир.
23 ноября 2004 года
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ЗАПИСЬ:
«Лавра»
Я переехал в столицу, когда убедился, что в селе оставаться: небезопасно. Первую ночь, я провел на скамейке, возле разбитого лагеря жителей из столицы шахтерского края Донецка, присланных сюда, защищать пророссийского жулика. Напротив окон Кабинета министров, – на растяжке: требование его немедленного освобождения.