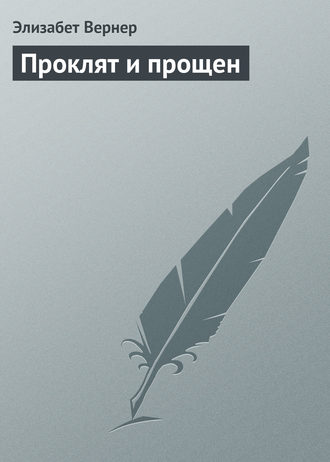
Элизабет Вернер
Проклят и прощен
Сначала долго и оживленно говорил Пауль, но ответы молодой женщины, по-видимому, охлаждали его пылкое красноречие, так как он становился все молчаливее. Потом заговорила Анна; она тоже говорила долго и убедительно, сдерживая страстные объяснения своего спутника, так что он наконец совершенно умолк и стоял неподвижно, устремив взор в землю. Последовала короткая пауза. Затем Анна подала ему руку, и Верденфельс поднес ее к своим губам; молодая женщина повернулась и пошла домой.
Лили догадывалась о том, что произошло между ними, хотя барон не был во фраке и не привез букета; она не хотела показаться ему и осталась на прежнем месте. Но Пауль пошел кратчайшим путем, который привел его к оранжерее. Он шел очень медленно, и его красивое лицо, незадолго перед тем сиявшее счастьем, было бледно и носило отпечаток страданий, так что Лили забыла свое намерение. В эту минуту она вела себя совершенно как ребенок, и даже не сознавала, что поступает бестактно, идя к нему навстречу и заговорив с ним.
– Господин Верденфельс, что с вами? – с тревогой спросила она.
Пауль вздрогнул от неожиданного вопроса и провел рукой по глазам.
– Простите, – поспешно сказал он, – я не видел вас; мой экипаж дожидается меня. Засвидетельствуйте мое почтение вашей сестре. – Он намеревался уйти, но глядевшие на него ясные карие глаза были так печальны, полны такого участия, что он попробовал улыбнуться. Это не удалось ему, и он лишь произнес: – Простите, что я так спешу, но право я не могу здесь оставаться.
– Наверно моя сестра причинила вам какую-нибудь неприятность? – робко спросила Лили.
Губы молодого человека болезненно дрогнули.
– Да, и даже большую. Она и сама не знает, какую боль причинила мне.
– О, да, Анна бывает иногда жестока, – тихо заметила Лили.
– Не говорите так, она была бесконечно добра ко мне. Не ее вина, что я ошибся, – покачал головой Пауль и вдруг быстро добавил со страстной скорбью: – Но я не перенесу, если у меня отнимут всякую надежду. Я лишу себя жизни!
– Господи Боже! – воскликнула перепуганная Лили. – Не делайте этого, барон! Анна всю жизнь не имела бы покоя, если бы стала причиной вашей смерти, да и я также…
– На что мне такое существование без участия и надежды? – страстно воскликнул Верденфельс. – К чему скрывать от вас истину, которую вы знаете? Да, я люблю вашу сестру, люблю всем сердцем и не могу жить без нее. Я застрелюсь!
Хорошо, что обоих скрывала оранжерея, где их никто не видел, потому что Лили начала горько плакать, в самых трогательных выражениях заклиная барона не предаваться таким мрачным мыслям.
– Может быть, Анна говорила это несерьезно. Она забрала себе в голову остаться вдовой и, может быть, – нет, даже наверное, – переменит свое решение.
– Вы считаете это в самом деле возможным? – спросил Пауль, у которого опять явился проблеск надежды.
– О, наверное, – уверенно заявила Лили, в своем страхе допускавшая всякую возможность. – Я поговорю с сестрой, опишу ей ваше отчаяние, употреблю все свое влияние, только отбросьте мысль о самоубийстве!
По-видимому, Пауль еще не отказывался от этой мысли, он все еще был в отчаянии, но его голос звучал уже спокойнее, когда он возразил:
– Благодарю вас, милая фрейлейн! О, конечно вы имеете влияние на сестру; она мне сказала, что не питает ко мне нерасположения, но что больше не выйдет замуж. Пожалуй, еще можно поколебать это решение, если я могу рассчитывать на ваше ходатайство и на вашу поддержку…
– Можете! – подтвердила Лили, торжественно поднимая руку. – Я употреблю все силы ради вас и вашей любви.
Молодой чело век с благодарностью пожал маленькую ручку, но ему не пришло в голову поднести ее к губам.
– Но как же я узнаю результат вашего ходатайства? – спросил он. – Разумеется, я не могу больше приезжать в Розенберг, пока у меня не будет хоть маленькой надежды.
Лили несколько секунд подумала, а затем ответила:
– В будущее воскресенье мы поедем в Верденфельс навестить нашего двоюродного брата, пастора Грегора. Не можете ли и вы прийти в его дом?
– Нет, – серьезно ответил Пауль. – С тех пор как я узнал, какие отношения существуют между пастором Вильмутом и моим дядей, я не могу бывать в пасторате. Но вы, может быть, опять отправитесь на прогулку в окрестности деревни, и, пожалуй, мы могли бы встретиться, как тогда, у замковой горы.
– Возле орешника! – радостно сказала Лили. – Это прекрасная мысль. Около полудня я буду там, только обещайте мне, что до тех пор вы не лишите себя жизни.
– Хорошо, я еще подожду некоторое время; может быть, еще не все потеряно, – и Пауль, еще раз пожав руку своей новой союзницы, направился к ожидавшему его экипажу.
После его отъезда Лили вернулась домой в приподнятом настроении, занятая своей миссией. Она стала вдруг, как ей казалось, лицом, на влияние которого рассчитывают и которое приняло меры для предупреждения самоубийства. Девушка уже более не сомневалась, что ей удастся растрогать сестру: ведь молодой барон хочет застрелиться, если она не изменит свое решение. Было, однако, просто удивительно, какую волшебную власть имеет Анна над мужчинами, что они все без исключения влюбляются в нее. В одно утро ей были сделаны предложения двумя лицами, и она не нашла ничего лучшего, как обоим отказать. Лили считала, что как земные блага, так и предложения распределены неравномерно: одно из них должно было бы достаться ей, младшей сестре.
«Конечно, второе», – мысленно прибавила она.
Глава 9
На следующий день утром Раймонд Верденфельс стоял у окна в своем кабинете. Зимний день уже начался, но солнце не показывалось. Несмотря на то, что небо было серо, в неприветливой дали ярко и отчетливо вырисовывались очертания «предсказательницы бури» – вершины Гейстершпица; нависшие облака также предвещали непогоду. Раймонд опять смотрел на белую вершину, но не с обычной усталой задумчивостью: сегодня в его взгляде было что-то мрачное и тревожное. Беспокойство обнаруживалось во всех его движениях, когда он, скрестив на груди руки, ходил взад и вперед по комнате; потом он подошел к столу и нажал кнопку звонка.
– Попросите ко мне господина Верденфельса, – сказал он вошедшему слуге. Тот хотел удалиться, чтобы исполнить приказание, но у самой двери барон остановил его вопросом: – Мой племянник, вероятно, был вчера в Бухдорфе?
– Нет, ваша милость; насколько мне известно, молодой барон ездил в Розенберг; по крайней мере, туда был заказан экипаж.
Раймонд ничего не ответил и сделал слуге знак удалиться.
– Я так и думал, – прошептал он. – Пауль не хотел терять ни одного дня.
Десять минут спустя в комнату вошел Пауль. По-видимому, он ночью мало спал – он был бледен, утомлен и тщетно старался выказать обычную непринужденность в тоне и обращении. На всем его существе лежал отпечаток уныния. Ясно было видно, что полученный вчера отказ поразил его в самое сердце.
Раймонд также заметил эту перемену, но не ждал никаких объяснений, и его голос звучал необыкновенно кротко, когда он спросил:
– Я не помешал тебе своим приглашением? Еще очень рано.
– О, нет, я уже встал, – ответил Пауль, – но меня удивило, что и ты уже на ногах. Ты ведь привык спать до полудня, так как страдаешь по ночам бессонницей.
– Да, это несносная привычка моего одиночества, – ответил Раймонд. – Я чувствую, что она расстраивает нервы, и в последнее время пробовал бороться с нею.
Пауль с удивлением смотрел на дядю: в первый раз он услышал, что тот высказывает намерение бороться против чего-нибудь. До этих пор он безвольно поддавался своим настроениям и склонности к мечтательности. Молодой человек с первых слов понял, что странное раздражение дяди против него исчезло. Раймонд опять выказывал прежнюю благосклонность, и теперь даже не был таким холодным и равнодушным, как обыкновенно. Он поинтересовался впечатлением, которое произвело имение Бухдорф на своего нового владельца, и Пауль старался проявить живую заинтересованность, являвшуюся для него единственно возможным способом выразить свою благодарность. Но светлое счастливое чувство, с которым он еще вчера утром думал о своем собственном имении, исчезло вместе с надеждой ввести туда молодую хозяйку. Однако он подробно рассказал о посещении имения и о разговорах с арендатором.
– Ты был совершенно прав относительно моего переселения, – сказал Пауль. – Я останусь в Фельзенеке до того времени, если ты ничего не имеешь против.
Раймонд окинул его испытующим взглядом и спросил:
– Ты думаешь прожить здесь всю зиму в уединении? Это довольно смелое решение для такой натуры, как твоя. Но я, возможно, смогу облегчить его тебе. Я хочу предложить тебе… Не хочешь ли ты сопровождать меня в Верденфельс?
Пауль подумал, что ослышался.
– В Верденфельс? – переспросил он, остолбенев от удивления. – Ты хочешь уехать туда?
– Да, на несколько дней.
– Но ты не переступал порога замка со дня смерти твоего отца и вообще в продолжение шести лет не расставался со своим Фельзенеком, а теперь…
– Теперь я отменил это, – перебил Раймонд тоном, не допускавшим ни удивления, ни возражений. – Впрочем, если у тебя нет охоты сопутствовать мне, то я не принуждаю, и ты можешь оставаться здесь.
– Нет, я безусловно предпочитаю сопровождать тебя, – сказал Пауль, рассчитывая, что там, в замке, легче будет наладить связь с Розенбергом.
– Хорошо! В таком случае мы выедем в два часа, я уже вчера послал управляющему приказание приготовить комнаты. Мы возьмем только самых необходимых слуг, в том числе, конечно, и твоего Арнольда. Значит, готовься к отъезду. Я жду тебя к назначенному часу.
Молодой человек стоял, как громом пораженный, но видел, что дядя твердо решил ехать, и расспросы, и удивление только рассердили бы его. Он простился и ушел, чтобы нагнать на старика Арнольда страх приказанием быстро уложить чемодан.
Оставшись один, Верденфельс отворил стеклянную дверь и вышел на балкон. Стены башни были вплотную пристроены к самому краю скалы, и маленький балкон висел прямо над головокружительной пропастью. Порывистый горный ветер свистел в низко спускавшихся стеблях плюща, обвивавшего решетку, и обдавал холодным дыханием бледное лицо человека, стоявшего на балконе и равнодушно смотревшего вниз, в пропасть, которая в одно и то же время и угрожала, и манила к себе. Он уже давно знал очертания бездны, знал и шум потока внизу, часто манивший его с демонической силой. Но после той встречи на горной дороге в шуме потока звучало что-то другое: в нем было как будто строгое, гневное напоминание, доносившееся к одинокому мечтателю и одержавшее победу. Раймонд вдруг выпрямился, мрачный и решительный, и, словно отвечая манящему звуку внизу, сказал вполголоса:
– Последнее прибежище слабости. Я не хочу быть трусом в ее глазах!
В замке разыгралась настоящая буря, когда слуги услышали от дворецкого, что барон Раймонд едет в Верденфельс. Это было такое неслыханное, невероятное событие, что сначала этому никто не поверил, тем более, что решение было совершенно неожиданно. Сам дворецкий узнал о нем только сегодня утром, так как верденфельскому управляющему уведомление о предстоящем приезде владельца замка было послано в закрытом письме.
Спешно делались все приготовления к отъезду. Кавалькада слуг с экипажами и верховыми лошадьми была отправлена вперед в Верденфельс, дворецкий же с Арнольдом и камердинером должны были приехать позже. Общее впечатление от всей этой суматохи создавалось такое, как будто уезжали не на время, а навсегда.
Было уже далеко за полдень, когда экипаж, в котором сидели Раймонд и Пауль, спустился в долину. Ветер, поднявшийся с утра, грозил перейти в настоящую бурю и побуждал каждого поскорее искать где-нибудь убежища. Кучер изо всех сил гнал лошадей и ехал кратчайшим путем через деревню.
– Я крикну кучеру ехать через Шлоссберг, – сказал Пауль, вспомнив предостережение барона не показываться в деревне, но Раймонд удержал его за руку.
– Оставь! Я сам приказал ему ехать через деревню. Молодой человек не знал, что и подумать, – дядя казался ему сегодня непонятным.
– Ну, так поднимем, по крайней мере, верх экипажа, – попросил он. – Ветер того и гляди сорвет шляпу с головы и тебе не вынести такого порывистого ветра.
Раймонд действительно страдал от ветра, к которому совсем не привык. Дрожа всем телом, он запахнулся в меховое пальто, но голос его звучал удивительно твердо, когда он отвечал:
– Незачем поднимать верха! Мы сейчас будем в замке.
Он глубже уселся на своем месте, хотя в открытом экипаже все могли его узнать, и не глядя ни направо, ни налево, ехал, крепко сжав губы, точно поездка эта была для него пыткой.
Экипаж въехал в деревню, точно гонимый бурей, и снег вихрем взвивался под копытами лошадей, которые неслись, как призраки. Там и сям из окон домов выглядывали любопытные лица, но тотчас же со страхом отскакивали назад. Затем в окнах теснились уже по три и по четыре лица, с любопытством смотревших вслед быстро мчавшемуся экипажу. Некоторые, несмотря на непогоду, бежали к соседям, чтобы спросить, не обман ли это зрения, и правда ли, что барон проехал через деревню к себе в замок Верденфельс?
У последних домов экипаж обогнал старика, искавшего себе приюта. Он подвигался медленно, так как хромал на одну ногу. Пауль тотчас же узнал в нем крестьянина, которого он встретил по дороге к лесничему. Старик хотел было отойти в сторону и дать проехать экипажу, но вдруг остановился посреди дороги, глаза его испуганно устремились на барона, как будто он увидел перед собой приведение. Он прирос к земле и не трогался с места, хотя лошади быстро приближались к нему и кучеру пришлось круто свернуть в сторону, чтобы избежать несчастья.
Выведенный из задумчивости таким резким движением, Раймонд тоже взглянул на дорогу. Его глаза на одну секунду встретились с глазами старика, затем их разделило значительное пространство, но встреча эта, которой оба старательно избегали, видимо, произвела крайне неприятное впечатление на барона – Пауль заметил, как он нервно теребил отвороты своего пальто. Раймонд не произнес ни одного слова, но только когда экипаж проехал деревню и повернул в аллею Шлоссберга, он облегченно вздохнул.
Из дома священника никто не видел проезда владельца замка, потому что окна рабочего кабинета Вильмута выходили в сад. Это была большая низкая комната, убранная со строгой простотой. Вдоль стен, окрашенных белой краской, стояли книжные шкафы, наполненные книгами исключительно духовного содержания, а старинная, уже потемневшая мебель свидетельствовала о том, что она прослужила верой и правдой не один десяток лет. Над старомодным письменным столом висело большое и дорогое распятие, искусно вырезанное из слоновой кости. Президент Гертенштейн прислал его в дар родственнику своей жены после свадьбы. Это распятие составляло единственное украшение как стен, так и всей комнаты. Всего, что напоминало собой малейший признак роскоши или удобства, здесь старательно избегали. Вообще все в доме священника носило отпечаток пуританской строгости и простоты.
В кресле у окна сидела Анна фон Гертенштейн. Она ездила в город и так как на обратном пути должна была проезжать мимо Верденфельса, завернула в дом священника. В эту минуту она молча слушала разговор, происходивший в кабинете.
Вильмут сидел за письменным столом, а перед ним стояли двое крестьян, которым он что-то внушительно говорил. Один из крестьян, казалось, был тронут словами священника, между тем как второй мрачно и упрямо смотрел в пол. Оба молчали, почтительно слушая своего духовного пастыря.
– А теперь протяните друг другу руки! – сказал в заключение Вильмут. – В этой тяжбе вы потеряете все ваше достояние, а также душевный мир и спокойствие. Если вы не можете прийти к чему-нибудь, то я должен стать между вами, и теперь серьезно повторяю вам: помиритесь!
Тяжущиеся крестьяне принадлежали к числу самых зажиточных хозяев деревни и, конечно, никому, даже мировому судье не позволили бы говорить о своих делах таким диктаторским тоном, но от своего священника они все выслушивали спокойно и один из них, старшина общины, нерешительно отозвался:
– Если вы так полагаете, ваше преподобие… Но очень трудно сказать «да», потому что я прав.
– Так говорит каждый, – перебил его Вильмут. – Оба вы правы и в то же время неправы, поэтому оба должны уступить. Ну, а вы, Райнер?
Спрошенный никак не мог победить упрямство.
– Я хочу обдумать это, ваше преподобие, – смущенно пробормотал он.
– Чтобы в конце концов сказать «нет»? Вы должны здесь и сейчас же помириться. Неужели дело должно разойтись из-за вашего упрямства? Протяните друг другу руки!
В последних словах заключалось уже не предложение, а решительное приказание – пастор прекрасно знал своих крестьян. Старшина протянул руку, и Райнер положил в нее свою. Рукопожатие, которым они обменялись, было не особенно дружеским, но доказывало, что примирение состоялось.
– Так-то лучше, – сказал Вильмут. – А теперь заявите немедленно адвокату Фрейзингу, что вы принимаете предложенные условия. Да, вот еще что, Райнер: почему вы не хотите держать поденным работником старика Экфрида? Вы недовольны им?
При этом вопросе на лице крестьянина выразилось заметное смущение.
– Да ведь старик уже не может работать, – ответил он, пожимая плечами, – он не успевает с работой, а мне нужны здоровые руки.
– Ведь Экфрид не по своей вине попал в нищету, – сказал пастор. – Что с ним будет, если лишить его хлеба, который и так достается ему с большим трудом?
– В таком случае о нем должна заботиться община, – сказал старшина. – Хотя мы и небогаты, но не допустим наших бедных умирать с голода.
– Однако вы обременяете ими общину, в то время как при желании им можно помочь. Я знаю Экфрида, он не захочет жить подаянием, как нищий, пока его руки еще могут двигаться. Если он для вас действительно не пригоден, пусть придет ко мне, и я позабочусь найти ему работу.
Райнер в смущении смотрел на пастора, а старшина поспешно сказал:
– Нет, ваше преподобие, это невозможно, и без того у вас много забот о бедных и больных в селе; нам будет стыдно.
– Однако вы видите, что Райнер не стыдится, – строго сказал Вильмут. – На его большом дворе нет места для бедного Экфрида, он поручает заботу о нем мне.
– Нет, ваше преподобие, я этого не сделаю, – решительно сказал Райнер. – Я оставлю Экфрида у себя и постараюсь дать ему работу по силам.
Вильмут протянул ему руку не с выражением благодарности, а словно прощая человека, который не исполнял своих обязанностей, но потом одумался. Крестьянин, очевидно, также нашел, что это в порядке вещей, так как покорно поцеловал руку священника и ушел со своим товарищем. Перед уходом они поклонились Анне, сидевшей у окна, и этот поклон относился к ней не как к госпоже Гертенштейн, а лишь как к родственнице пастора, воспитывавшейся в пасторате и поэтому до сих пор остающейся почетным лицом для всего села.
– Крестьян нужно усовещевать, иначе алчность побеждает человечность, – обращаясь к ней, заметил Вильмут. – Они помешали нашему разговору, и ты не ответила на мой вопрос. Почему ты сегодня была в городе и не заехала к Фрейзингу? Ведь он – твой поверенный и может лучше всех дать тебе те сведения, которых ты просишь у меня.
Анна не сразу нашлась, что ответить, и некоторое время молчала.
Вильмут заметил ее колебание и спросил:
– Что-нибудь произошло между вами? Вероятно, это твоя тайна?
– Нет, Грегор, все равно ты узнал бы, – спокойно возразила молодая женщина. – Вчера я имела с Фрейзингом настолько неожиданное, насколько и неприятное объяснение, хотя мы расстались без особенной горечи, и я надеюсь, что он сохранит ко мне прежнюю дружбу. Но теперь я не могу обращаться к нему и должна выждать, когда он приедет по собственному желанию.
– Значит, он сделал тебе предложение и ты отказала?
– Да.
– Я уже давно подозревал это, – презрительно сказал Вильмут. – Старый дурак! Неужели он думает, что ты при теперешних обстоятельствах приняла бы от него хорошее обеспечение? Или он воображает, что ты неравнодушна к нему?
– Не знаю. Во всяком случае он ошибся в своих предположениях. Теперь ты понимаешь, что я не могла сегодня обратиться к нему.
– Нет, я напишу ему вместо тебя и попрошу у него справку. Так Фрейзинг был вчера в Розенберге? Кстати, я слышал, тебе сделали и второй визит: у тебя был Пауль фон Верденфельс.
– Ты и это знаешь? – с удивлением спросила Анна.
– Случайно! Ты, конечно, не приняла его.
– Нет, я говорила с ним.
Вильмут близко подошел к кузине, и на его лице появилось почти угрожающее выражение, когда он спросил:
– Что значит, что ты приняла его визит? Разве ты забыла, что он из Фельзенека?
– Успокойся! – холодно ответила Анна, – это было в первый и последний раз, что он приезжал в Розенберг. Я должна была поговорить с ним, чтобы рассеять некоторые недоразумения, но дело дошло до того, что он просил моей руки.
Вильмут иронически рассмеялся.
– И этот тоже! Тебе придется остаться вдовой. Едва только кончился год твоего траура, а у тебя уже два жениха. Своим отказом ты их обоих сделала несчастными.
– Разве это моя вина? – с упреком спросила Анна.
– Нет, не вина, но судьба; и незавидная судьба – быть предназначенной вселять горе в сердца мужчин.
Эти слова звучали какой-то особенной горечью, и взгляд, брошенный на молодую женщину, был почти враждебен. Анна молчала. Она и теперь преклонялась перед авторитетом своего прежнего учителя, который так долго заменял ей отца и постоянно внушал ей, что ее красота – роковой дар.
Между тем буря все усиливалась. Она проносилась над домом священника, сметая с крыши сугробы снега; в саду со стоном ломались хрупкие ветви фруктовых деревьев, и обе половины ворот, которые забыли закрыть, вдруг с треском рухнули.
– Тебе невозможно ехать в такую погоду; обожди час, может быть, буря пронесется, – сказал Вильмут.
– Боюсь, что буря не утихнет, – задумчиво ответила Анна, – есть признаки, указывающие, что она захватит и ночь.
Наступили сумерки, и в комнату вошла ключница пастора, пожилая седая женщина, еще бодрая, с приятным выражением лица. Она внесла зажженную лампу, поставила на стол, и по лицу ее было видно, что ей хочется рассказать нечто необыкновенное.
– Ваше преподобие, случилось что-то невероятное! – начала она. – Все село говорит об этом. Сначала я не хотела верить, но он действительно проехал, многие видели его!
– Кого видели? – спросил Вильмут.
– Барона Верденфельса! Он ехал в открытом экипаже, а рядом сидел его племянник, молодой барон; они поехали в замок.
Анна быстро отвернулась, а пастор смотрел на экономку такими глазами, будто думал, что она не в своем уме. Наконец он произнес:
– Чего только людям не приходит в голову! Они видят призраки среди белого дня.
– Нет, не призраки, ваше преподобие, а действительность, – уверенно заявила ключница. – Посмотрите: там, в замке, освещены господские комнаты – в первый раз со дня смерти старого барона, а сегодня еще в полдень прибыли и слуги с лошадьми из Фельзенека. Теперь стало понятно, что все это означает: приехал сам барон.
Хорошо, что Анна сидела в тени; при последних словах ключницы яркая краска залила ее лицо, и она с глубоким вздохом подумала про себя:
– Наконец-то!
Вильмут не обращал на нее внимания, он был совершенно поражен, хотя, видимо, все еще сомневался. Он торопливо подошел к окну, откуда был виден главный фасад замка. Несмотря на значительное расстояние, там можно было заметить свет, – свет в комнатах, которые Раймонд занимал при жизни отца. Ключница собиралась рассказать о реакции всего села на необыкновенное событие, но пастор резко прервал ее:
– Во всяком случае, завтра утром видно будет, подтвердится ли это известие. Скажите кучеру госпожи Гертенштейн, чтобы он не запрягал лошадей, так как буря становится все сильнее.
Ключница удалилась, и в комнате на несколько минут воцарилось молчание. Глаза Анны не отрывались от освещенных окон замка. Вильмут, который ходил взад и вперед по комнате, наконец остановился и спросил:
– А как ты думаешь, Верденфельс и в самом деле приехал? Что ему здесь нужно через шесть лет после того, как он окончательно порвал все отношения с целым светом? Чего он ищет?
– Скорее всего ему понадобились вещи, которых он так долго избегал, – тихо ответила Анна.
– Это на него похоже! Он всегда был пустым мечтателем, который жил только одними прихотями. Может быть, ему наскучило одиночество и он ради развлечения хочет играть теперь роль владетельного барона.
– Грегор, не будь таким несправедливым! – проговорила Анна, и голос ее задрожал, несмотря на все старание овладеть собой. – Ты знаешь, что не прихоть загнала его в это уединение, а всеобщая ненависть, которую ты так тщательно поддерживаешь.
– Или, вернее, твой брак с Гертенштейном, которого он не мог вынести. Вот что заставило его удалиться от всех.
Неожиданный стук в дверь прервал их разговор, и на оклик священника «Кто там?» в комнату вошел старик Экфрид. Седые волосы его растрепались от ветра, он так трудно дышал от усталости и волнения, что едва мог поздороваться.
– Это вы, Экфрид? – спросил Вильмут, смотря на горную палку, которую крестьянин держал в руках. – Вы идете с гор?
– Да, ваше преподобие, и не я один! – ответил старик, и в глазах его блеснул недобрый огонек. – Еще кое-кто спустился со мной оттуда… Вы, вероятно, уже знаете… Верденфельс там!
Вильмут сердито нахмурился.
– Значит, Это известие справедливо? А я все еще сомневался.
– Совершенно справедливо! – подтвердил Экфрид. – Я знаю его, моим глазам вы можете поверить! Он проехал мимо меня как злой дух, гонимый бурей и непогодой, которую он везет к нам с собою с гор. Помяните мое слово, эта буря принесет какое-нибудь несчастье в Верденфельс.
– Садитесь! – сказал Вильмут, указывая ему на стул. – Вы едва дышите. Отдохните сперва, а потом скажете, что привело вас ко мне.
Старик тяжело опустился на стул, он все еще с трудом дышал и, казалось, старался победить головокружение. Анна быстро подошла к нему.
– Что с вами, Экфрид? Успокойтесь! Могу я чем-нибудь вам помочь?
Он отрицательно покачал головой.
– Нет, ничего… это от дальнего пути и испуга… я иду из Маттенгофа.
– От вашей дочери? Но вам трудно ходить туда так часто с вашей больной ногой!
– Да мне не придется так часто ходить туда, – глухо проговорил старик. – Может быть еще раз, на похороны… потому что Стаси умирает.
– Я так и думала, когда была там с двоюродным братом, – с участием проговорила Анна. – Мы еще тогда увидели, что бедной женщине недолго осталось жить… Но наш доктор обещал мне еще раз навестить ее, был он у нее?
– Да, был сегодня утром и сказал, что она вряд ли переживет эту ночь.
Голос старика задрожал. Молодая женщина хотела обратиться к нему со словами утешения, но Вильмут прервал ее:
– Сегодняшняя ночь? А приобщалась ли больная святых тайн?
– Нет, ваше преподобие, за этим-то я и пришел к вам, – сказал Экфрид. – Священник Бохдорфа болен и не может прийти, а Стаси была ведь вашей прихожанкой, пока не вышла замуж. Она зовет вас к себе и послала меня за вами. Я знаю, вы непременно пришли бы, несмотря на дальнее расстояние, да вот поднялась такая буря, что и выйти нельзя.
Как бы в подтверждение этих слов на дворе поднялся такой порывистый ветер, что крыша дома задрожала. Вильмут ничего не ответил и снова подошел к окну. Стало совсем темно, так что вблизи не было видно ни зги, зато ясно слышались свист и завывание ветра. Грегор очень хорошо знал, как опасны эти зимние бури даже в долинах, не говоря уже о горах. Помолчав несколько секунд, он спокойно сказал:
– Я приеду, Экфрид!
– Что ты, Грегор, Господь с тобой! Ты хочешь ехать в Маттенгоф в такую бурю? – испуганно воскликнула Анна. – Это невозможно, ты рискуешь жизнью! Подожди до утра.
– Тогда будет поздно, ведь ты слышала! Ну, а какова дорога туда, Экфрид? Доеду ли я в санях до лесничего?
– Да, до дома лесничего вы доедете хорошо, но оттуда вам придется идти пешком. Дорога хороша, я только что прошел по ней… впрочем, я шел днем. Но ночью и притом в такую непогоду… правда, вы рискуете жизнью.
– Которая принадлежит не одному тебе, – заметила Анна. – Подумай о твоих обязанностях, о твоей пастве, которой ты так необходим! Ничто не может заставить тебя жертвовать своей жизнью ради умирающей.
Грегор гордо выпрямился.
– Когда зовут священника, он должен идти! Это его первая и главнейшая обязанность, все остальное должно быть отодвинуто на задний план! Я в руках Божиих, а умирающая не может отойти в вечность без последнего утешения.
С этими словами он отворил дверь и позвал служанку.
– Велите сейчас же запрягать для меня сани, да приготовьте облачение. Пусть также возьмут фонарь и горную палку.
Служанка в ужасе всплеснула руками.
– Бог с вами! – воскликнула она. – Возможно ли ехать в горы в такую непогоду!
– Я еду к умирающей! – пояснил Вильмут тоном, не допускающим никаких возражений. – Да скорее, времени терять нельзя! – Потом он обернулся к молодой женщине и протянул ей руку.
– Прощай, Анна… на всякий случай!
Анна взглянула на него не то со страхом, не то с невольным уважением.
– Неужели необходимо ехать, Грегор?
– Да, необходимо. Успокойтесь, Экфрид, я поеду к вашей дочери!
Старик встал и, молитвенно сложив руки, прерывисто произнес:
– Я никогда этого не забуду… Да и вся деревня не забудет. Господь сжалится над нами и не отнимет у нас нашего достойного пастыря… второго такого у нас никогда не будет!
Четверть часа спустя сани отъехали от дома и маленькая, но крепкая горная лошадка, привыкшая ко всякой непогоде, смело и весело побежала вперед. До дома лесничего дорога была довольно сносной, и, только проехав его, священник встретился с настоящей опасностью. Приходилось идти пешком лесом, где ветки трещали и ломились под тяжестью снега, грозя ежеминутно придавить идущих, и где не было никакой защиты от страшного порывистого ветра. Притом стояла глухая ночь, когда даже всякое животное испуганно забивалось в свою нору.
Но священника призывали, и он шел, не щадя жизни для исполнения своего долга. Смелому и неустрашимому путнику в бурную ночь и проницательному сердцеведу недоставало только одного, чтобы сделаться истинным служителем Бога – любви и милосердия…







