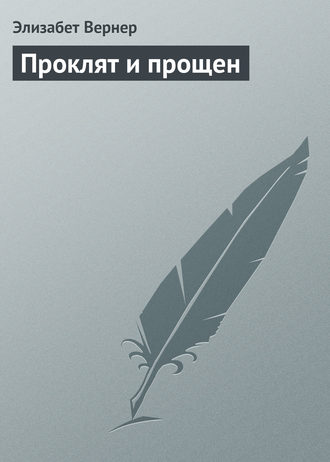
Элизабет Вернер
Проклят и прощен
Глава 13
В доме священника собрались представители прихода, выбранные среди самых уважаемых крестьян. После переговоров с управляющим барона они отправились к своему пастору, считая долгом сообщить ему, что ими уже заявлен отказ. Там они нашли еще инженера, которого барон Верденфельс выписал из резиденции, чтобы сделать необходимые съемки и составить планы. Он прожил неделю в замке и только сейчас узнал о непонятном для него исходе дела.
– Ваше преподобие, – начал он, – я пришел к вам за подтверждением, или, скорее, за опровержением одного известия, которое кажется мне просто невероятным, неслыханным. Молодой барон Верденфельс от имени своего дяди сообщил мне, что моя деятельность кончается и что все уже начатые подготовительные работы приостанавливаются, так как приход не разрешает производить постройку проектируемой плотины. Дело здесь идет, вероятно, о каком-нибудь недоразумении или, в крайнем случае, отсрочке. Прошу вас объяснить мне это.
В его словах звучало некоторое раздражение, но тем спокойнее был ответ Вильмута:
– Очень сожалею, что принужден подтвердить это известие. После зрелого обсуждения прихожане единогласно отклонили предложение барона. На это у них имеются веские основания.
– Основания, побуждающие их жертвовать безопасностью села?
– Село не будет брошено на произвол судьбы, нам уже обещана помощь с другой стороны. Это – дело правительства, и оно позаботится о нем. Переговоры ведутся уже давно и близятся к концу.
Инженер пожал плечами.
– Советую вам не очень доверять подобным обещаниям. Я знаю, как происходят переговоры с присутственными местами. Вам придется преодолевать бесконечные затруднения. В самом благоприятном случае разрешение последует не раньше, чем через год, причем, разумеется, приход будет обязан сделать значительную доплату из собственных средств.
– Прихожане готовы сделать эту доплату, – объявил Вильмут, обращаясь к крестьянам, и те, не колеблясь, изъявили свое согласие. – Я сам написал доклад по этому делу и лично поеду в столицу, чтобы подать его в надлежащее ведомство. Здесь речь идет лишь о том, чтобы ускорить дело, потому что в принципе наше право на помощь правительства давно признано.
– В таком случае желаю вам не натолкнуться на неприятные открытия, – не без едкости сказал инженер. – Если в правительственных кругах узнают, что щедрый, чисто княжеский дар, который барон Верденфельс хотел сделать своему селу, и притом сделать без всяких условий, был отклонен, то еще вопрос – будет ли ваше ходатайство удовлетворено. Простите, ваше преподобие, если я откровенно скажу вам, что я найду это вполне справедливым.
– Вы не знаете здешних условий, – невозмутимо продолжал Вильмут, – и потому не можете судить. Поймите, что при тех отношениях, какие существуют между бароном и прихожанами, его предложение принять невозможно. Это совершенно частное дело, и оно не может иметь влияния на решение правительства. Впрочем, я получил верное известие, что еще до конца сего года мы можем ожидать благоприятного решения.
– А до тех пор еще пройдут и весна, и осень, и в обоих случаях вам может грозить опасность от горных вод.
– Она угрожает нам целых двадцать лет, и рука Господня, оберегавшая нас, будет оберегать и теперь. От ближайшей опасности село вообще нельзя защитить, так как работы невозможно начать среди зимы.
– Однако они должны были начаться теперь же, – многозначительно произнес инженер. – Барон настаивал на том, чтобы приступить к работам немедленно. Для этого стали бы возводить земляные валы, достаточно крепкие и высокие, чтобы оказать сопротивление напору высокой воды, а летом начали бы постройку настоящей плотины. Намерение барона заключалось главным образом в том, что, давая зимой крестьянам заработок, не допустить их нужды; по крайне мере, он вменил мне в обязанность принимать на работу исключительно людей из малоимущих семей и назначать хорошую поденную плату, не считая предоставления продовольствия. За все это он получил плохую благодарность.
Вильмут нахмурился, но прежде чем он собрался ответить, вперед выступил Райнер, также находившийся в числе представителей прихода, и дерзко сказал:
– Это – наше собственное дело, и мы никому не позволим вмешиваться. Ведь господин пастор сказал вам, что здесь, в Верденфельсе, совершенно особенные отношения, и он прав. От Верденфельса нам ничего не нужно.
– Да, нам ничего от него не нужно! Наш пастор прав! Мы обращаемся к правительству! – раздалось со всех сторон.
Взглянув на окружающие его мрачные лица, инженер взял шляпу.
– В таком случае моя деятельность здесь кончена. Попробуйте счастья у правительства! Я предсказываю вам неудачу, а у меня в этих делах большой опыт. Боюсь, что прихожане со временем сильно раскаются, что так бесповоротно отклонили помощь, – и, сделав всем короткий поклон, он ушел.
Его последние слова, сказанные с такой уверенностью, по-видимому, все-таки смутили крестьян, и на их лицах появилось озабоченное выражение; все начали перешептываться между собой, один только Вильмут сохранил прежнее спокойствие. Ответив на поклон инженера со сдержанной вежливостью, он обратился к своим прихожанам:
– Я имею удостоверение нашего высокочтимого епископа, что он употребит все свое влияние для поддержания нашего дела, а его влияние в столице очень велико. Я лично доложу и те причины, которые заставили прихожан принять такое решение, и заранее уверен, что он одобрит их. Если вы раскаиваетесь в своем отказе, то еще не поздно отменить его. Я уверен, что с бароном можно поладить, вы скажете, что здесь вышло недоразумение. Обдумайте еще раз это дело, я не хочу предрешать ваш свободный выбор.
Брошенный им вокруг победоносный взгляд показывал, как обстояло дело со «свободным выбором» и как хорошо он знал своих крестьян. Все с негодованием отказались от помощи барона, никто и не собирался еще раз «обдумывать дело». Если священник взял его в свои руки, епископ обещал свое содействие – они считали дело уже выигранным.
– Если вы остаетесь при своем решении, послезавтра я еду в столицу, – сказал Вильмут, – и надеюсь привезти оттуда решение, что работы начнутся уже в будущем году. До тех пор поручим себя защите Того, Кто управляет стихиями и указывает путь воде. Мы не должны малодушно унывать и сомневаться, после того как Он так долго оберегал нас. Говорю вам: Он защитит и село и нас всех.
В словах пастора слышалась глубокая уверенность, и впечатление получилось поразительное. Крестьяне столпились вокруг священника, бурно подтверждая свое согласие. Каждый хотел еще раз пожать пастору руку, и, когда он наконец отпустил их, все единодушно разделяли мнение старого Экфрида, что их священник – клад, и другого такого не найти.
Вильмут действительно немедленно стал готовиться к отъезду. Не в его привычках было откладывать дело, за которое он брался, что же касается рвения и энергии, то дело не могло находиться в лучших руках.
Он послал в Розенберг коротенькую записку, сообщая своим родственницам о предстоящей поездке, и на следующее утро уже ехал в санях на железнодорожную станцию.
Усадьба Розенберг даже и теперь, когда дом и сад были покрыты снегом, не утратила своего приветливого вида и казалась мирной идиллией посреди пустынного ландшафта. Зимнее солнце ярко светило в комнату Лили, которая сидела у письменного стола и писала письма своим институтским подругам. Она поддерживала еще отношения с институтом, покинутым ею только прошлой осенью, и молодые девушки в письмах, требовавших не менее листа бумаги, еще продолжали делиться друг с другом своими горестями и радостями.
Но получилось как-то так, что в последнее время «институтские подруги» были заброшены, и те слова, которые сегодня так быстро и красиво выходили из-под пера Лили, были обращены не к подруге, а к молодому барону фон Верденфельсу, бывшему ее ревностным корреспондентом. Пауль, естественно, не замедлил воспользоваться полученным дозволением. Он еще на прошлой неделе написал такое отчаянное письмо, что Лили была вынуждена послать ему несколько ободрительных слов. Ее письмо имело успех, и следующее послание Пауля было уже более спокойным, однако автор высказывал настойчивое требование дальнейших утешений; в этом также нельзя было отказать. Одним словом, завязалась чрезвычайно оживленная переписка, которой ничто не мешало. Пауль из предосторожности не запечатывал писем печатью с гербом Верденфельсов, и они попадали в Розенберг под видом невинных писем «институтских подруг». Лили очень нравилась роль утешительницы и ангела-хранителя, и так как она достигла очевидного успеха у барона, у нее возникло убеждение, что ее миссия вообще заключается в утешении отвергнутых женихов. В этом отношении ее сострадание распространялось и на Фрейзинга, причем Лили не предчувствовала, что причинит ему этим неприятность. Давнишняя дружба, связывающая адвоката с семейством Гертенштейн, взяла верх над оскорбленным самолюбием: Фрейзинг по-прежнему приезжал в Розенберг и ревностно занимался делами молодой вдовы. Но в первое время у него был такой угнетенный и грустный вид, что Лили почувствовала к нему глубокое сострадание и старалась развеселить его. Фрейзинг вначале принимал это с благодарностью, потом с приятным чувством и, к сожалению, ошибочно понял это участие. Он вообразил, что произвел впечатление на шестнадцатилетнюю девушку, и начал подумывать, не может ли младшая сестра заменить старшую. Таким образом в один прекрасный день дело дошло до несчастья. Адвокат еще раз облекся во фрак, заказал великолепный букет и опять поехал в Розенберг, чтобы на всех парусах налететь на пятый отказ. На этот раз ему хотелось не застать дома госпожи Гертенштейн и не встретиться с фрейлейн Гофер. Узнав, что Лили в своей комнате, он на правах старого друга семьи отправился прямо к ней. Лили немножко испугалась, когда он неожиданно постучал в ее дверь. Она наскоро засунула начатое письмо в портфель и заперла его, но, узнав вошедшего, вскочила и поспешила ему навстречу, весело воскликнув:
– Ах, это вы, дядя советник!
От этого приветствия он немного поморщился. Сегодня ему было особенно нежелательно, чтобы его приняли как «дядю»; но сердечность, с какой молодая девушка протянула ему руку, несколько смягчила значение рокового слова, и он немедленно приступил к «введению», поцеловав маленькую руку и удержав ее в своей.
Лили ничего не имела против этого. Если этот поцелуй руки не был ей так приятен, как поцелуй молодого барона Верденфельса, то рыцарская вежливость адвоката все-таки была достойна всяческого уважения. Наконец-то он начал обращаться с «маленькой» Лили, как со взрослой, и она пришла от этого в такое восхищение, что даже дружески помогла ему снять пальто. Тогда на сцену явился роковой фрак, потом новые узкие лайковые перчатки, вызывавшие подозрение, и наконец букет, вынутый из бумажной обертки, защищавшей его от зимней стужи. Глаза Лили широко раскрылись от изумления. Когда же Фрейзинг передал ей прекрасный букет из фиалок, ландышей и подснежников, прибавив многозначительно: «Прекрасной фиалке – первые весенние цветы», тогда только Лили начала догадываться, что пятая вариация знакомой темы относит-ся к ней самой. В первое мгновение она была так поражена, что не могла выговорить ни слова. Приняв это за благоприятный признак, Фрейзинг приступил к предложению, делая необходимые изменения соответственно с юным возрастом его теперешней избранницы. Еще несколько раз упомянув о прекрасных фиалках, он наконец попросил руки Лили.
Оправившись тем временем от своего первого испуга, молодая девушка только что собралась громко расхохотаться, как вдруг у нее мелькнула поразившая ее мысль, что ей действительно делают серьезное предложение и что она поэтому должна держать себя, как подобает в подобном случае. Подавив неуместную детскую веселость, Лили с серьезным торжественным видом слушала признания Фрейзинга; когда же он кончил, она с достоинством ответила на «лестное предложение». Это был тот же ответ, который Анна дала ему четыре месяца тому назад и который ее младшая сестра повторила теперь так же бегло, как недавно сделала это с проповедью Вильмута о самоубийстве. Она объяснила жениху, что хотя не может выйти за него замуж, но сохранит к нему глубокое уважение и предложила ему вечную дружбу и благодарность.
– Опять глубокое уважение! – в отчаянии воскликнул адвокат. – Фрейлейн Лили, неужели у вас нет других чувств для меня?
В этих словах звучала такая печаль, что Лили забыла свое достоинство.
– Я очень уважаю вас, дядя советник, – с раскаянием воскликнула она, но он только меланхолически покачал головой.
– Да, я это знаю, это – моя всегдашняя судьба. Ах, с каким удовольствием я отдал бы вечное «уважение» за единственное маленькое, короткое «да»!
Лили словно почувствовала упрек за то, что не могла исполнить его скромное желание; в порыве сострадания она схватила неудачливого жениха за руку, стараясь утешить его.
– Пойдемте, дядя, сядем на диван и все обсудим.
– Вы хотите обдумать мое предложение? – с прояснившимся лицом воскликнул Фрейзинг, следуя приглашению.
– Нет, я не то хотела сказать! – запротестовала Лили. – Ведь мне только шестнадцать лет, а вам…
– Я во всяком случае старше, но между вашей сестрой и ее мужем разница в летах была гораздо значительнее.
– Но вы, вероятно, не хотите, чтобы я любила вас так, как любила моего зятя, а именно – как почтенного дядюшку?
– Нет, этого я не хочу, – обиженно проговорил Фрейзинг. – Впрочем, я еще не так стар, чтобы годиться вам в дедушки, ведь мне только сорок седьмой год.
– Я привела это просто как пример! – оправдывалась молодая девушка. – Я охотно помогла бы вам, и если сама не могу выйти за вас замуж, то не могу ли найти вам жену?
Предложение Лили звучало очень искреннее, но адвокат, очень огорчившийся сравнением с «дедушкой», был еще в раздраженном состоянии.
– Нет, благодарю вас, – возразил он. – Я сам это сделаю, если вообще еще решусь на это.
– Но только не в пятницу! – попросила Лили. – Сегодня опять этот несчастный день, который наверно и есть виновник вашей неудачи. Ведь фрейлейн Гофер предсказала вам!
– Мне нет дела до фрейлейн Гофер и ее предсказаний, – отрезал Фрейзинг так сердито, что молодая девушка посмотрела на него с испугом.
– Ах, как жалко! Как раз Эмму Гофер я и хотела предложить вам в супруги.
Это было уж слишком для юриста; он вскочил.
– Вы насмехаетесь надо мной! Ведь вам известно, в каких я отношениях с нею! Она ненавидит во мне сухого юриста, а я ненавижу в ней олицетворенное суеверие, и мы не делаем из этого никакой тайны.
Он со злостью схватил шляпу и собирался, по-видимому, взять пальто, чтобы поскорее покинуть дом, где так безжалостно осмеивали его чувства, но Лили не трогалась с дивана.
– Вы ошибаетесь, дядя советник! – хладнокровно сказала она, – вас любят.
– Где? Как? – воскликнул до крайности пораженный Фрейзинг, останавливаясь перед молодой девушкой.
– Эмма Гофер любит вас, – повторила молодая девушка, – только она не показывает вам этого.
Адвокат положил шляпу на стол, снова уселся на диван и спросил деловым тоном:
– Откуда вы это знаете?
Лили смутилась. На самом деле она ничего не знала, и ее уверение было ни на чем не основано. Она забрала себе в голову доставить своему «дяде советнику» короткое, маленькое да», которого он так желал, и поскольку уже две дамы в Розенберге навязали ему несносное «уважение», то в жертвы без малейших колебаний была избрана третья. Высказав свое смелое уверение, Лили принуждена была держаться его и второпях нашла столько доказательств в защиту своего мнения, что наконец и сама ему поверила.
Фрейзинг слушал ее с таким вниманием, что лучшего нельзя было и желать. Сразу можно было заметить, как ему приятно, что наконец нашлась женщина, питающая к нему, помимо «уважения», и другие чувства. Мысль, что кто-то хранит в сердце тайную любовь к нему, скрываемую под видом неприязни, была чрезвычайно лестной. Когда Лили кончила, он с глубоким вздохом произнес:
– Отложим пока это дело. Я не могу думать об этом после горького разочарования, но благодарю вас за участие, и… не говорите фрейлейн Гофер, зачем я сегодня приезжал в Розенберг.
– Она об этом не узнает ни полуслова! – заверила его Лили, дружески подавая своему отвергнутому жениху шляпу и помогая надеть пальто.
Фрейзинг принимал это охотно, привыкнув, что после каждого отказа ему всегда высказывают дружбу и благодарность.
Еще раз грустно взглянув на молодую девушку, он попрощался с ней.
В сенях он встретил флейлейн Гофер, спускавшуюся с лестницы, и низко, с необыкновенным уважением, поклонился ей. Она выразила сожаление, что госпожи Гертенштейн нет дома, и пригласила немного подождать, так как хозяйка скоро вернется; он отказался, отговариваясь недостатком времени, и обещал приехать на будущей неделе. Фрейлейн с удивлением заметила, что он остановился в дверях и бросил на нее долгий и какой-то особенный взгляд, а потом еще раз низко поклонился и исчез.
Полчаса спустя вернулась Анна. Она уже сняла в своей комнате шляпу и шубку и теперь просматривала полученные письма, лежавшие на столе. Бросив мимо-летный взгляд на письма, адресованные на ее имя, она заинтересовалась письмом к сестре и только что устремила на него тревожный, озабоченный взор, как дверь отворилась и в комнату по обыкновению с шумом влетела Лили с букетом фиалок в руке. Подбежав к сестре, которая при ее появлении бросила заинтересовавшее ее письмо на другие, Лили без всяких приготовлений принялась рассказывать, что она пережила в этот день. В восторге от полученного предложения, чувствуя себя совсем взрослой, она передавала случившееся с таким волнением и так бессвязно, что Анна сначала ничего не поняла.
– Дитя мое, рассказывай спокойнее! – сказала она. – Кто тебе сделал предложение и кто просил твоей руки?
– Дядя советник! – воскликнула Лили, торжественно размахивая букетом. – Он не знает, что я тогда стояла за дверью и все слышала. Я ему тоже предложила вечную дружбу и уважение, от этого он чуть не заплакал.
Анна неодобрительно покачала головой.
– Я не понимаю Фрейзинга. Как может человек, такой серьезный и толковый в своем деле, в этом отношении постоянно ставить себя в смешное положение. Он неизлечим.
– О, я вылечу его, – с уверенностью проговорила Лили. – Я достану ему жену.
– Лили, оставь свои детские шалости! – с упреком произнесла молодая женщина.
Однако Лили, в которой только что проснулось чувство собственного достоинства, приняла эти слова с большим неудовольствием. Она поднесла свой букет к самому лицу сестры, требуя, чтобы с этих пор с нею обращались, как со взрослой, объяснила, что теперь многое понимает «в этих вещах», и вдобавок пригрозила сделаться «госпожой советницей юстиции».
К сожалению, ее речи не произвели ни малейшего впечатления на Анну. Она отняла у сестры цветы, положила их на стол и сказала серьезно и решительно:
– Оставь глупости и слушай! Мне надо поговорить с тобой серьезно.
Лили сразу притихла. Она знала этот взгляд и тон, перед которым питала благоговейный страх, чувство собственного достоинства мигом исчезло, и она робко взглянула на сестру.
– Я уже несколько раз видела этот почерк, – сказала Анна, доставая письмо, – но думала, что ты переписываешься с кем-нибудь из своих бывших учителей. Только сегодня я заметила, что это письмо из Верденфельса. Кто же пишет тебе оттуда?
Молодая девушка покраснела до корней волос, но ответила не колеблясь:
– Барон Пауль Верденфельс.
– Вот как! Он тебе часто пишет, и ты, вероятно, отвечаешь ему. Почему же ты скрывала это от меня?
– Потому, что ты была так жестока, что не хотела сказать ему ни одного слова утешения! – горячо заговорила Лили. – Я описала тебе его отчаяние, сказала, что он готов на самоубийство, но ты не хотела ничего слушать. Тогда я сама решила помочь ему, позволила ему писать и скрыла это от тебя, потому что ты запретила бы мне переписываться с ним. Но я не позволю запретить мне утешать несчастного и спасти его от смерти. Только мои утешения и привязывают его к жизни, он говорит мне это в каждом письме.
Она остановилась, задыхаясь от волнения. Испытующий взгляд Анны остановился на лице молодой девушки, не догадывавшейся, как много сказало это страстное возбуждение.
– Лили, я в твоем присутствии вскрою и прочитаю это письмо, – многозначительно сказала Анна.
– Пожалуйста, сделай это! – с той же горячностью воскликнула Лили. – Ты увидишь, что там говорится только о тебе.
Анна распечатала письмо и начала читать. Это было довольно объемистое послание на трех листах, начинающееся очень меланхолически. Пауль писал, что никогда не забудет об утраченном идеале, говорил о своем грустном и безрадостном будущем, но спешил прибавить, что в этом будущем он видит по крайней мере один «светлый луч утешения», и рассыпался в благодарностях перед своей юной утешительницей. Извинившись, что пишет, не дождавшись ответа на предыдущее письмо, он продолжал в более спокойном тоне, вспоминал об известном орешнике у подошвы горы, к которому чувствовал удивительное стремление. Затем коснулся тяжелых отношений в Верденфельсе, обязывающих его теперь быть возле дяди, и об отложенном переезде в Бухдорф. Далее следовало подробное описание его будущего гнезда.
Пауль описывал Лили господский дом, парк, все поместье с его окрестностями, излагал свои планы улучшений и исправлений, – одним словом, делал ее поверенной своего печального будущего, которое, впрочем, судя по его описанию, представлялось не таким уж грустным, так как молодой владелец был явно в восторге от своего нового имения. Он приводил в письме смешной рассказ о комичном происшествии, случившемся с Арнольдом в Бухдорфе. И только в конце письма молодой человек, казалось, вспомнил о своем отчаянии и смелым оборотом возвратился к первоначальному тону, объясняя, что если он на несколько мгновений и забывает свою жестокую судьбу, то все же на сердце у него тяжелый гнет, который только Лили может облегчить своим скорым ответом.
Складка на лбу Анны понемногу разглаживалась по мере того, как она читала письмо, а когда она кончила и сложила его, то на ее губах даже дрожала легкая улыбка. Лили, стоявшая рядом и вместе с нею читавшая письмо, в тревожном ожидании взглянула на сестру.
– Ну, что ты скажешь об этом письме? – спросила она. – Бедный Пауль Верденфельс, такой несчастный!
– Я думаю, он утешится, – спокойно сказала Анна. – Мне кажется, он избрал для этого лучший путь.
– Я боюсь, что он никогда не справится со своим горем. Ведь он сам сказал мне, что его горе вечно, и кто знает, что могло бы случиться, если бы я тогда не взяла у него из рук ружье и не бросила в ров!
– А ты убедилась в том, что ружье было заряжено? – спросила Анна с улыбкой, которую не смогла подавить.
– О, Анна, как можешь ты так насмехаться! – в негодовании воскликнула молодая девушка. – Неужели для тебя ничего не значат эта благоговейная любовь, это страдание и горе утраты? Если бы я была так любима…
Она с испугом умолкла, не кончив фразы, но все ее лицо пылало.
– Я не насмехаюсь, – серьезно сказала Анна. – Я только уверена, что это – юношеское увлечение, чистое и идеальное, но непродолжительное. Пауль Верденфельс и я слишком разные люди, чтобы нас могли соединить прочные узы. Ему нечего стыдиться своего юношеского увлечения, и я вовсе не упрекаю его. Ты также не сделала бы этого, Лили, если бы кто-нибудь потом признался тебе, что до тебя любил другую. Неправда ли?
– Нет, конечно, нет, – ответила Лили с простодушием, ясно доказывавшим, что она не понимает своих собственных чувств. – Но здесь речь идет не обо мне… Ведь ты не потребуешь, чтобы я прекратила переписку?
– Обещаешь ли ты мне не видеться больше с молодым Верденфельсом без моего ведома и показывать мне каждое его письмо?
– А если я пообещаю тебе это, ты позволишь мне отвечать ему? О, Анна, не будь жестока! Ведь ты видишь, в каком он отчаянии, и причиной этого несчастья – ты.
Она с умоляющим видом протянула руки к сестре, а та тихо привлекла ее к себе, поцеловала милое розовое личико и мягко произнесла:
– Нет, моя маленькая Лили, я не хочу быть жестокой ни к нему, ни к тебе. Я не хочу отнять у него его «светлый луч». Если хочешь, отвечай ему на письма, но сдержи данное мне обещание. Может быть, барон Пауль приедет когда-нибудь в Розенберг и тогда лично расскажет тебе о своем прекрасном Бухдорфе.
Лили не поняла последних слов, так как была непоколебимо убеждена, что Пауль любит только ее сестру, и с шумной детской радостью обвила руками шею Анны, после чего убежала со своим письмом, чтобы немедленно сесть за ответ. Букет фиалок, упавший на пол, был оставлен без внимания на ковре, в голове у молодой девушки теперь было совсем не предложение «дяди советника».
Анна Гертенштейн посмотрела вслед счастливой девушке и грустно улыбнулась.
– Нет, было бы несправедливо препятствовать этой зарождающейся склонности, – подумала она. – Может быть, моей Лили предназначено то, в чем судьба отказала мне: быть счастливой с Верденфельсом.







