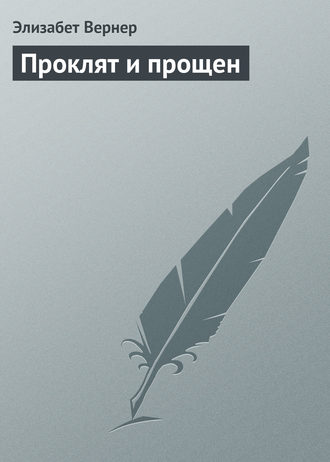
Элизабет Вернер
Проклят и прощен
На лице молодой женщины выразилось мучительное замешательство.
– От твоего племянника? Ты говоришь о молодом бароне Верденфельсе?
– Конечно, о нем. Он ведь познакомился с тобой еще в Италии. Или ты до сих пор не заметила его поклонения?
– Я не придавала ему никакого значения. Трудно отнестись серьезно к юношеской влюбленности.
– Ты ошибаешься. Пауль до такой степени серьезно относится к своей любви, что ни минуты не колеблясь сделал выбор между нею и обладанием Верденфельсом. Я уверен, что он на этих днях сделает тебе предложение.
– Я и не подозревала этого, – смущенно проговорила Анна. – Жаль, если я не буду избавлена от необходимости доставить ему горе.
– Значит, ты не любишь его?
– Я? Пауля Верденфельса?!
Этот вопрос, полный соболезнующего удивления, прозвучал приговором. Было ясно, что сердце молодой женщины нисколько не было затронуто Паулем.
Раймонд увидел это, и из его груди вырвался вздох облегчения.
– Прости меня, была минуту, когда я верил такой возможности.
В это время Эмир стал заметно беспокоиться. Горячему животному не стоялось на месте, и оно начало выражать свое нетерпение, фыркая и взрывая копытами снег. Раймонд подошел к нему и ласково провел рукой по его стройной шее, перекинув поводья через руку. Лошадь сразу успокоилась, почувствовав руку своего господина, и поглядывала умными глазами на стоявшую под елями молодую женщину, задумчиво смотревшую вдаль.
Горная лужайка лежала на склоне, с которого открывался широкий вид на покрытые снегом горы. Дева льдов далеко раскинула свои одежды. В той грозной вьюге, которая разразилась в начале зимы, Дева льдов спустилась в долину и под ее холодным дыханием замерла вся жизнь, еще теплившаяся поздней осенью. По ее мановению явился новый прекрасный сказочный мир, целое волшебное царство блестящих кристаллов, о которых говорится в сагах. В призрачной красоте поднимались горные вершины в ясную, холодную синеву, а в пропастях и расщелинах, куда не проникал солнечный свет, лежали глубокие темно-синие тени. Водопады, с шумом и пеной низвергавшиеся прежде в долину, теперь, застыв, повисли на гранитных утесах. Они были при падении захвачены морозом, превратившим их в блестящие снежные украшения на снежном одеянии гор, и крутые обрывы, и темные леса – все поражало своим хрустальным великолепием, которое невидимая рука рассыпала как волшебные сокровища гор.
А над всем этим возвышался сказочный Гейстершпиц со своими снеговыми полями и голубоватым льдом вершин и, казалось, купался в солнечном свете. Но это было холодное зимнее солнце, освещавшее застывший мир. Из леса не доносилось ни шелеста, ни звука; неподвижно стояли ели, опустив свои ветви под тяжелым снежным покровом. Не было слышно журчания ручьев: всякое движение воды было сковано морозом. В этом блестящем волшебном мире царило глубокое безмолвие. Казалось, отсюда была изгнана сама жизнь… Кругом были только покой и молчание смерти…
По покрытой снегом лужайке пронесся ветерок и донес откуда-то из глубины какой-то шум, то слышавшийся явственнее, то почти замиравший. Оттуда, где долина кончалась, между пропастями и расщелинами, где еще не ступала человеческая нога, вытекал горный поток, мощная жизненная артерия гор, которую ничто не могло умертвить. В те таинственные недра, откуда он брал свое начало, не простиралась даже власть Девы льдов, покорявшей себе решительно все. Тщетно старалась она задержать стремительный бег потока, задушить его в своих ледяных объятиях, он прорывался к свету, к свободе из угрожавших ему оков, рвался вперед через скованные льдом пропасти, между покрытых снегом утесов, – единственный не покоренный среди мертвой природы.
Шум потока лишь смутно доносился до уединенной возвышенности, где стояли два человека, некогда такие близкие, а теперь такие чуждые друг другу… Но что-то в этом далеком шуме напоминало им о минувшей весне, которая и для них расцвела когда-то, а потом безвозвратно исчезла. Так же тихо и мечтательно шумело море, когда они встретились в первый раз в жизни. Случай свел уроженцев Германии в Лидо[1], а потом они вместе плыли на пароходе в Венецию. Волны мелькали в пурпурном золоте заката, вдалеке тихо скользили паруса рыбачьих лодок, освещенных заходящим солнцем, а там, вдали, виднелся старый город с его мраморными дворцами и храмами, совершенно преобразившийся под багряным заревом заката. Но молодой иностранец ничего этого не видел. Его взор не отрывался от серьезной молодой девушки, сидевшей напротив него рядом с пожилой дамой. Он не мог оторвать глаз от ее лица.
Потом наступила лунная ночь, когда пароход снова увозил путников к берегам Германии, а мраморный город отступал все дальше и дальше, пока не потонул в волнах, как сияющая звезда; но это не была звезда счастья. Затем наступил весенний день в родных горах, принесший с собою так страстно желаемое свидание с глазу на глаз, а с ним и признание, которое уста еще не решались произнести. Чувство бурно и горячо вырвалось из груди мужчины, и встретило взаимность серьезной девушки…
Тогда все кругом цвело и благоухало. Леса шумели в своем весеннем уборе, с утесов бежали ручьи, горы были озарены золотистым светом солнца, и два молодых сердца слились в горячем чувстве… Они клялись остаться верными друг другу при всех превратностях судьбы.
И вот налетела буря и разрушила ту клятву, разлучив молодых людей: одного она загнала в тоскливое одиночество, без любви, без счастья, а другую бросила в шумную светскую жизнь, в которой она тоже продолжала оставаться одинокой.
Теперь, после многих лет, они снова стояли друг против друга, и между ними были лед и снег…
Взор Анны снова был пристально устремлен на лицо барона, словно она хотела угадать, что выражали эти черты. И, вероятно, она прочла в них нечто тяжелое, потому что прервала краткое молчание, воскликнув:
– Раймонд!
Его лицо мгновенно просияло, когда он услышал свое имя, произнесенное этими устами, но вслед за тем на нем снова появилось прежнее суровое выражение. Он подошел к Анне, ведя за повод лошадь, покорно следовавшую за ним. Животное не выказывало ни малейшего признака нетерпения, с тихим ржанием ласково прижимаясь головой к плечу хозяина.
– Лошадь, кажется, очень любит тебя? – сказала Анна.
– Да, я ежедневно вижусь со своим Эмиром, хотя редко езжу на нем; это – единственное существо, которое любит меня.
– И, вероятно, единственное, которое ты любишь? Ты бежишь от людей и света, ясно показывая свое презрение к ним.
– А ты думаешь, что любовь людей загнала меня в это одиночество? – выразительно спросил Раймонд. – Спроси своего кузена Вильмута, он может дать тебе об этом точные сведения, так как сам превратил в бездонную пропасть ту трещину, которая отделяла меня от людей, живущих в долине.
– Грегор указывал тебе путь к примирению, а ты не захотел воспользоваться им.
– Нет! Я знаю, что должен поплатиться за свое прошлое, но перед высокомерным священником я не преклонюсь.
В этих словах слышалась железная воля и энергия, и они, очевидно, поразили молодую женщину. Быстро взглянув на своего собеседника, она серьезно сказала:
– Грегор не высокомерен. Чего бы он ни требовал, у него всегда на первом плане стоят обязанности священника, и в исполнении этих обязанностей он может быть беспощаден.
– Да, я это испытал на себе. Он отлучил меня от церкви, и его верная паства следует его повелениям. Я в опале в собственном своем имении.
– Кто же в этом виноват? Грегор или твой странный образ жизни, сделавшийся сказкой во всей округе? Ты на уединенном, пустынном утесе воздвигаешь замок княжеской роскоши и скрываешься в нем от человеческих глаз. Ты тратишь огромные суммы на Верденфельс с его садами, а между тем они стоят пустые, и ни одна человеческая нога не ступает туда. Ты очертил вокруг себя заколдованный круг, через который никто не смеет перешагнуть, и сам даешь пищу тем невероятным слухам, которые ходят о тебе. Ты не видишь людей и не думаешь о них, забывая, что эти люди работают в твоих поместьях и день за днем борются с нуждой. Разве тебе есть дело до их горя или счастья? Ты остаешься недоступным и неприступным на своем высоком утесе!
– На краю пропасти, – тихо добавил Верденфельс. – Ты не знаешь, какие ужасные часы я пережил там, и каким искушением является этот обрыв. Он не раз манил меня найти забвение в его глубине и схоронить там прошедшее вместе со старым проклятием.
На лице молодой женщины отразился испуг, однако он сразу же уступил место свойственной ей непоколебимой твердости, звучавшей и теперь в ее голосе, когда она ответила:
– Это – последнее прибежище слабых. Настоящий мужчина искупает свою вину.
Раймонд выпрямился. Его глаза сверкнули, как искры под пеплом, и тотчас померкли.
– Ты считаешь меня слабым?
– Ты – мечтатель, не имеющий смелости выйти на яркое солнце, потому что твоим глазам больно смотреть на свет после долгой темноты, да и мечтать при солнце не так удобно. Проснись, Раймонд! Брось эти мрачные мысли, отнимающие у тебя последние силы! Я никогда не думала, что наша разлука сделает из тебя то, чем ты стал теперь.
Раймонд быстрым движением выпустил поводья из рук. Видно было, что эти слова и тон, которым они были сказаны, больно задели его, так как его голос окончательно потерял свое спокойное звучание.
– Не говори таких слов, Анна, – мрачно сказал он. – Ненависть я еще могу вынести – мне часто приходилось встречаться с ней в жизни, но презрения я не перенесу!
– Тогда докажи, что ты не заслуживаешь его, – с возрастающим волнением сказала Анна. – Тебе много дано, а жизнь людей там, внизу, зависит от тебя. Ты в долгу перед ними. Попробуй, пойди к ним, постарайся примириться с ними, и ты добьешься этого.
– Ты думаешь? – резко спросил Верденфельс. – Это была бы не первая моя попытка, после смерти моего отца я уже пробовал сделать это. И знаешь ли ты, что мне ответил старик Экфрид, когда я вошел в его хижину? Он сорвал со стены ружье и грозил пристрелить меня, если я переступлю его порог. Дальше было то же самое: куда бы я ни шел, я везде наталкивался на старую ненависть, на прежнюю враждебность. Все оттолкнули меня, все, даже моя невеста!
Молодая женщина опустила свой гордый, гневный взор, на последний упрек она не нашла возражений.
– С той минуты, как Вильмут узнал тайну нашей любви, – продолжал Раймонд, – над нею был произнесен приговор, и ты слепо подчинилась ему, а меня осудила, даже не выслушав!
– Не выслушав? Я не поверила бы никакому другому доказательству, кроме твоих собственных слов. Я сама вызвала тебя в пасторат, где происходил наш последний разговор.
– В присутствии Вильмута! Он стоял между нами и своим ледяным взором мешал нам понять друг друга. Если бы мы хоть на минуту остались наедине, я сумел бы найти дорогу к твоему сердцу, несмотря на все, что тогда произошло, но ты отказала мне в этом.
– Это было бы бесполезно. Я должна была задать тебе один единственный вопрос, и одно единственное «нет» из твоих уст могло бы все поправить. Ты не произнес этого «нет», а только опустил глаза. Не посторонняя сила, а твое собственное молчание были причиной нашей разлуки.
– Но что же я мог сказать тебе? – медленно проговорил Раймонд. – Я отлично знал, что все было напрасно, пока рядом с тобой стоял этот священник, который умеет только осуждать и проклинать и которому даже незнакомо слово «прощение». Один раз я попробовал написать тебе, несмотря на твое запрещение, и откровенно рассказать тебе все в своем письме. Через три дня пришел ответ, но он был написан рукой твоего кузена и гласил: «Анна стала вчера невестой президента Гертенштейна». До той минуты я еще боролся с ненавистью, теперь я сдался и навсегда ушел от людей.
Последовало долгое, томительное молчание. Молодая женщина не двигалась с места, она сильно побледнела и с трудом переводила дыхание.
– Что было в том письме? – тихо спросила она.
Реймонд бросил на нее мрачный взгляд, в котором снова блеснул огонек, как искра из-под пепла, и воскликнул:
– Ты же знаешь это! Или ты не читала письма?
Угрожающий тон, которым были произнесены эти слова, вызвал в Анне протест.
– Нет! Перед тем как получить письмо, я только что дала слово президенту, и моя судьба была решена; поэтому письмо было сожжено нераспечатанным.
Верденфельс вздрогнул, его руки крепко сжались, и глаза вспыхнули ярким пламенем. Казалось, он готов был разразиться бурной, страстной речью, но сдержался.
– Прости, – с притворной холодностью сказал он после минутной паузы, – в таком случае я, значит, писал по неверному адресу.
– Что было написано в том письме? – настойчиво и тревожно повторила Анна.
– То, что ты, наверно, отвергла бы. Это была моя исповедь, – с беспредельной горечью проговорил Раймонд. – Я обращался к любви женщины, обещавшей быть моею. Ведь любовь все прощает, и она простила бы меня. Но ты, бросившая мою последнюю отчаянную мольбу в огонь, не прочитав, значит, меня никогда не любила! Грегор Вильмут и ты стоите друг друга; вы оба крепко и твердо держитесь на вершине своей добродетели и без малейшего сострадания сверху вниз смотрите на грешного мечтателя. Вы не понимаете, что это значит, когда на молодой жизни с самого ее начала лежит проклятие и когда все дальнейшее существование есть только борьба с ним. А я это испытал. Прощай!
С этими словами Раймонд повернулся, вскочил в седло, натянул поводья, и лошадь, радуясь полученной свободе, стрелой понеслась по лужайке. Сильно разогнав ее, он снова перескочил через овраг. Во второй раз отважился он на этот прыжок, и во второй раз он удался ему. Всадник не слышал сдавленного крика ужаса, раздавшегося за его спиной; он ни разу не обернулся и еще быстрее помчался в лес.
Анна осталась одна под елями. Ее губы были плотно сжаты, словно от боли или от гнева, а взор устремлен на опушку леса. Над нею тяжело поникли ветви деревьев под своим снежным покровом, а кругом все было неподвижно и бело. Только откуда-то из глубины доносился далекий таинственный шум и шелест, словно там шептались голоса тысячи жизней, заключенных в ледяную оболочку. Жизнь была скована, погружена в глубокий сон, но не уничтожена.
Глава 8
Имение Бухдорф, которое барон Раймонд подарил своему племяннику, находилось в нескольких часах езды от Верденфельса. Уступая последнему в величине и роскоши, оно тем не менее представляло прекрасное дворянское поместье с великолепным господским домом и тенистым парком. Пауль действительно нашел на своем письменном столе дарственную запись за подписью Раймонда и не замедлил осмотреть свою новую собственность. Имение находилось еще в руках арендатора, который сам здесь хозяйничал и жил со своим семейством в господском доме. Новый владелец понимал, что с переселением придется подождать до весны, когда кончится срок аренды. Кроме того, он чувствовал себя обязанным исполнить желание барона и остаться пока в Фельзенеке.
В настоящую минуту Пауль находился в своей спальне, занятый собственным туалетом, которому сегодня уделял особенное внимание. Он подолгу осматривал себя в зеркале, решая, какой выбрать галстук – темный или светлый. Арнольд, помогавший ему одеваться, держал себя теперь с еще большим достоинством: «Ведь мы теперь помещики». Разумеется, он настоял, чтобы молодой хозяин взял его с собой в Бухдорф; там он все подробно осмотрел и нашел, что дядя, делающий такие богатые подарки, в высшей степени достоин уважения.
Вообще со времени той злополучной аудиенции барон Раймонд очень возвысился во мнении старого слуги. Арнольд не только спокойно принял полученный урок, но, казалось, испытывал даже некоторое удовлетворение от сознания, что нашелся человек, внушивший ему такое почтение к себе. С тех пор он всегда отзывался о бароне в самых восторженных выражениях, и ему больше не приходило в голову, что тот «не в своем уме». Верденфельс самым наглядным образом доказал ему его заблуждение.
– Темные перчатки, Арнольд, – приказал Пауль, в ответ на что старик принес светлые и торжественно положил их на туалетный стол.
– Возьмите эти, мой дорогой господин. Светлые перчатки больше идут к вашему костюму и вообще пригоднее, когда делают предложение.
Пауль обернулся и с удивлением посмотрел на него.
– Я? Откуда ты это знаешь? Я ведь не говорил об этом ни слова!
– Точно мне нужно говорить об этом, – возразил Арнольд. – Вы сегодня смотрите на одевание, как на важное государственное дело. Вы заказали экипаж в Розенберг, потому что от продолжительной езды верхом пострадала бы свежесть вашего костюма; затем вы очень возбуждены: уже за десять шагов можно догадаться, что вы – жених.
– Вот как! – сказал Пауль, сердясь, но не возражая.
– Я предвидел это с того момента, как узнал, что наша спутница из Венеции живет здесь по-соседству, – продолжал старик. – Вы же были в высшей степени влюблены в нее, и я стою на своем: вы собираетесь жениться.
– В самом деле? И ты даешь мне позволение? – со смехом воскликнул молодой человек. – Я забыл спросить тебя об этом.
Арнольд пожал плечами.
– К сожалению, вы никогда не спрашиваете меня, но вкус у вас недурен, надо сказать правду. Госпожа фон Гертенштейн прекрасная дама, и по всему видно, что она очень умна, а нам это пригодится, потому что хотя мы теперь и владельцы Бухдорфа, но далеко еще не разумны.
– Арнольд, я серьезно требую большего уважения к себе, – разгорячился Пауль, в качестве помещика вдвойне сознававший всю неуместность подобных нравоучений.
Вспомнив сцену у дяди, он, подобно ему, также принял важную осанку, устремив уничтожающий взгляд на старого поверенного своих тайн, но потерпел поражение.
– Не смотрите так, мой господин, – сказал Арнольд без малейшего почтения. – Вы не умеете подражать вашему многоуважаемому дяде. Тот совсем иначе взглянет, да так, что тебя бросает то в жар, то в холод. Он не скажет ни слова, а ты чувствуешь, что ничего не остается делать, как только почтительно поклониться. Вы же напротив…
– Ты думаешь, я так не умею? – продолжал горячиться Пауль. – Арнольд, моему терпению пришел конец! На будущее время я прибегну к строгости, чтобы удержать тебя в границах, заметь это. А теперь ступай! Я сам оденусь!
Вместо того, чтобы послушаться, старик быстро подошел к нему и стал осматривать его костюм, а затем добродушно добавил:
– Не сердитесь, мой дорогой господин! От этого кровь бросается в лицо, а это вам не идет. Зачем вы надели темный галстук? Он вам не к лицу, с этим согласится и госпожа Гертенштейн, – а кроме того, бант сидит криво.
Затем он спокойно снял с шеи Пауля темный галстук и заменил его светлым.
Молодой человек терпеливо перенес это. Мысль не понравиться в Розенберге испугала его.
– Ты так думаешь? – с сердцем, но заметно тревожась, спросил он.
– Теперь посмотрите в зеркало, – произнес Арнольд торжествующим тоном. – Светлый шелк придает вашему лицу совершенно другой оттенок. Да, что бы вы делали без меня?
Пауль бросил взгляд в зеркало и, казалось, согласился с мнением своего слуги, потому что послушно взял светлые перчатки, которые подавал ему Арнольд. Так как старик «в общем» соглашался на брак своего молодого господина, то соблаговолил принести ему шляпу и верхнее платье и даже проводил до лестницы, где они расстались совсем дружелюбно.
Двухчасовая езда в Розенберг не показалась слишком продолжительной молодому человеку, несмотря на его нетерпение, так как он витал в золотых грезах о будущем. Как владелец Бухдорфа, он мог теперь без дальнейших размышлений предстать перед прекрасной вдовой и просить ее руки. Он, конечно, знал, что должен преодолеть старые предубеждения, связанные с именем Верденфельс, но это не казалось ему серьезным препятствием. Как ни сдержанна была молодая женщина, ее взгляд, так часто и долго на нем останавливавшийся, говорил о глубоком интересе к нему. Пауль не подозревал, что она смотрела подолгу на его лицо потому, что оно напоминало ей черты другого…
Между тем в Розенберге все шло своим обычным порядком. Анна Гертенштейн продолжала и теперь жить в полном уединении, к великому разочарованию соседей, надеявшихся, что по истечении срока траура они опять увидят ее в своем кругу. Поскольку никто, кроме адвоката Фрейзинга и приходского священника Грегора Вильмута, не знал настоящего положения вещей, ее считали богатой и ожидали, что рано или поздно она начнет вести в Розенберге тот пышный образ жизни, какой вела при муже. Между тем глубокий траур, который она продолжала носить, был для нее лишь предлогом отклонять все приглашения.
Утром того самого дня, когда Пауль отправился в Розенберг, к господскому дому подъехал и адвокат Фрейзинг. Он застал в маленьком зале только фрейлейн Гофер и принужден был довольствоваться пока ее обществом. Они не были особенными друзьями, даже наоборот – всегда были готовы к войне. Гофер называла юриста сухим «актовым человеком», в котором не было поэзии, а он шутил при каждом удобном случае над ее суеверием. Фрейлейн Гофер была на самом деле настоящее дитя своей родины и, несмотря на полученное воспитание и образование, твердо придерживалась ее предрассудков. Она и не скрывала этого, что давало повод к постоянным пикировкам между нею и адвокатом. Сегодня же последний был, казалось, в особенно торжественном настроении и наряде: во фраке и в узких лайковых перчатках, с великолепным букетом в руках.
– О, какие чудные розы! – с восхищением сказала фрейлейн Гофер. – Ведь это – редкость в такое время года.
– Госпожа фон Гертенштейн очень любит розы, – отозвался Фрейзинг, бережно положив букет на стол, – и я надеюсь доставить ей удовольствие.
Он говорил, стараясь казаться непринужденным, так как видел, что проницательные глаза фрейлейн рассматривают его наряд, и его несказанно раздражала улыбка понимания, игравшая на ее губах. Он сел, и минуты две спустя между ними уже завязался спор. Гофер высказала неоспоримое утверждение, что сегодня пятница, что дало адвокату повод к нападению.
– По-вашему, это – несчастливый день? – спросил он.
– Насколько мне известно, этот день именно так значится в кодексе суеверий. По крайней мере, я не предприняла бы ничего важного в этот день, – ответила Гофер, пристально глядя на букет.
– А я думаю иначе! – произнес Фрейзинг с ударением. – Я выбираю именно этот день, чтобы доказать отсутствие у меня предрассудков. Необходимо подать пример здешнему населению, которое верит в привидения, в Деву льдов и разное колдовство.
Гофер прекрасно понимала, кого следовало подразумевать под словами «здешнее население», и потому ответила тоном, в котором слышалось раздражение:
– В ваших судебных актах, конечно, ничего не говорится о таких вещах и я позволяю себе находить их вялыми и прозаичными.
– А я осмеливаюсь находить слишком восторженными именно подобные суеверия, – парировал бойкий на язык адвокат.
Фрейлейн покраснела от досады.
– Разумеется, вы – исключительно человек рассудка, и в этом отношении сходитесь с госпожой Гертенштейн. Она тоже вольнодумная женщина.
– К моему великому удовольствию, – подтвердил Фрейзинг.
В это время вошла Анна в сопровождении своей сестры. Лили не дала адвокату времени поздороваться, она подбежала к нему, с любопытством спрашивая:
– Дядя советник, почему вы сегодня так торжественно нарядились?
Это простодушное обращение осталось у Лили с детства, когда Фрейзинг, в руках которого была вея судебная практика в округе, часто посещал дом пастора в Верденфельсе. Он ничего не имел против того, что хорошенькая девушка называла его дядей, но сегодня это обращение смутило его точно так же, как и сам вопрос. Однако он скоро оправился.
– Я должен вести переговоры с госпожой Гертенштейн относительно продажи, но прежде хотел бы переговорить о другом важном деле.
– В таком случае уйдем, Лили, – сказала фрейлейн Гофер, взяв под руку молодую девушку. – Во время деловых разговоров мы лишние. Пойдем!
Лили вполне согласилась с этим и без возражений ушла в соседнюю комнату, но не могла успокоиться, не зная, взял ли Фрейзинг лежавший на столе букет.
– Он хочет испытать свое счастье в пятницу; надеюсь, на сей раз он убедится в значении этого дня, – сказала Гофер, выходя из комнаты.
После этих таинственных слов Лили погрузилась в глубокое раздумье. Фрак «дяди юриста» показался ей подозрительным, и она осталась в соседней комнате, чтобы дождаться окончания переговоров. К сожалению, Гофер заперла дверь, и, таким образом, Лили ничего не было видно, но, приложив ухо к замочной скважине, можно было слышать, о чем говорилось в соседней комнате, и молодая девушка сделала это без малейших угрызений совести.
Фрейзинг начал переговоры, подавая молодой женщине букет.
– Розы розе, – сказал он с натянутой учтивостью, но явно очень довольный комплиментом, который, вероятно, заранее заучил.
Анна благосклонно приняла цветы, но поблагодарила холодно; она привыкла к знакам почтения и внимания со стороны Фрейзинга, а потому сегодняшнее приношение не особенно удивило ее.
– Вам нужно о чем-нибудь важном переговорить со мной? – спросила она, садясь против него. – Дело касается, вероятно, продажи Розенберга?
– Вы ошибаетесь, – ответил адвокат с многозначительной улыбкой. – Напротив, я надеюсь, вам удастся удержать имение по крайней мере как летнее местопребывание, хотя бы вы главным образом и жили в городе.
– Конечно, это было бы очень приятно, но при теперешних обстоятельствах я не считаю это возможным.
– Сударыня, – с большой торжественностью начал Фрейзинг, – вы – вдова!
– Ну да! – сказала Анна, несколько удивленная этим вступлением.
– Я – холостяк! – продолжал адвокат.
Молодая женщина посмотрела на него с удивлением.
– И это мне известно.
– Жизнь холостяка очень печальна! С каждым годом все более и более я чувствую свое одиночество, бесконечно мечтаю о подруге жизни.
– Господин Фрейзинг, – испуганно перебила его Анна, только теперь поняв значение роз.
Однако адвокат не дал себя перебить и заговорил с такой поспешностью, как будто читал доклад в суде. Он указал на их многолетнее знакомство, на свою обширную практику и значительное состояние, намекнул на свое бескорыстие, с чем приходилось согласиться, так как ему были хорошо известны средства вдовы, и наконец попросил руки молодой женщины.
На лице Анны изобразилось мучительное смущение, она отложила в сторону цветы и сказала с легким упреком:
– Вам следовало избавить нас обоих от этих тяжелых объяснений. Я и не воображала, что мое дружеское обращение пробуждает в вас подобные чувства, в противном случае я не допустила бы этого.
– Вы отказываете мне? – с горьким разочарованием воскликнул Фрейзинг.
– Я питаю к вам глубочайшее уважение, верную дружбу и навсегда сохраню к вам благодарность за советы и поддержку.
– Да, но с этим мне делать нечего, – сказал он с грустью. – Это мне предлагали все дамы, которым я делал предложение.
– Так вы уже не в первый раз делаете предложение?
– В четвертый раз, и всегда вместо согласия получал уважение и дружбу.
Это необыкновенное признание прозвучало так грустно, что Анна едва подавила невольную улыбку.
– Это непонятно! – сказала она, чтобы утешить «жениха». – Такой человек, как вы, с положением и заслугами… Мною руководят совершенно другие соображения.
– Вот в том-то и заключается мое несчастье, что я всегда наталкиваюсь на такие «другие соображения», – вздохнул Фрейзинг. – Первая дама, к которой я обратился, объяснила мне, что может любить только художника, юрист же пользуется только ее глубочайшим уважением; вскоре после того она обручилась с молодым художником. Вторая дама поведала мне свое намерение поступить в монастырь и предложила мне свою дружбу. Третья призналась, что уже любит другого, и воспользовалась при этом моей помощью, так как ее родители были против ее выбора; за эту помощь она заверила меня в вечной благодарности. А теперь и вы отказываете мне!
– Неужели я должна за это лишиться верного, испытанного друга? – спросила молодая женщина, протягивая ему руку.
– Нет, этого не будет, – сказал Фрейзинг, борясь с волнением и беря протянутую руку.
И в четвертый раз состоялся несносный обмен уважением и дружбой. Однако, несмотря на все, этот обмен был, видимо, приятен Фрейзингу. После этого он сразу успокоился, а когда Анна накинула шаль и пошла провожать отвергнутого жениха до калитки, у которой остановился экипаж, то, казалось, старые дружеские отношения опять вполне восстановились между ними.
В продолжение их разговора Лили стоило большого труда не выдать себя в соседней комнате; несколько раз у нее появлялось очень сильное искушение громко рассмеяться, но когда экипаж уехал и в комнату вошла Гофер, молодая девушка подбежала к ней, весело крича:
– Пятница дала себя знать! Дядя советник получил отказ, и подумайте только: это уже четвертый!
– Вы подслушивали? – с упреком спросила Гофер.
– Разумеется, – подтвердила Лили, не находившая в своем поступке ничего дурного, и начала изображать подслушанную сцену в смешном виде.
Но это не произвело желанного впечатления. Фрейлейн Гофер наморщила лоб и запретила девушке насмехаться над человеком, заслуживающим полного уважения.
– Но ведь вы его терпеть не можете, – сказала Лили, удивленная таким участием. – Ведь он ваш противник и спорит с вами при всяком удобном случае.
На мгновение фрейлейн смутилась, но сразу же оправилась и сказала назидательно:
– Да, это верно, но не следует желать зла даже своим врагам.
Анна не возвратилась домой, а пошла пройтись по саду; Лили увидела это и побежала за ней. Она тоже накинула легкую накидку и уже дошла до оранжереи, как вдруг заметила, что к дому подъехал второй экипаж, и с удивлением увидела, что из него выходит молодой барон Верденфельс. Молодая девушка знала или, вернее, догадывалась, что этот визит относится исключительно к ее сестре, – глаза Пауля были слишком красноречивы тогда, в доме пастора. Но она думала, что у него найдется приветствие и для его маленькой новой знакомой; и потому невольно приостановилась в ожидании. Однако Пауль не заметил ее, хотя и проходил на близком расстоянии. Выходя из экипажа, он сейчас же заметил стройную фигуру на другом конце сада, и его взор был прикован исключительно к ней одной, все прочее для него не существовало. Пауль не вошел в дом, а отыскал молодую женщину в саду, при этом его лицо сияло, как будто уединение, в котором он застал Анну, было давно желанным счастьем.
Лили опустила голову; ей уже не хотелось идти к сестре и принимать участие в разговоре, в котором она была лишней. Ее даже не заметили… Она тихонько остановилась за колонной оранжереи. На сей раз она не хотела подслушивать, да это было бы и невозможно на таком большом расстоянии, но она могла видеть и сестру и Пауля Верденфельса, когда они ходили по аллее, а им и в голову не приходило, что за ними следят. Разговор продолжался долго и, в противоположность разговору с Фрейзингом, казался очень серьезным.







