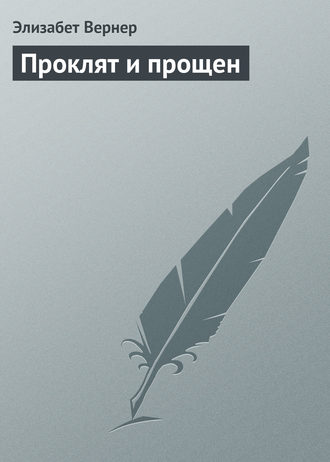
Элизабет Вернер
Проклят и прощен
После этого Раймонд бросился в другую крайность: стал избегать тех знакомств, к которым еще недавно так стремился, и повел уединенную жизнь в Фельзенеке, представлявшем теперь вместо прежних руин прелестный уголок. Верденфельс и прочие замки были оставлены. Их содержание ежегодно стоило колоссальных сумм, хотя ими никто не пользовался, никто даже не посещал их. К счастью, постройки находились под внимательным и добросовестным надзором. Об этом позаботился старый барон, который был хорошим хозяином, а так как все прежние служащие, получая приличное жалованье, охотно остались на службе у молодого барона, то управление делами шло по-прежнему. Верденфельские владения подымались в цене и приносили все больше и больше дохода, а владелец их с каждым годом все теснее замыкался в своем одиночестве и наконец совсем отрекся от света и жизни. Поэтому соседи немало удивились, узнав, что в Фельзенеке появился гость.
На Пауля Верденфельса смотрели как на вероятного наследника, поскольку он был единственным представителем рода; все знали, впрочем, что барон Раймонд окончательно порвал какие бы то ни было родственные связи. Так держал он себя до сих пор и по отношению к новому родственнику, и внезапный вызов племянника истолковывали, как новый каприз барона. Все жалели молодого человека, который принужден был покинуть прекрасную Италию и своих друзей, чтобы составить компанию своему дяде-человеконенавистнику в этом уединенном замке, где ему приходилось жить в качестве почти пленника, так как само собой подразумевалось, что ему не позволят входить в какие-либо отношения с соседями.
Пауль, наоборот, склонен был видеть в этом, как ему сперва казалось, незаслуженном наказании один из тех счастливых случаев, которым всегда завидовал его друг Бернардо.
С тех пор как он узнал, что его прекрасная дама находится вблизи замка, он не променял бы пребывание в Фельзенеке ни на что другое.
На время он оставил в покое и охоту на серн, и знакомство с библиотекой замка, но зато очень спешил переговорить о своих делах с адвокатом Фрейзингом, на которого указал ему дядя. Этот господин знал о предстоящем приезде госпожи фон Гертенштейн, следовательно, он был знаком с ней и поэтому оказался самой интересной личностью в глазах молодого барона, сделавшего ему визит на следующий же день.
Фрейзинг, высокий и худощавый человек лет сорока, с довольно приятным, но несколько сухим лицом, принял своего нового клиента, которого, по-видимому, ожидал, в кабинете. Благодаря великодушию барона, ближайший и довольно неприятный вопрос, вызвавший это посещение, был скоро улажен, однако адвокат не мог удержаться, чтобы не покачать укоризненно головой, когда требуемая сумма была названа. Но так как ему было отдано распоряжение безотлагательно уплатить по всем долговым обязательствам Пауля фон Верденфельса, он попросил только назвать ему имена и дать адреса. Пауль с готовностью сообщил необходимые сведения и со вздохом облегчения выслушал уверение в том, что требуемые суммы будут немедленно уплачены. На этом деловые переговоры закончились.
Тогда молодой человек пустил в ход всю свою любезность, перейдя с делового на дружеский тон, и это легко удалось ему. Он сказал, что будучи здесь еще совсем чужим, но, намереваясь долго пробыть у дяди, хотел бы сориентироваться в этой местности. В Фельзенеке трудно найти случай завязать знакомство, поскольку там ведут чрезвычайно уединенный образ жизни, но советник юстиции несомненно знаком с соседними помещиками и, вероятно, по своей любезности не откажется сообщить некоторые сведения о них.
Фрейзинг действительно оказался любезным. К счастью, он не был столь молчалив, как старый дворецкий и не видел ничего дурного в том, чтобы дать молодому человеку, интересовавшемуся своим соседством, все необходимые сведения.
Пауль принялся сначала расспрашивать о помещиках, до которых ему не было решительно никакого дела, и терпеливо выслушивал ответы, казавшиеся ему очень скучными, пока наконец не дошел до того вопроса, который единственно только и интересовал его.
– Я заметил еще одно маленькое поместье, – продолжил он с напускным равнодушием. – Оно лежит приблизительно на расстоянии часа пути от Верденфельса и, если не ошибаюсь, принадлежит какой-то вдове.
– Вы говорите про Розенберг? – спросил адвокат. – В настоящее время им владеет госпожа фон Гертенштейн.
– Совершенно верно! Я случайно познакомился с этой дамой в Венеции; наше знакомство было довольно поверхностным, но все-таки, видимо, следует сделать ей визит в Розенберг. Вы с ней знакомы?
Адвокат с достоинством поднял голову.
– И даже очень близко знаком! Я имею честь быть поверенным в делах владелицы Розенберга. Вообще между нами существуют самые дружеские отношения, так как я знал ее еще до замужества.
Пауль, признав необыкновенную любезность адвоката, быстро придвинул свое кресло поближе к нему и спросил:
– Вы, значит, друг этой семьи? А госпожа Гертенштейн уже давно вдова?
– Приблизительно около года. Президент Гертенштейн скончался позапрошлым летом.
– Президент Гертенштейн? – с удивлением повторил Пауль. – Я припоминаю, что читал тогда в газетах извещение о его смерти, но… он, кажется, умер на семьдесят третьем году?
– Да, разница в летах между ним и его женой была весьма значительная. Ей едва минуло восемнадцать лет, когда она выходила за него замуж.
– За такого старика! Но, Боже мой, что могло принудить ее к такому браку?
Фрейзинг смущенно улыбнулся.
– Это нетрудно угадать. Молоденькая сирота незнатного происхождения, без всяких средств, живущая в постоянной зависимости, редко отказывается от подобной партии. Президент был дворянин, слыл богачом и занимал в обществе высокое положение. Он мог предложить своей супруге блестящую судьбу.
– Так! Значит, это был брак по расчету? – медленно произнес Пауль.
– По крайней мере брак по рассудку. Молодая дама – родственница верденфельского пастора, который и рекомендовал ее тогдашней владелице Розенберга, фрейлейн фон Гертенштейн. Этой старой, болезненной даме была предписана поездка в Италию, и она искала себе компаньонку на время своего пребывания там. По ее возвращении из Венеции, ее брат, президент, уже много лет перед тем овдовевший, приехал на несколько недель в имение сестры, познакомился там с красивой компаньонкой и был до такой степени очарован ею, что предложил ей свою руку. Последняя и была немедленно принята. Через три месяца в Розенберге состоялось их бракосочетание.
– И этот неравный брак оказался счастливым?
– Очень счастливым! Молодая женщина играла в столице блестящую роль, а ее супруг, необыкновенно гордившийся ею, с расточительной щедростью исполнял малейшее ее желание.
– От подобного брака она, разумеется, ничего иного, кроме блеска и роскоши, не могла и требовать! – сказал Пауль с легким оттенком горечи. – А после смерти своего мужа она снова живет в Италии?
– Нет, она вернулась в Розенберг и лишь недавно уезжала на некоторое время. Ее ожидают сюда послезавтра.
– В таком случае я немного отложу свой визит, – произнес молодой человек, поднимаясь с места. – Но я злоупотребляю вашим временем.
Фрейзинг улыбнулся.
– Пожалуйста, господин барон! Я сердечно рад лично познакомиться с членом семьи Верденфельс. Сегодня это случилось в первый раз, хотя я уже много лет состою поверенным и представителем этой семьи.
– Так и вы не имеете личных отношений с моим дядей? – спросил Пауль, думавший, что, по крайней мере, в этом случае было сделано исключение.
– Нет, я еще не имел чести видеть барона, хотя во всем, что касается его дел, он удостаивает меня своим безусловным доверием. Он получает от меня письменные доклады и точно так же присылает мне письменные указания. В этом отношении ваш дядюшка поступает несколько оригинально.
– Да, он очень своеобразен! – со вздохом согласился молодой человек. – Но что касается моих личных дел…
– Они будут немедленно приведены в порядок, положитесь в этом на меня, барон! Не позже, чем через две недели, я представлю вам все расписки.
Пауль поблагодарил и простился. Он получил страстно желаемые сведения и не хотел сознаться себе в том, что эти сведения привели его в смущение, которое он не мог побороть.
Восемнадцатилетняя девушка, красивая и привлекательная, добровольно отказывающаяся от лучшего и святейшего преимущества юности – любить, и отдающая руку старику лишь для того, чтобы пользоваться богатством! Пауль Верденфельс был легкомыслен и часто поддавался чужому влиянию, но в его груди билось горячее юношеское сердце, и за все богатства дяди он никогда не продал бы себя подобным образом. Он опять почувствовал, будто на него пахнуло холодом, как тогда на пароходе, когда красивая молодая женщина с ледяным равнодушием отнеслась к «юношеским мечтам». В его ушах опять зазвучали ее суровые слова: «Жизнь создана не для мечтаний. Надо смело смотреть ей прямо в глаза и полагаться только на самого себя».
Глава 4
Розенберг не принадлежал к крупным поместьям, это была маленькая дача, расположенная в очаровательной местности у подножия горы, одна из тех дач, какие охотно выбирают для летнего местопребывания. Правда, покойная владелица жила в нем из года в год, но после ее смерти дом долго оставался необитаем, под присмотром прежней компаньонки, которая, после выхода замуж теперешней госпожи Гертенштейн, заняла ее место и которую старушка не забыла в своем завещании. Президент и его супруга, жившие в резиденции, никогда не приезжали на полученную ими в наследство дачу, и, только овдовев, молодая женщина перебралась сюда.
Небольшой дом, стоявший среди обширного сада, не мог претендовать ни на особую красоту, ни на аристократический вид, но был уютен, удобен, поместителен и производил очень приятное впечатление своими белыми стенами и светлыми окнами.
В маленькой гостиной, сохранившей, как и все остальные комнаты дома, свою прежнюю, довольно старомодную, но удобную обстановку, хозяйка Розенберта слушала объяснения сидевшего напротив нее поверенного Фрейзинга. Перед ним были разложены бумаги, с содержанием которых он, по-видимому, знакомил молодую женщину. В некотором отдалении от них, у окна, стоял другой господин, в одежде пастора. Это был человек лет сорока, с резкими и выразительными чертами лица, отражавшего незаурядный ум и в то же время непреклонную суровость. Гладкие темные волосы обрамляли высокий лоб, на котором уже появились морщины, а темно-карие глаза обладали проницательным взором, который привык читать в душе человека, как в открытой книге. Пастор не принимал участия в разговоре, но вся его поза ясно свидетельствовала, что он внимательно следит за происходящим и так же интересуется им, как и сами разговаривающие.
– Пока это дело можно считать поконченным, – сказал адвокат, собирая бумаги. – Я точно следовал вашим предписаниям и уплатил по всем счетам. Теперь остается только одна значительная сумма. Я очень жалею, что мне не удалось прийти к полюбовному соглашению с вашим кредитором, и вы пожелали взять это дело в свои руки. Но привело ли в ваше путешествие к желаемому результату?
– Да, – произнесла госпожа Гертенштейн, беря протянутые ей бумаги. – Я не застала своего кредитора дома и вынуждена была поехать за ним в Венецию; там при личных переговорах мне удалось добиться того, что не удавалось сделать письменно. Он согласился удовольствоваться пока закладной на Розенберг и дает мне отсрочку на год, а до тех пор, может быть, удастся продать Розенберг.
– Вы хотите продать Розенберг? – с удивлением спросил Фрейзинг. – Но ведь он не принадлежит к наследству, оставленному президентом, а составляет вашу личную собственность. Ведь покойная фрейлейн фон Гертенштейн по своему духовному завещанию оставила его лично вам, и никто не может заявлять на него права.
– Я это знаю, – возразила молодая женщина, – но считаю своим долгом отдать все, что имею, ради чести и доброго имени моего мужа. Я добровольно предложила кредитору Розенберг.
Фрейзинг неодобрительно покачал головой.
– Простите меня, но вы поступили необдуманно. Будучи уже давно вашим поверенным, я осмеливаюсь напомнить, что вами было уже принесено довольно жертв, гораздо больше, чем принесла бы всякая другая женщина на вашем месте. Пенсия, назначенная вам правительством, очень невелика, ее едва достанет на самое необходимое. Розенберг – ваше последнее прибежище и единственный источник дохода в будущем.
– Но этим я покрою последнее из долговых обязательств, я хочу освободиться от них во что бы то ни стало. Никакая жертва не кажется мне непосильной, чтобы сохранить наше имя незапятнанным.
Адвокат собирался возразить ей, но в этот момент в разговор вмешался священник.
– Моя кузина права, – сказал он тоном, не допускающим возражений. – Вступаясь за память своего мужа, она лишь исполняет свой долг. Нам приходится смотреть на это дело не с одной только деловой точки зрения.
– Ну, если против меня выступает сам пастор Вильмут, то мне остается только замолчать, – немного обиженно произнес Фрейзинг. – Все-таки я не отказываюсь от своего совета, имея в виду лишь ваше благо.
– Я в этом никогда и не сомневалась, – заметила молодая женщина, протягивая ему руку, – я всегда видела в вас верного и надежного друга.
Фрейзинг с рыцарской вежливостью поднес красивую руку к своим губам, и его сухие черты немного оживились. На тонких губах пастора при этом проявлении благоговейного уважения промелькнула не то насмешливая, не то презрительная улыбка; он отошел от окна и приблизился к собеседникам.
– Следовательно, весь вопрос теперь в том, чтобы продать Розенберг как можно выгоднее, – проговорил он, продолжая начатый разговор. – Мы рассчитываем на вашу помощь, а так как впереди у нас еще целый год, то можно надеяться, что продажа не представит особенных затруднений.
– Я сделаю все, что в моих силах, вы можете положиться на меня, ваше преподобие, – сказал адвокат, вставая и берясь за шляпу.
– Разве вы не останетесь обедать? – спросила госпожа Гертенштейн. – Я, по обыкновению, рассчитывала на это.
– На этот раз я попрошу вас извинить меня – есть неотложные дела, призывающие меня в город, – возразил Фрейзинг, которому было явно нелегко отказаться от приглашения.
Он, очевидно, намеревался еще раз поцеловать руку хозяйке, но его стеснял острый и насмешливый взгляд пастора, и он ограничился простым рукопожатием.
Госпожа Гертенштейн снова села и принялась перелистывать оставленные ей бумаги. Вильмут подошел к ней, взял одну из бумаг и, просмотрев ее, произнес:
– Да, действительно немаленькие суммы. Я не понимаю, Анна, каким образом тебе удалось уплатить по всем этим обязательствам?
– У меня было много драгоценностей, – спокойно ответила она, – а бриллианты всегда сохраняют свою ценность. Правда, я продала все драгоценности до последней, но по крайней мере этого оказалось достаточно.
– Да, президент осыпал тебя дорогими подарками и ради тебя сделал из своего дома храм роскоши. Он положил все к ногам своей обожаемой молодой жены, однако все это было куплено на чужие деньги, а ты спокойно принимала это.
В последних словах слышался суровый упрек, но молодая женщина стала защищаться с полнейшим хладнокровием:
– Я никогда в точности не знала имущественного положения своего мужа и, вступив в его дом совсем бедной, разумеется, не могла расспрашивать его о средствах. Он оставлял меня в убеждении, что очень богат и что наш образ жизни вполне соответствует его средствам. Я не подозревала, что то имущество, которое он унаследовал от сестры, составляло его единственное достояние; его, впрочем, все же хватило бы на покрытие всех долгов, но беда в том, что муж потерял эти деньги.
– Благодаря спекуляции! Разумеется, надо было как-нибудь добывать так безумно расточаемые деньги, и вот президент Гертенштейн опустился до роли спекулянта, игрока на бирже!
– Оставим прошлое, Грегор! – серьезно произнесла Анна Гертенштейн. – Я не хочу и не могу слушать обвинения против человека, от которого целых пять лет не видела ничего, кроме доброты; если он и был иногда слаб, то исключительно ради меня.
– Может быть, ради самого себя, – поправил ее пастор, – чтобы удовлетворить собственному тщеславию. Его красивая жена должна была везде быть первой, самой почетной, ему всегда казалось мало того восхищения, которое она возбуждала. Природа наградила тебя опасным даром, Анна, – красотой, которая заставляет всех поклоняться тебе. До сих пор она приносила только несчастье, счастливым же не сделала никого.
– Гертенштейн был счастлив, – с ударением произнесла Анна, – а я, по крайней мере, старалась казаться счастливой.
– Да, вы были образцовой парой: президент не мог достаточно нахвалиться своим счастьем, а тобой все восхищались за твою преданность старику. Может быть, свет не был бы так щедр на похвалы, если бы знал, что именно заставило тебя броситься в объятия старика.
– Не хочешь ли ты поставить мне это в упрек? – В голосе молодой женщины слышался легкий оттенок горечи. – Ты сам ведь советовал мне принять это предложение, положившее конец моим колебаниям.
Пастор посмотрел на нее со странной смесью мрачной печали и холодного, гордого удовлетворения.
– Да, я сделал это, потому что дело шло о том, чтобы освободить тебя от еще худших уз. Ты считала себя сильной, но на самом деле такой не была, и тогда я посоветовал тебе поставить долг между собой и своим прошлым. Я знал, что ты честно отнесешься к этому долгу.
Анна молчала, опершись головой о руку, а Вильмут продолжал:
– Я считал тебя в безопасности рядом с человеком, который по своему возрасту должен был считать своей обязанностью вести спокойную и уединенную жизнь. Вместо того он вместе с тобой погрузился в водоворот светской жизни, со всеми ее искушениями, и гордился твоим триумфом в обществе. Да и ты сама не оставалась равнодушной к нему. Или тебе действительно легко сойти с прежней высоты и примириться с ограниченными средствами?
– Нет, потому что спуститься с прежней высоты всегда немного унизительно, но я сумею без ропота подчиниться неизбежному.
– Я так и думал. Вам, светским людям, блеск и роскошь кажутся жизненной потребностью, с которой трудно расстаться. Составила ли ты какой-нибудь, план относительно будущего? Что ты будешь делать, когда Розенберг будет продан? Надеюсь, ты предоставишь мне подыскать для тебя подходящее местопребывание.
– Благодарю тебя за предложение, – холодно ответила молодая женщина, – но лучше будет, если я сама позабочусь об этом. По данному вопросу у нас легко могут оказаться различные мнения, а ведь ты всегда требуешь безусловного подчинения твоей воле. Я помню это еще с того времени, когда жила в твоем доме.
– Ну, ты-то никогда не знала такого подчинения, – резко ответил пастор. – В тебе всегда был силен дух противоречия, который я не мог сломить, несмотря на всю свою строгость, а то, что мне не удалось с Анной Вильмут, я вряд ли добьюсь от госпожи президентши Гертенштейн. Ты приобрела большую самостоятельность возле мужа, который был только покорным исполнителем твоих желаний. Совершенно безразлично, где именно ты поселишься в будущем, но ты должна устроиться так, чтобы избегать нежелательных встреч, на которые можешь натолкнуться здесь, в Розенберге. Близкое соседство того…
– Грегор!..
В этом восклицании в одно и то же время прозвучали и гнев и страх.
Вильмут остановился, но между бровями у него залегла мрачная складка.
– Ну? – спросил он после некоторого молчания.
– Ведь ты тогда же обещал мне, что между нами никогда не будет речи об этом… Не забывай же своего обещания!
Пастор не сводил пристального взора с прекрасного, сильно побледневшего лица, взора, проникающего до самой глубины души.
– Ты еще не справилась с этим? – медленно произнес он наконец. – Все еще нет?
Глубокий вздох вырвался из груди молодой женщины.
– Ты же знаешь, что с этим покончено! Я подчинилась твоей воле и думаю, что ты можешь быть доволен мною.
– Моей воле? Как будто ты когда-либо подчинялась чьей бы то ни было воле! Ты подчинилась только той беспощадной истине, которую я тебе открыл. Больше я ничего не сделал, я только открыл тебе глаза, а ты даже не поблагодарила спасшего тебя врача, ты предпочла бы остаться слепой.
– Ошибаешься, – беззвучно проговорила Анна, – я благодарна тебе за это – даже и теперь.
Вильмут собирался что-то ответить, как вдруг дверь быстро распахнулась, и в комнату влетела молоденькая девушка в пальто и шляпе; ее длинные косы не были подколоты, а свободно спускались вдоль спины, и совсем еще детское личико сияло радостью и задором.
– Вот и я опять! – звонко крикнула она. – Какая это была веселая поездка! Мы доехали почти до самого заколдованного Фельзенека и чуть-чуть… – Она вдруг остановилась, заметив пастора, и продолжала сразу изменившимся, тихим голосом: – Ах, ты здесь, кузен Грегор! Я вам помешала?
– Да, Лили, ты мешаешь! – холодно ответил он. – Вообще нельзя вбегать в комнату таким сорванцом. Когда же наконец ты выучишься вести себя, как подобает взрослой девушке?
Лили поспешно уселась рядом с сестрой, дерзко, хотя и немного испуганно поглядывая на строгого двоюродного брата. Но страх, по-видимому, все-таки взял верх, потому что она не решилась ему возражать. Вместо нее заговорила Анна:
– Лили всего шестнадцать лет. Предоставь ей еще по-детски радоваться и шалить! Она всегда успеет познакомиться с серьезной стороной жизни.
– Ты балуешь сестру, – укоризненно проговорил Вильмут. – Вместо того чтобы подготовить ее к этой серьезной стороне жизни, ты позволяешь ей по целым дням ребячиться. Тебе следовало бы оставить ее под моим присмотром, это было бы ей весьма полезно.
При последних словах молодая девушка вздрогнула и с таким страхом взглянула на сестру, что та обняла ее, как бы желая защитить, и сказала, обращаясь к кузену:
– Нет, Грегор, я не расстанусь со своей маленькой Лили, как бы ни изменились обстоятельства.
Пастор пожал плечами.
– Рано или поздно ты должна будешь сделать это, особенно если на Розенберг не найдется очень выгодного покупателя. Но мне пора идти. Прощай, Анна!
Пастор протянул сестре руку и вышел, не удостоив Лили даже легкого поклона.
Девушка, по-видимому, была очень рада, что избавилась от его дальнейших наблюдений. Она при последних словах пастора начала снимать пальто и шляпу. Но едва только затворилась дверь за наводящим на нее страх человеком, как шляпа полетела на диван, а на личике Лили появилось жесткое выражение.
– Если бы я только знала, что Грегор здесь, я ни за что не вошла бы, – заявила она. – Когда я вижу, что он направляется в Розенберг, мне всегда хочется убежать на самый верх Гейстершпица, чтобы только не встретиться с ним.
– Лили! – с упреком в голосе остановила ее старшая сестра.
Однако в своем гневном возбуждении Лили ничего не хотела слушать и продолжала с прежней горячностью:
– А ты разве любишь его? Ты боишься его, как боятся решительно все, а между тем ты – единственный человек, которому он разрешает иметь свою волю и свое мнение. Он весь Верденфельс держит в ежовых рукавицах. Никто из крестьян не решается ничего предпринять без его совета, что бы он ни приказал, все слепо повинуются ему. Если бы ты действительно захотела снова отдать меня под его надзор… ух, при одной мысли об этом меня охватывает дрожь!
– Какой ты глупый, неблагодарный ребенок! – упрекнула ее молодая женщина. – Разве ты забыла, что сделал для нас Грегор, когда мы осиротели и у нас никого не осталось на свете, кроме него? В то время его доходы были крайне ограничены, и ему приходилось содержать свою мать, но все-таки он без малейшего колебания принял нас к себе и стал заботиться о нас. Ты, конечно, не могла тогда понять этого: тебе едва минуло шесть лет.
– Только потому я и могла выносить такую жизнь, – объявила Лили. – Я была тогда еще слишком мала и незначительна, чтобы ему захотелось удостоить меня своим личным надзором. Он вполне предоставил меня тете, а когда она умерла и я стала объектом его воспитания, тогда ты, да мое счастье, вышла замуж и поместила меня в институт. Но ты с самого начала пользовалась особенным попечением Грегора. Я совершенно не могу понять, как ты все это выдержала. Я решительно не была бы в состоянии вынести подобную пытку.
– Да, тебя раздавила бы эта железная рука, – серьезно сказала Анна. – Я из более прочного материала, и подобное обращение со мной, имело, должно быть, и свою хорошую сторону: оно научило меня серьезно относиться к жизни.
– Ты тоже умеешь иногда быть суровой – этому ты научилась у Грегора. Но всего суровее ты всегда относилась к самой себе.
– А к тебе?
– Нет, Анна! Я вовсе не то хотела сказать! – воскликнула молодая девушка, обвивая руками шею сестры, которая нежно прижала ее к себе.
Обе сестры очень походили друг на друга, и тем не менее резко отличались одна от другой. Маленькая миловидная Лили была лишь по плечо своей высокой сестре; ее мягкие каштановые волосы были так же густы и такого же цвета, как волосы сестры, но им недоставало прелестного золотистого оттенка волос Анны, точно так же, как ее глаза не имели того красивого разреза, который придавал глазам Анны особую привлекательность. Карие глазки Лили плутовски и по-детски весело смотрели на Божий мир, и на ее юном личике нельзя было прочесть ни энергии, ни силы воли. Старшая сестра была красавицей, и победоносная сила ее красоты сказывалась во всем, младшая была свеженькой, привлекательной девочкой. Они походили друг на друга, как лилия походит на жасмин.
– На что намекал Грегор, говоря о продаже Розенберга? – снова заговорила Лили. – Разве ты собираешься продать его? Я думала, что мы вместе будем жить здесь.
– Мне самой хотелось бы этого, но это невозможно: Розенберг требует крупных хозяйственных затрат, а нам необходимо устроиться скромнее.
– Разве ты не богата? – с наивным удивлением спросила молодая девушка. – Ведь ты так роскошно жила в столице!
– Но я овдовела, – уклончиво ответила Анна. – Большие доходы Гертенштейна прекратились с его смертью, и хотя нам нечего бояться бедности, но все-таки в будущем мы должны во многом изменить свой образ жизни.
К этому заявлению Лили отнеслась вполне равнодушно. Для нее богатство и бедность были пока лишь пустыми словами, настоящего значения которых она не могла понять. О ней всегда заботились, и если жизнь сестры, которую она изредка навещала в резиденции, и казалась ей прекрасной, волшебной сказкой, то безусловная свобода, какой она пользовалась в Розенберге, нравилась ей еще больше. Перемена местопребывания обещала ей новые развлечения, она была еще в том возрасте, когда всякая перемена приветствуется с искренней радостью.
– Мне решительно все равно, куда ехать, лишь бы не к кузену Грегору, – беспечно сказала она. – Но когда же наконец ты снимешь этот глубокий траур, Анна? Тебе только двадцать четыре года, не можешь же ты постоянно ходить в крепе только потому, что ты вдова! Летом уже исполнится год со дня смерти твоего мужа. Нельзя же вечно оплакивать его. Да и он был уже так стар: ему было семьдесят три года!
– Оплакивают, обыкновенно не возраст, а потерю. Разве ты думаешь, что я не любила Гертенштейна?
– О, да, – сказала девушка. – Ведь и дедушек любят, и мне кажется, что твоя любовь к нему была именно такой. Мне, по крайней мере, президент всегда напоминал дедушку, да и тебе, вероятно, тоже, иначе ты не плакала бы так отчаянно в день своей свадьбы.
– В день моей свадьбы? – смущенно спросила молодая женщина. – Ты ошибаешься, Лили.
– О, я говорю не про церковь, там ты была спокойна и холодна, как мраморная статуя. Это было раньше, когда ты думала, что ты одна в комнате. Президент послал меня рано утром в твою комнату отнести великолепный букет, который он для тебя выписал из столицы. Я очень гордилась этим поручением и тихонько вошла в комнату, чтобы застать тебя врасплох за одеванием. Но когда я открыла дверь, то увидела, что белое атласное платье лежит на кресле, рядом с кружевной вуалью и бриллиантами, а ты стоишь на коленях, прижавшись головой к диванной подушке, и плачешь так горько, как будто сердце у тебя разрывается. Я окликнула тебя, тогда ты быстро встала с колен, вытерла слезы и запретила мне говорить об этом.
Тогда я была очень молода и глупа, но все-таки понимала, что тот, кто выходит замуж по любви, не станет так безумно плакать. Я отлично знаю, что Грегор принудил тебя решиться на этот шаг, а потом, вероятно, сам жалел об этом, потому что был бледен, как мертвец, когда венчал вас, и я прекрасно видела, как дрожала его рука, когда он благословлял тебя.
Молодая девушка так и сыпала воспоминаниями о событиях, которые некогда восприняла с острой наблюдательностью ребенка и отчетливо сохранила в своей памяти. И, возможно, она еще нескоро кончила бы, если бы Анна решительно не остановила ее.
– Ты, Лили, лучше молчала бы о том, о чем еще не в состоянии судить. Ты была тогда еще десятилетним ребенком и создала себе чисто ребяческие представления о том, чего и не было. Грегор ни к чему не принуждал меня, да меня и нельзя ни к чему принудить. Он лишь посоветовал мне сделать то, на что я уже раньше сама решилась. Я добровольно отдала руку Гертенштейну, и ни одной минуты не раскаивалась в этом. Раз и навсегда запрещаю тебе подобные глупые рассуждения.
Эти слова были произнесены строгим, почти суровым тоном, и Лили, совершенно не привыкшая к такой строгости со стороны старшей сестры, уже собиралась обиженно заплакать. Однако в этот момент дверь снова отворилась, и в комнату вошла дама лет тридцати с небольшим. Хотя она не могла претендовать на красоту, но казалась очень симпатичной – маленькая, полная, с темными волосами и живыми глазами. С приветливым поклоном она подошла к разговаривавшим сестрам и сказала:
– Мы вернулись позже, чем следовало, но Лили вероятно уже покаялась вам, что в этом виновата одна она.
– Нет, я еще ничего не слышала об этом, – отозвалась Анна, между тем как ее сестра отвернулась, – слегка надув губы. – Я просто думала, фрейлейн Гофер, что вы пробыли у своих родителей больше времени, чем предполагали.
Фрейлейн Гофер, бывшая компаньонка покойной госпожи Гертенштёйн, покачала головой.
– Нет, мы вовремя выехали из лесничества, но фрейлейн Лили не давала мне покоя, пока мы не отослали экипаж и не пошли пешком по лесной тропинке, выходящей у Фельзенека на горную дорогу; а на такой обход надо не меньше часа.
– Ах, мне так хотелось хоть один раз взглянуть на проклятый замок! – воскликнула Лили, при слове «Фельзенек» совершенно позабыв дуться. – За те четыре недели, что я живу здесь, я так много слышала о нем, и если уже никто не смеет пробраться туда, то я должна была по крайней мере увидеть его. Это – настоящий волшебный замок, сказочно великолепный и могучий, но вокруг него царит мертвая тишина, как будто вся жизнь там вымерла. Да и не мудрено – ведь в замке живет заколдованное чудовище, готовое свернуть шею всякому, кто ненароком заберется туда.







