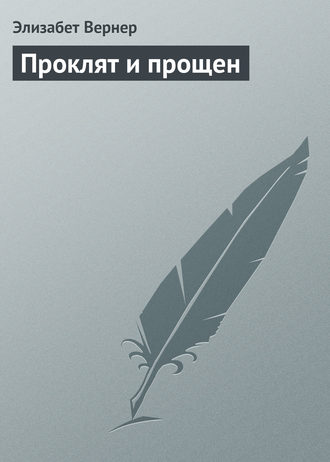
Элизабет Вернер
Проклят и прощен
Глава 14
Прошло еще несколько недель. Зима по-прежнему царила с неослабевающей суровостью, несмотря на то, что уже наступил март. На этот раз тяжелее всего приходилось страдать от нее Верденфельсу и его окрестностям. В селе начались болезни, унесшие несколько жизней и имевшие последствием усиливавшуюся нищету и горе; но и здоровые нуждались в заработке. Ко всему этому грозный призрак всех окрестностей, Дева льдов оказалась сейчас особенно немилостивой. Бури, несущиеся в долину с вершины Гейстершпица, никогда не были так сильны и гибельны, как этой зимой. Лес, принадлежащий приходу и составляющий его главное богатство, был наполовину уничтожен одной из таких бурь, и сильно пострадали отдельно построенные дворы. Даже люди погибали во время снежных ураганов. Словом, это была несчастная зима для Верденфельса.
К счастью, село имело надежную поддержку в своем священнике, который всюду оказывал помощь и всех ободрял. Как ни обширен был его приход, он везде поспевал. Расстояния для него не существовало, никакая жертва не была ему тяжела, и своим словом и примером он умел вызвать на подобные жертвы самых зажиточных крестьян. Но всего этого было недостаточно для борьбы со все возрастающей нуждой; а единственный человеку чья помощь была бы так же неограниченна, как и его средства, был отлучен от церкви, и никто не решался что-нибудь принять от него.
Раймонд Верденфельс после глубоко оскорбительного отказа крестьян действительно прекратил дальнейшие попытки к сближению, но не сдался. Он остался в Верденфельсе, продолжая бороться с враждебностью, становившейся тем более грозной, чем больше ее поддерживало суеверие. Уже много лет в этой местности царили относительный мир и благоденствие, но с тех пор как владелец Фельзенека приехал из своего горного замка, несчастье следовало за несчастьем. Полоса бедствий началась той бурей, которая сопровождала его приезд, и продолжалась все время, пока он был в замке. А ведь он и раньше уже причинил гибель селу.
Эту уверенность разделяло решительно все село Верденфельс, от самого богатого крестьянина до беднейшего поденщика. Они ненавидели барона, когда он пытался оказывать им благодеяния. Теперь же, когда он с мрачной сдержанностью ничего не предлагал, они еще больше возненавидели его. Отношение к нему крестьян было насквозь проникнуто несправедливостью, присущей нищете и суеверию. При каждом новом ударе судьбы взоры всех обращались к замку, как будто там надо было искать источник бедствий. Во всяком случае, имелось достаточно оснований для удрученного настроения, поскольку поездка пастора Вильмута в столицу не имела ожидаемого успеха, он не привез своим духовным детям разрешения, в котором они были так уверены.
Вильмут на деле познакомился с бесконечными затруднениями, которые ему предсказывал инженер, и хотя в селе он пользовался безграничным влиянием, в городе должен был убедиться, что в правительственных учреждениях к нему относятся как к любому другому просителю. Даже вмешательство епископа оказалось бессильно, поскольку уже стало известно о предложении барона Верденфельса и об отказе крестьян. Вильмуту не раз пришлось выслушать, что его приход, очевидно, богат, если отказывается от столь щедрого дара, а значит, может устроить плотину на свои собственные средства, тогда как помощь правительства пригодится для более нуждающихся местностей.
Таким образом нельзя было отрицать, что отказ крестьян оказал дурное влияние на переговоры о плотине. Решение вопроса было отложено, данные прежде заверения частью взяты обратно. Вильмут не добился ничего, кроме обещания, что дело будет рассмотрено еще раз, но рассмотрение было отложено на неопределенное время, и об ускорении его не было и речи.
Анна Гертенштейн, имение которой тоже принадлежало к верденфельскому приходу, принялась энергично хлопотать, чтобы облегчить всеобщую нужду. Она первая последовала примеру своего двоюродного брата и всюду была возле него, помогая и ободряя. Теперь только выяснилось, как похожи эти два характера. Холодные и суровые, когда дело шло о чувствах человеческого сердца, они удивляли своей энергией, самопожертвованием и преданностью делу, когда в нем возникала истинная необходимость. Вполне естественно, что общее уважение, которым пользовался пастор, отчасти распространилось на молодую женщину, а Вильмут, властвовавший над всем единолично, ей одной дал место рядом с собой.
Однажды Анна с сестрой опять приехали из Розенберга. Обе они сидели с Вильмутом в его кабинете, рассуждая о необходимой помощи, на которую не было средств. Лили никогда не принимала участия в подобных разговорах, да ей и не позволили бы вмешиваться, поэтому она и теперь одиноко стояла у окна. Вдруг она сильно покраснела, отвечая на чей-то поклон, и, обернувшись, сказала смущенным голосом:
– Грегор, мне кажется… мне кажется… к тебе идут с визитом: молодой барон Верденфельс сейчас вошел в твой дом.
– Пауль Верденфельс? Не может быть! – воскликнул Вильмут.
Но глаза девушки не обманули ее. В сенях уже слышался голос молодого барона, спрашивавшего, дома ли священник, и прислуга пригласила его в гостиную, где священник обычно принимал посторонних.
– Что ему надо? – спросил Вильмут, вставая. – Я думал, что между замком и пасторатом больше не существует никаких отношений. Все-таки выслушаю, что он скажет… Анна, ты подождешь здесь, пока я вернусь?
Молодая женщина молча кивнула головой, и Вильмут ушел.
Хотя он закрыл за собой дверь кабинета, отделявшегося от гостиной маленькой комнатой, но вторая дверь осталась открытой, и если вначале ничего нельзя было понять из его разговора с Паулем, то вскоре они заговорили так громко и взволнованно, что стало слышно каждое слово.
Пауль уже находился в гостиной, когда вошел священник, приветствовавший его холодным, сдержанным поклоном.
– Ваше преподобие, вы удивлены, видя меня здесь? – начал молодой барон. – Меня привело к вам нечто чрезвычайное.
– Я так и предполагал, – сказал Вильмут так же холодно и сдержанно, предлагая гостю сесть, но Пауль, казалось, не заметил этого и продолжал говорить стоя.
– Мой дядя не знает об этом моем посещении. Едва ли бы он согласился, чтобы я переступил порог вашего дома, сознаюсь, что мне это очень тяжело при существующих отношениях. Но теперь происходят вещи, вынуждающие меня откровенно поговорить с вашим преподобием. Я пришел напомнить вам, чтобы необходимо наконец сказать слово примирения в споре между жителями Верденфельса и его владельцем. Теперь вам более, чем когда-либо, пора выполнить свою обязанность Духовного лица.
Вильмут смерил с головы до ног молодого человека, осмелившегося говорить подобным образом, и возразил:
– Я не привык, чтобы мне напоминали о моих обязанностях, тем более люди вашего возраста. То слово, которого вы ждете, должен произнести владелец Верденфельса. Если он серьезно желает мира, то он найдет его, если же нет, то…
– Мой дядя много раз предлагал селу мир, – перебил его Пауль, – но ему каждый раз отвечали оскорблениями. С людьми, которые скорее готовы терпеть нужду и голод, чем принять руку помощи, которые жертвуют собственной безопасностью и безопасностью своей родины, чтобы только не принять предложенной поддержки, вообще нельзя бороться. Они или действительно непримиримы, или являются слепым орудием чужой воли.
Он резко подчеркнул последние слова.
Вильмут слушал его с удивлением и негодованием. При первой встрече он отнесся свысока к молодому человеку, голова которого тогда была полна мечтами о прекрасной спутнице и который показался ему пустым малым. Теперешнее решительное выступление удивляло пастора, но он был слишком преисполнен сознанием превосходства сил, чтобы слова Пауля могли поколебать его, а потому возразил:
– Вы ошибаетесь! Отклоняя предложение барона, мои прихожане действовали по собственному побуждению. Я, конечно, не скрывал от них своего мнения, что дар из такой руки не может принести счастья и что приход сделает лучше, если будет доверять только собственным силам.
– А отказ принес им какое-нибудь счастье? Впрочем, дело не в том, а в постоянных нападках на нас, которые с каждым днем принимают все более наглый и угрожающий характер. С тех пор как уничтожение нашего прекрасного кедра прошло безнаказанно, наши сады систематически опустошаются. Не проходит недели, чтобы не было испорчено редкое дерево или дорогой куст, так как все знают, что барон дорожит этим украшением парка. Даже в оранжерею сумели пробраться ночью, чтобы нанести ей вред, а третьего дня только бдительность конюха спасла главную конюшню; вероятно, задуманное покушение относилось к. любимой лошади дяди. Думаю, что вы об этих делах осведомлены, ваше преподобие?
– Неужели вы думаете, что я одобряю подобные поступки или покровительствую им? Наказывать их мне не позволяет мой сан. На что же у барона управляющие и слуги? Пусть он расследует это дело и велит со всей строгостью наказать виновных, я не буду мешать ему в этом.
– В том-то и дело, что он не хочет никаких расследований и наказаний, – вспылил Пауль. – Я быстро напал бы на след тайных разорителей, но дядя не разрешает мне этого.
– У него есть на то свои причины, – холодно сказал Вильмут. – И если он не осмеливается призывать виновных к ответу, то вы лучше всего сделаете, если последуете его примеру.
– Раймонд – не трус! – горячо воскликнул Пауль. – Как часто я просил его вернуться в Фельзенек, где он в безопасности от этих безобразий! Но все было напрасно. Он остается здесь и подвергает себя опасности с настойчивостью, за которую поплатится жизнью.
Вильмут пожал плечами.
– Вы преувеличиваете. О такой опасности не может быть и речи. Как бы злобны ни были эти выступления, которые, повторяю, я осуждаю самым строгим образом, но личной безопасности барона ничто не угрожает.
– Вы в этом твердо убеждены?
– Да, убежден.
– Так я вам скажу, что уже два раза пытались испугать лошадей, запряженных в коляску дяди, когда он ехал в Фельзенек, и именно в опаснейшем месте дороги, возле самой реки. А сегодня утром, когда мы ехали верхом мимо водяной мельницы, из засады вылетел увесистый булыжник, брошенный твердой рукой. Если бы лошадь инстинктивно не сделала прыжок в сторону, голова Раймонда была бы размозжена. Вы видите – это в связи с тем, что вы называете «выступлениями». Сегодня камни, а завтра – пули, которые, вероятно, будут более меткими. Здесь каждый крестьянин и, каждый батрак прекрасно умеет обращаться с ружьем.
При этих словах Вильмут побледнел, обычное спокойствие покинуло его; в порыве ужаса он отступил назад и резко и уверенно произнес:
– Вы правы, этому надо положить конец. Я не думал, что ненависть зашла так далеко. Но – эти нападки более не повторятся – даю вам слово.
– Так вы можете положить этому конец? – с горьким упреком сказал Пауль. – И решаетесь на это только ввиду покушения на жизнь?
К Вильмуту уже вернулось обычное самообладание, и его голос прозвучал по-прежнему невозмутимо, когда он ответил:
– Я живу в Верденфельсе уже двадцать лет и лучше могу судить о здешних условиях, нежели вы, живущий здесь всего несколько месяцев. Вам могут казаться возмутительными эта ненависть и вражда народа, но я объясню вам, что так приводится в исполнение приговор человеку, который не хотел подчиниться другому приговору. Не спрашивайте меня, почему я раньше не вмешивался, в противном случае я буду вынужден разоблачить перед вами такие вещи, о которых вы не имеете понятия.
Пауль презрительно рассмеялся.
– Говорите, что угодно. Я знаю нелепую сказку, которую связывают с пожаром Верденфельса. Ее рассказывают в окрестностях довольно громко, она дошла и до моих ушей, но ведь вы не требуете, чтобы я верил ей?
– Я требую, чтобы вы об этом спросили самого барона. Выслушайте сперва его ответ и тогда продолжайте вышучивать «нелепую сказку».
Лицо молодого человека омрачилось, и его голос зазвучал серьезнее, когда он возразил:
– Я знаю, что здесь есть какая-то тяжелая тайна, омрачившая всю жизнь барона и сделавшая его таким, каков он теперь. Но я знаю также, что Раймонд фон Верденфельс не может быть преступником, и тот, кто хочет запятнать его этим подозрением, – лжец. Да, лжец! – повторил он с ударением, когда Вильмут хотел перебить его. – Если нужно будет, я заступлюсь за дядю перед целым светом, мне не надо никаких доказательств, я знаю своего дядю!
В этом заступничестве за честь другого было столько мужества и рыцарского благородства, что даже Вильмут был тронут, и его суровые черты смягчились.
– Такое доверие делает честь вашему сердцу, и я сожалею, что не могу разделить его с вами, поэтому не будем спорить об этом. Могу лишь повторить вам свое обещание: ничто не будет больше угрожать личной безопасности барона. Я положу конец подобным нападкам.
– Если вы так всесильны, ваше преподобие, – сказал Пауль, раздраженный звучавшей в этих словах уверенностью в собственной непогрешимости, – то прежде всего положите конец нелепому ребяческому убеждению, что здешний владелец – колдун, заклинатель бесов, приносящий с собой несчастье и Бог знает, что еще. Все село Верденфельс верит этому, начиная с самого богатого крестьянина и кончая беднейшим поденщиком; это было бы смешно, если бы не было так возмутительно для нашего времени. Одной единственной проповедью со своей кафедры вы могли бы положить конец этому безобразию, но Раймонд безусловно прав, говоря, что суеверие слишком полезно для вас, как воспитательное средство для устрашения вашей паствы, чтобы вы могли от него отказаться!
Вильмут выпрямился во весь рост.
– Вы, кажется забыли, что говорите со священником? Раймонд фон Верденфельс – для вас плохой наставник. От него вы научились этому сопротивлению церкви, от него же вы должны были узнать, к чему ведет отказ церкви в своей благодати. Не вызывайте меня на борьбу, может наступить день, когда мы станем врагами.
Он стоял перед молодым человеком во всеоружии власти священника, требующего полного подчинения от каждого верующего, какого бы он ни был звания. Но ясные глаза Пауля не избегали его взгляда, и его голос зазвучал еще громче, когда он снова заговорил:
– Другими словами, вы угрожаете устроить мне в Бухдорфе такой же ад, как устроили моему дяде в Верденфельсе? Вы хотите и там всех восстановить против меня? Как вы соединяете эти угрозы с обязанностями священника – ваше дело, но наше – защищаться, и мы это сделаем! Я не боюсь духовной розги, как ваши крестьяне, и постараюсь отучить от этого страха крестьян в Бухдорфе. От верденфельцев я отказываюсь – под вашим влиянием они слепы и безвольны. В своем новом родном уголке я позабочусь о просвещении крестьян, потому что вижу теперь особенно ясно, насколько это необходимо. Если вы бросите мне перчатку, я подниму ее, и тогда, может быть, начнется новая война.
В этих словах звучала уже не задорная заносчивость молодости, но твердая решимость, как порука в том, что обещание будет приведено в исполнение. Это почувствовал и Вильмут, и его взор устремился на молодого человека с таким выражением, словно он хотел взвесить силы своего противника.
– Вы весьма чистосердечны, барон! – сказал он с прежним непоколебимым хладнокровием. – Теперь я во всяком случае знаю, чего следует ожидать от нового владельца Бухдорфа, и буду считаться с этим. В настоящую минуту вы – гость в моем доме, в противном случае…
– Не беспокойтесь, я уже ухожу! – перебил Пауль. – Одно прошу вас сообщить крестьянам: после всего случившегося я считаю необходимым носить при себе заряженный револьвер, и если кто-нибудь из этой разбойничьей шайки осмелится покушаться на жизнь моего дяди, я его тут же застрелю. Мы теперь на военном положении, и я думаю, что имею право защищаться! – и с коротким, гордым поклоном, на который не получил ответа, Пауль вышел из комнаты.
В сенях молодой человек на несколько секунд остановился, «чтобы побороть волнение», как он говорил себе, но его взгляд, с тоской устремленный на противоположную дверь, давал другое объяснение этой медлительности. Потом, словно недовольный собой, он поднял голову и хотел уйти. Тогда заветная дверь тихонько отворилась и так же бесшумно закрылась. Оттуда выскользнула легкая, изящная фигурка и остановилась перед молодым бароном.
– Фрейлейн Вильмут! – воскликнул Пауль, приятно удивленный. – Как я искал случая увидеться и поговорить с вами хоть одну минуту!
Лили взглянула на него блестящими глазами и доверчиво протянула руку.
– Благодарю вас, господин Верденфельс! – с искренним чувством проговорила она, понизив голос. – О, благодарю вас!
– Меня? За что же? – с удивлением спросил Пауль, но удивление не помешало ему быстро схватить протянутую ему руку и удержать ее в своей.
– За то, что вы наконец сказали правду кузену Грегору! На это никто не решается, и он мнит себя непогрешимым. Но вы основательно пробрали его! Это меня очень радует, вот за что я вам благодарна. Так ему и надо!
Лили топнула ножкой и погрозила маленьким кулачком в сторону кабинета. Это ребяческое одобрение объявлению войны привело Пауля в восхищение.
– Значит, вы не боитесь моего еретичества? – с улыбкой спросил он, целуя ее руку, которую по-прежнему не выпускал. – Вы, двоюродная сестра священника?
– В нашем институте мы все были свободомыслящие, – с чувством собственного достоинства объявила Лили. – Потому-то Грегор и был с самого начала против него, он хотел, чтобы я воспитывалась в монастыре, но Анна не допустила этого. Я вполне согласна с вами, господин Верденфельс. Я тоже не боюсь духовной розги. Освободите от нее Бухдорф! Я так хотела бы помочь вам в этом!
– И я хотел бы этого! – невольно признался Пауль.
Никогда его маленькая союзница не казалась ему такой восхитительной, как в эту минуту, когда она, искренне возмущаясь и вся раскрасневшись, стояла перед ним. Он наклонился к Лили и, глядя ей прямо в глаза, тихо произнес:
– Мы давно не виделись; вы когда-нибудь вспоминали обо мне?
На губах Лили мелькнула плутовская улыбка.
– Об этом вы сами позаботились. Вы ведь довольно часто писали мне.
– Завтра я опять напишу, – поспешно воскликнул Пауль. – Я вам письменно изложу планы всех своих реформ, касающихся Бухдорфа, а вы мне ответите с первой почтой, неправда ли?
Где-то стукнула дверь, и Лили, так храбро собравшаяся помогать своему другу в его реформах и в борьбе, испуганно вздрогнула.
– Мне надо уйти, – прошептала она. – Если Грегор сюда придет…
– Тогда спаси нас, Боже, обоих! – смеясь, сказал Пауль. – Но вы правы, я не смею здесь оставаться. Прощайте, Лили, постарайтесь не совсем забыть меня!
Он опять поцеловал руку девушки, еще несколько раз повторил это приятное занятие, пока наконец не ушел.
Лили некоторое время смотрела ему вслед, думая над его словами: «Постарайтесь не совсем забыть меня!». В его словах звучала искренняя просьба, хотя, собственно говоря, это само собой разумелось. Но как необыкновенно нежно он произносил ее имя и как пытливо смотрел ей в глаза!
В молодой девушке в первый раз проснулось подозрение, что этот взгляд и тон относились не только к поверенной и утешительнице, какой она исключительно считала себя до сих пор. При этой мысли Лили вдруг стало страшно и ее сердце так сильно забилось, что она невольно прижала к нему руку. Однако это нисколько не помогло, сердцебиение не унималось. Лили все снова возвращалась к той же мысли, и она уже не казалась ей страшной. А что если Пауль действительно осознал безнадежность своей первой любви? Все находили, что обе сестры очень походили друг на друга; может быть, и он находил это?
Опустив глаза, с раскрасневшимися щеками вернулась Лили в кабинет, но уже не застала там Анны. Дверь в соседнюю комнату по-прежнему была закрыв та, теперь оттуда доносились звуки голосов, но девушка и не думала подслушивать, а бросилась в большое кресло, довольная, что может в одиночестве отдаться своим мечтам.
Вильмут с хмурым лицом ходил взад и вперед по приемной, занятый мыслями, которые возбудил в нем разговор с Паулем. Он видел, что молодой человек, вовсе не принимавшийся им во внимание, становился опасным противником. Для владельца Бухдорфа не существовало тех условий, которые давали священнику власть над владельцем Верденфельса, и из слов Пауля стало ясно, что он будет пользоваться этой привилегией.
Неожиданно дверь отворилась, и в комнату вошла Анна. Быстро подойдя к двоюродному брату, очнувшемуся от тяжелых дум, она без всякого вступления произнесла глухим, задыхающимся голосом:
– Теперь ты видишь, Грегор, до чего довела эта несчастная вражда?
– Ты слышала, о чем мы говорили! – с упреком проговорил Вильмут.
– Совершенно невольно. Ваши голоса раздавались так громко, что каждое слово было слышно. Так вот до чего дошло: жизни Раймонда грозит опасность, его хотят убить!
– Ты хочешь сказать, барона фон Верденфельса? – невозмутимо поправил ее Вильмут. – Но ведь ты слышала, я дал его племяннику обещание, что положу конец этим нападениям.
– Если только это еще в твоей власти! Боюсь, что уже поздно.
При этих словах по губам Вильмута пробежала гордая, полупрезрительная улыбка, и он уверенно произнес:
– Мои духовные дети привыкли следовать моему слову, они и на сей раз послушаются.
– Однако они на сей раз скрыли от тебя то, о чем сейчас рассказывал молодой барон. Ты ничего не знал об этом, ты, который все знаешь, все, что происходит в окрестностях Верденфельса! Ты вызывал духов ненависти и раздора – сможешь ли ты теперь одним мановением руки изгнать их? Я в этом сильно сомневаюсь.
– Успокойся, Анна! – строго сказал Вильмут. – Ты сама не знаешь, что говоришь. Если на самом деле Верденфельсу угрожает опасность…
– Так в этом виновата я, – пылко перебила его Анна. – Потому что я вызвала его сюда.
– Ты?
– Да, и он последовал моему призыву.
– Так вот каково было содержание того разговора в горах! Я должен был бы догадаться об этом, когда он так неожиданно сюда приехал. Разумеется, он явился на твой зов.
– На свое несчастье! Я хотела спасти его от той сосредоточенности в самом себе и упадка энергии, от которых он погибал, и язвила до тех пор, пока он не пришел к этому решению. И вот он приехал и окружен враждой, которую ты ему уготовил; он погибнет от нее, потому что во второй раз уже не уступит тебе, я знаю Раймонда!
Молодая женщина вся дрожала от страстного волнения. Такой Грегор видел ее только один раз, когда сам безжалостной рукой разрушил ее мечты о счастье и любви. Под его руководством она научилась тому самообладанию, которое заставляло ее скрывать от других всякую душевную муку. Теперь она не могла сдержать бурный порыв, и Вильмут понял, что это значило. Его лоб еще грозно хмурился, но в голосе звучала горькая насмешка.
– Ты просто вне себя! Одна мысль об опасности, грозящей этому человеку, лишает тебя рассудка. Успокойся! Я мог предоставить некоторую свободу всеобщей и вполне заслуженной ненависти, но раз она в своих проявлениях стала доходить до преступления, я сумею обуздать ее.
– А суеверие ты также можешь обуздать? – с горечью спросила Анна. – Пауль Верденфельс прав: это могущественное оружие в твоих руках, но оружие обоюдоострое. Ты сам приучил народ видеть в Раймонде нечестивца, одно приближение которого пагубно для людей, и убедил всех, что его благодеяния обращаются в проклятие для тех, кто ими пользуется. Ты отвечал молчанием на бессмысленные сказки, в которых его изображали олицетворением злого духа. Люди верят, что поплатятся спасением души, если примут дар из такой руки. Этим ты достиг того, что твои прихожане в слепом повиновении твоей воле пожертвовали собственной безопасностью. Кто защитит село, если ему действительно будет грозить наводнение?
– Господь Бог, который его так долго охранял! – с энергией сказал Вильмут. – Где опасностью грозят стихии, подчиняющиеся Его воле, там надо только уповать на Него.
– А где человеческие руки могут остановить действие этих стихий, там не значит ли бросать Ему вызов, если отстранять эти руки? И это сделал ты!
– Что это значит, Анна? – с раздражением воскликнул Вильмут. – Каким тоном осмеливаешься ты говорить со мной? Разве я обязан давать тебе отчет в своих поступках? Я не допускаю никаких возражений в том, что признаю справедливым. Я следую единственно голосу своей совести.
– А отзывается на этот голос вся окрестная нищета! – смело ответила Анна. – Мы не можем справиться с ней нашими собственными силами, а Раймонд мог и хотел. Ты прекрасно знаешь, почему он велел среди зимы начать работы по постройке плотины и почему они были отменены. Теперь люди терпят нужду по твоему приказанию, и вся их ненависть, все их раздражение направлены против того, кто хотел им помочь. Один Раймонд.
– Раймонд, все Раймонд! – с диким порывом ярости перебил ее Вильмут. – Разве у тебя нет другого имени для этого Верденфельса? Неужели я должен напомнить тебе слово, которое ты мне дала, когда стала женой Гертенштейна? Ты мне сама сказала: «Я победила свою любовь, она навсегда погребена, я ничего от нее не возьму с собой в новую жизнь». Кого ты тогда обманывала: меня или себя?
Он подошел к молодой женщине и до боли крепко сжал ее руку; но она не отняла своей руки, и ее большие, сверкающие глаза смело встретили его взгляд.
– Если это была ложь, которой я сама себя обманывала, то принудил меня к ней только ты один! – твердо сказала она. – Ты до тех пор представлял мне мою любовь преступлением, пока я сама этому не поверила и оттолкнула от себя Раймонда. Может быть, я этого не сделала бы, может быть, я разделила бы с ним его вину и отчаяние, если бы возле меня не стоял бессердечный судья, постоянно указывавший мне на эту вину. Тогда я думала, что порвала с прошлым, но иногда считают умершим и похороненным то, что после многих лет вдруг воскресает с прежней непобедимой силой.
При последних ее словах Грегор побледнел. Медленно, словно бессознательно, он выпустил руку Анны, и его рука бессильно упала. Молодая женщина не поняла этого движения, она отступила назад, и на ее лице появилось бесконечно горькое выражение.
– Не бойся ничего! Твое дело сделано прочно! Мы были и будем разлучены. Разделяющая нас бездна слишком широка и глубока, чтобы мы могли когда-нибудь подать друг другу руку. Но я все время любила Раймонда, с той самой минуты, когда порвала с ним, и люблю до сих пор. Никакой силой воли нельзя заглушить это чувство, для него не существует ни вины, ни даже преступления! Я могла осудить Раймонда, покинуть, отвергнуть, но любить его буду вечно!
Она глубоко перевела дух, как будто с этим признанием огромная тяжесть упала с ее души. Грегор стоял неподвижно, не возражая ни слова, но его глаза со странным выражением смотрели на прекрасное лицо, вспыхнувшее от возбуждения ярким румянцем. Нельзя было отгадать, отчего так загорелись глаза Вильмута – от гнева, который вызвало признание Анны, или от ненависти к Раймонду, но его взор горел зловещим огнем. Вдруг из ближайшей церкви донесся колокольный звон, и Вильмут вздрогнул, словно потрясенный этим напоминанием о его обязанностях.
– Мне надо идти в церковь, – вполголоса произнес он.
– И я с тобой пойду, – сказала Анна, которой эта помеха в разговоре, по-видимому, не была неприятна. – Я собиралась уехать с Лили домой, но если ты хочешь, чтобы мы были у обедни…
– Нет! Я освобождаю тебя от этого. Уезжай!
Резкость его слов видимо оскорбила Анну, она быстро и холодно отвернулась.
– В таком случае мы сейчас едем. Прощай!
Она вышла из комнаты, и у Вильмута не нашлось для нее на прощание ни одного слова. Он стоял, все еще растерянный, и в его взоре было все то же загадочное выражение. Все громче призывал его звон колоколов, обычно отрывавший его от всякой работы, от всякой мирской мысли, и он, священник, услышав его, спешил к исполнению своих обязанностей, которым, по искреннему убеждению, с увлечением отдал всего себя. И сегодня призывали его колокола, и он был готов следовать их зову, но среди колокольного звона ему слышались слова, как будто огненными буквами начертанные в его сердце: «Я могла его осудить, покинуть, отвергнуть, но любить его буду вечно».







