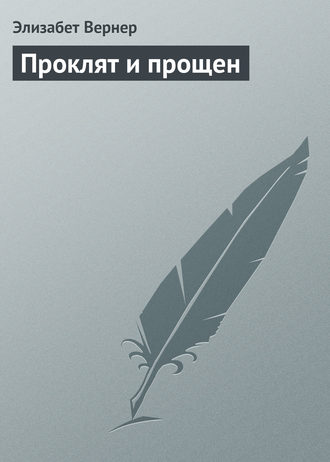
Элизабет Вернер
Проклят и прощен
Между тем Лили дала волю своему удивлению и заявила, что молодой барон смотрел на сестру совсем особенным образом, а также совсем особенным тоном просил разрешения приехать в Розенберг. Одним словом, она нашла все это крайне подозрительным. Но бедной девочке вовсе не посчастливилось с ее остроумными заключениями: ее строго остановили, объяснив, что ей нечего говорить о вещах, которых она не понимает. Лили недоумевала, почему она в шестнадцать лет не может понимать «подобные вещи». Рассердившись, она схватила свои орехи и убежала в соседнюю комнату, тем более, что увидела входившего кузена Грегора.
– Странное посещение, – насмешливо и презрительно проговорил пастор, обращаясь к Анне. – Что ты о нем думаешь?
– Я думаю, что дело происходило именно так, как сказал молодой барон, – ответила Анна. – Он был в замке, и счел долгом вежливости навестить тебя.
Грегор пытливо поглядел прямо в лицо молодой женщине и резко произнес:
– Возможно! Боюсь только, что его вежливость менее всего предназначалась мне. Твои глаза, Анна, снова причинили зло, я с первой минуты увидел это. Но мне нечего предупреждать тебя, что ты должна держаться подальше от молодого человека: ведь он – Верденфельс, и это одно должно помешать вашему сближению.
Глава 6
Молодой барон возвращался из Верденфельса в Фельзенек далеко не в радужном настроении, так как принужден был признаться самому себе, что так страстно ожидаемое им свидание оказалось на деле довольно мучительным и что его визит в дом приходского священника был преждевременным. Как ни мало были ему известны обстоятельства жизни в Фельзенеке, тем не менее ему стало теперь вполне ясно, что между его дядей и пастором Вильмутом существует глубокая неприязнь. Ему казалось, что теперь он понял причину сдержанности молодой женщины: эта сдержанность относилась не к нему лично, а к тому имени, которое он носил. Но к этому препятствию он отнесся со своим обычным юношеским легкомыслием, не считая его серьезной помехой своим планам. Хотя ему и не было дано формального согласия на посещение Розенберга, но не было и запрещено явиться туда. Поэтому он считал такой визит делом решенным и продолжал строить планы на будущее.
Как только Пауль вернулся из Фельзенека, Арнольд встретил его словами, что «многоуважаемый дядюшка» желает его видеть. Пауль не слишком любил эти аудиенции, хотя короткие и редкие. Ледяное равнодушие барона Раймонда при встречах все больней и больней задевало мягкую натуру Пауля, но всякое желание дяди было для него приказанием, которое он считал долгом исполнять. Поэтому и сейчас он ограничился вопросом, в котором часу должен идти к дяде.
– В пять часов, – с величайшей торжественностью ответил Арнольд. – И на сей раз я пойду с вами, мой дорогой господин.
Пауль с удивлением взглянул на него.
– Что с тобой? Ты же знаешь, что к барону никто не смеет являться, пока он сам не позовет.
– Но меня звали, – с чрезвычайно довольным видом возразил Арнольд. – Барон прислал мне приказание представиться ему сегодня.
– Неужели это правда? – воскликнул Пауль. – В последнее свидание с дядей я действительно упомянул о твоем отчаянии, что тебе до сих пор не удалось видеть хозяина дома, но не думал, что это заявление будет иметь какие-нибудь результаты: на мои слова барон промолчал, а я, разумеется, не решился высказаться прямо.
– Вы вообще ни на что не можете решиться, – пренебрежительно проговорил Арнольд, – и вовсе не умеете обращаться с господином бароном, а между тем вы – единственный человек, с которым он общается. Просто грешно жить так, как он живет, прячась, словно ночное привидение, от добрых людей и Божьего света и имея в то же время столько поместий и замков, что даже сам он, владелец, не знает, как велико его богатство. Решительно необходимо, чтобы кто-нибудь как следует вразумил вашего дядюшку, а так как у вас недостает на это смелости…
– То ты берешь это на себя, – докончил Пауль, которого рассмешили эти слова. – Но берегись, Арнольд! Дело может принять скверный оборот, если дядя окажется в дурном расположении духа.
– А он разве бывает опасен? – спросил Арнольд, в душе которого зашевелилось прежнее беспокойство. – Вообще можно ли говорить с ним, как с разумным человеком? Или… – и старик многозначительно дотронулся до своего лба.
Пауль рассмеялся.
– Нет, в этом отношении тебе нечего опасаться. Барон вполне нормален, но я очень сомневаюсь, чтобы твои проповеди подействовали на него. Ведь он не такой трусливый ягненок, как я.
Арнольд, по-видимому, был совершенно другого мнения о покладистости своего господина. Но теперь он твердо решил «вразумить» их хозяина. Ему казалось просто необъяснимым, отчего до сих пор никто не решался на это; непостижимым казался ему и тот почтительный страх, который питала к барону Раймонду вся замковая прислуга. Сам Арнольд, несмотря на глубокую почтительность в обращении и речах, никогда не испытывал такого чувства. Он был душой и телом привязан к своим господам, готов был в случае необходимости умереть за них, но это не мешало ему обращаться с этими господами крайне деспотически.
Еще покойный отец Пауля многое прощал ему за честность и привязанность. Покойная баронесса ни в чем не противоречила ему, а для маленького барона он был в одно и то же время и камердинером, и ментором. Поэтому Арнольд был глубоко оскорблен, что глава семьи как будто совершенно забыл о его существовании, и до тех пор говорил об этом своему молодому господину, пока тот в угоду ему не упомянул о нем в разговоре с дядей. Теперь наступил важный момент аудиенции, и старый слуга торжественно следовал за своим господином в покои владельца замка, где ему было приказано обождать в передней.
Между тем Пауль вошел в кабинет барона, который сидел за своим письменным столом и поздоровался с племянником со своей обычной холодной вежливостью.
– Ты занимался? – спросил молодой человек, взглянув на лежавшие на столе бумаги и книги и прочитав заглавие одной из них. – Ты занимаешься естествоведением, как я вижу.
– Колдовством, – поправил его Верденфельс, откидываясь на спинку стула, – так по крайней мере думает народ в долине. Не смейся, Пауль, я говорю серьезно. Люди там твердо решили, что я занимаюсь черной магией. Да и вся моя прислуга убеждена, что все мои опыты – не что иное, как колдовство.
– Неужели здесь все так суеверны? – с удивлением спросил Пауль. – Боже мой, к чему же тогда просвещение? К чему школы?
– Все это пригодится для будущих поколений. В наше время священник еще всесилен, во всяком случае, здесь, у нас, а для него вера в черта – слишком полезная дисциплина, чтобы он пожелал отказаться от нее, – продолжал Раймонд, с видимым отвращением отодвигая от себя книги и рукописи. – Я и сам теперь гораздо меньше интересуюсь этими занятиями, которые раньше так меня увлекали, потому что задаю себе вопрос: к чему они, если мне негде приложить их к делу? Да и к чему вообще вся эта деятельность?
Вопрос звучал не горечью, а утомлением, но Пауль менее всего был расположен предаваться теперь пессимизму. У него и ум, и сердце были полны розовых надежд, поэтому он пропустил мимо ушей последнее замечание Раймонда.
– К сожалению, я никогда не отличался особенной любовью к наукам, – сказал он. – Между мной и книгами всегда были натянутые отношения.
– Я вижу: ведь ты еще ни разу не заглянул в библиотеку. Это я говорю не в упрек тебе, – прибавил Раймонд, видя, что молодой человек собирается отвечать ему. – В твои годы предпочитают развлечения другого рода, но твое личное дело – чем ты заполняешь свой досуг в Фельзенеке. Я слышу, что ты много охотишься и ездишь верхом, это все-таки занятие.
– Занятие – да, но не деятельность.
– Разве тебе не достает деятельности? – спросил Раймонд с легкой иронией.
– Говоря откровенно – да! Вообще я думаю, что для меня пришло время избрать определенное занятие.
– Я также это думаю, но мне не приходило в голову, что ты сам заговоришь об этом.
– Послушай, Раймонд, – с оживлением начал Пауль (исполняя желание барона, он с первой встречи перестал называть его дядей), – я уже давно хотел спросить тебя, как ты представляешь себе мою будущность?
Раймонд с удивлением взглянул на молодого человека, выказывавшего такую настойчивую потребность в деятельности, и ответил:
– Это зависит исключительно от твоих вкусов и наклонностей. Я ничего не стану предписывать тебе. Может быть, ты хочешь поступить на государственную службу?
– Я предпочел бы жить в деревне, – ответил Пауль после минутного колебания. – До сих пор я был мало знаком с ней, но здесь, в твоих имениях, у меня является прекрасный случай с нею познакомиться, и я должен сознаться, что деревенская жизнь кажется мне чрезвычайно привлекательной.
– В уединении Фельзенека, кажется, сотворилось чудо, – с нескрываемой насмешкой ответил Раймонд. – По правде сказать, я не ожидал подобных результатов от твоего пребывания в этом доме. Итак, ты избираешь деревенскую жизнь. Я ничего не имею против, но боюсь, что она скоро покажется тебе однообразной и скучной.
– О, нет! – воскликнул Пауль.
И он с наивной торжественностью принялся уверять, что раз навсегда покончил со всеми глупостями, что хочет начать совсем новую жизнь, стремясь к своему углу и домашней жизни, и сыпал благими намерениями и планами. Во время своей двухчасовой поездки верхом он подробно обдумал свою речь, чтобы при первом удобном случае преподнести ее дяде, а так как для него все, о чем он говорил, имело серьезное значение, эта речь звучала довольно убедительно. Однако все-таки она не достигла желаемого результата.
Раймонд, не прерывая, слушал его со своим обычным равнодушным видом и, когда речь была окончена, спросил:
– Пауль, ты, наверно, влюблен?
При этом неожиданном вопросе юноша покраснел до корней волос. Он хотел пока сохранить в тайне свою любовь, но его гордость возмутилась от полусострадательного, полуиронического тона вопроса, и он, недолго думая, ответил:
– Нет, я люблю!
– Почему ты так подчеркиваешь разницу между этими двумя словами?
– А ты разве полагаешь, что такой разницы не существует?
– Разумеется, она существует, но я сомневаюсь, чтобы ты мог почувствовать ее в кругу своих итальянских друзей.
Молодой человек отлично понял заключавшийся в этих словах намек и упрек, но ответил с полной откровенностью:
– Тогда я еще не знал, что такое любовь, иначе она предохранила бы меня от беспутной жизни. Это случилось лишь в последние дни моего пребывания в Венеции, когда я увидел «ее».
Он остановился, в первый раз заметив слабый проблеск интереса в лице Раймонда, вопросительно смотревшего на него. В его темных, обычно как будто подернутых какой-то дымкой глазах что-то мелькнуло, вспыхнул какой-то яркий, беглый огонек, пока Раймонд повторял:
– В Венеции? Значит, это было там?
– Ты, вероятно, знаешь этот город?
– Знаю ли я этот город? О, да!
Слова прозвучали мечтательно, как бы отражая воспоминание, и это помогло молодому человеку победить ту робость, которая всегда мешала ему проявить какое-либо чувство в присутствии барона.
– Я никогда не забуду Венецию, – продолжал он страстным тоном, – потому что там взошла звезда моей жизни!
– Звезды закатываются, – ледяным тоном произнес Раймонд, – не доверяй им, Пауль! Они обманывают человека своим многообещающим светом, а затем оставляют его одного в темноте.
Пауль был поражен. Его удивила не столько перемена тона, сколько выражение: «Звезды закатываются». Те же самые слова он слышал тогда на море из других уст и с тем же суровым, строгим выражением. Разумеется, это была простая случайность, никто не был свидетелем их разговора, но молодому человеку показалось, что это совпадение предвещает беду.
Раймонд иначе объяснил себе молчание племянника, очевидно, подумав, что обидел его своими словами, и произнес более мягким тоном:
– У тебя, разумеется, совсем другие взгляды на влюбленность и на любовь, и я не хочу преждевременно разрушать твои иллюзии. Самообман – то же счастье, и есть люди, которые всю жизнь не пробуждаются от него… Итак, ты любишь и, вероятно, пользуешься взаимностью?
Пауль, опустив глаза, тихо ответил:
– Не знаю… не знаю даже, могу ли надеяться: я ведь еще не объяснился с нею. Ты понимаешь, Раймонд, что я пока еще ничего не могу предложить любимой женщине, я должен раньше знать, как ты устроишь мою будущность.
Барон проницательно посмотрел на молодого человека, который никогда с такой болью не чувствовал своей зависимости, как в эту минуту.
– Так вот откуда происходит твоя внезапная любовь к сельской жизни! – сказал он. – Я так и думал. Но тебе не придется жаловаться на меня, Пауль, если только твой выбор будет разумным, достойным Верденфельса.
– У тебя не будет ни малейшего повода не одобрить его, – пылко воскликнул Пауль. – Ты не можешь ничего иметь против внешних условий этого брака, что же касается личности моей избранницы…
– Ну, разумеется, она – идеал, – перебил его Раймонд. – Любимая женщина всегда кажется идеалом, пока в ней не разочаруешься. Как бы то ни было, я не хочу становиться на пути твоего воображаемого счастья, и ты прав: пока находишься в таком унизительно-зависимом положении, нельзя думать о предложении. Поэтому я освобожу тебя от этой зависимости. Будущей весной кончается срок аренды Бухдорфа. Ты можешь поселиться в этом имении, чтобы убедиться, действительно ли ты создан для деревенской жизни; если это так, то я отдам Бухдорф в полное твое владение. Доходы, получаемые с него, довольно значительны, и тогда, как владелец Бухдорфа, ты можешь смело делать предложение.
Пауль думал, что ослышался. Он еще не знал Бухдорфа, но уже достаточно ознакомился с верденфельскими владениями, чтобы понять, – каким ценным приобретением является Бухдорф. И этот княжеский подарок был предложен так просто, как будто даривший не придавал ему никакого значения.
– Ты хочешь уступить мне Бухдорф? – с радостным изумлением переспросил он. – Это будет моя собственность? О, Раймонд, как мне…
– Только, пожалуйста, без благодарностей, – перебил его Верденфельс. – Ты знаешь, я этого не люблю. Ты – мой наследник и получаешь только часть своего будущего наследства. Тебе нет никакой необходимости ожидать моей смерти. Значит, с этим покончено!
Молодой человек слишком хорошо знал своего дядю, чтобы понять, что слова теперь излишни. Ему показалось, что вместе с выражениями благодарности, которым не дали с сердечной искренностью сорваться с его губ, у него исчезло и всякое чувство благодарности. Он видел, что дядя тяготился им и, щедро наградив, тотчас же равнодушно отворачивался от него. Пауль был глубоко оскорблен тем, что Раймонд даже не спросил имени его избранницы, не поинтересовался узнать, итальянка она или немка, а удовольствовался заявлением племянника, что выбор подходящий. Этим исчерпывался весь его интерес к делу, которое он. с данной минуты счел поконченным.
– Ты был так добр, позвав к себе Арнольда, – прервал наконец Пауль наступившее молчание. – Он ждет в передней.
– Ах, да, – сказал барон, по-видимому, только сейчас вспомнивший об этом. – Пусть он войдет.
Пауль открыл дверь в соседнюю комнату, где находился камердинер Раймонда, и попросил его позвать Арнольда.
Старик не замедлил войти и, с безграничным сознанием собственного достоинства, а также с огромным любопытством приблизившись к барону Раймонду, отвесил ему, как «главе семьи», глубочайший поклон.
Взгляд барона быстро и безучастно скользнул по старому слуге. Даже оригинальный способ письменного знакомства с ним, придуманный стариком, не возбуждал в бароне ни малейшего к нему интереса. Очевидно, он согласился принять Арнольда только из любезности к Паулю.
– Господин фон Верденфельс говорил мне о вас, как о старом и верном слуге его родителей, – начал он. – Я рад, что вы продолжаете и ему служить так же верно.
Эти слова были вполне разумны, и человек, так спокойно и важно сидевший в своем кресле, вовсе не походил на ненормального. Арнольд соблаговолил остаться довольным оказанным ему приемом и с чувством собственного достоинства ответил:
– Я по мере сил старался исполнить долг, завещанный мне покойной госпожой баронессой, когда она на своем смертном одре поручила мне заботиться о молодом бароне.
Пауль украдкой поднял взор к небу, готовый сделать своей матери упрек за подобное поручение, о котором он слышал при всяком удобном и неудобном случае. Но Верденфельс, еще незнакомый с неисчерпаемостью этой темы, казалось, находил вполне естественным, что старый слуга гордился выраженным ему доверием, и продолжал расспрашивать его.
– Вы сопровождали вашего господина и в университет, в Италию?
– Да, и в Италию, – подтвердил Арнольд.
Он ожидал, по крайней мере, похвальной речи себе за все свои заботы и попечения, а молодому господину – соответствующего нравоучения. Но барон, по-видимому, не собирался смущать Пауля напоминанием о том письме и ограничился тем, что сказал с легким ударением:
– Господин фон Верденфельс умеет ценить вашу привязанность. Вы уже не раз доказали ее ему, я также очень ценю подобные отношения между господином и слугой.
Арнольд бросил торжествующий взгляд на Пауля, который продолжал молчать, вероятно стесняясь высказать какое-нибудь замечание в присутствии дяди. Этот взгляд ясно говорил: «Посмотри, я сейчас покажу, как надо обращаться с ним». Затем старый слуга выпрямился и торжественно начал:
– Многоуважаемый господин барон…
– Ну? – спросил Верденфельс.
Пауль, которого эта сцена чрезвычайно забавляла, не вмешивался в разговор. Он видел, что самоуверенность его старого ментора уже начала колебаться, для этого оказалось достаточно одного только краткого «Ну?» – Арнольд начинал понимать, что эта холодная надменность – нечто совсем другое, чем существовавшая между ним и его молодым господином интимность, и несколько смущенно произнес:
– Многоуважаемый господин барон, я в сущности намеревался… то есть я хотел почтительнейше доложить вам…
– Ну, говорите же! – сказал Раймонд, удивляясь тому, что старик все время запинается.
Арнольд бросил на своего господина жалкий взгляд, в котором выражалась трогательная мольба о помощи, но, увидев, что Пауль кусает губы, чтобы не расхохотаться, собрал все свое мужество и сделал последнюю отчаянную попытку.
– Я только хотел выразить вам, многоуважаемый господин барон, мое глубочайшее сожаление о том, что вы живете вдали от света, и никто…
Дальше этого он не пошел, так как Раймонд встал со своего места и окинул его взглядом с головы до ног. В этом единственном взгляде не было даже гнева, но Арнольд был буквально уничтожен, и ему вдруг захотелось очутиться далеко от замка, где-нибудь в Риме или Венеции. Даже лицо синьора Бернардо показалось ему в эту минуту гораздо милее лица Барбна фон Верденфельса, которого он собирался «вразумлять» и который, не открыв рта, одним взглядом умел поставить его на надлежащее место.
– Вы так думаете? – спросил Раймонд совершенно спокойно, но с таким выражением неприступной гордости, что старый слуга еще больше съежился и в замешательстве принялся отвешивать поклон за поклоном.
– О, нет, вовсе нет, – забормотал он, – я только хотел сказать, что мне очень нравится здесь, в Фельзенеке… и моему господину также… и что мы оба…
– Хорошо! – прервал его Верденфельс. – Я очень рад, что моему племяннику у меня хорошо, а своими личными мнениями я предоставляю вам делиться с моими слугами.
Одним коротким движением Арнольду дали понять, что аудиенция окончена. Старик отвесил один низкий поклон перед письменным столом, второй – посреди комнаты, третий – на пороге и исчез за дверью. Опомнился он только в передней, решив, что ничего особенного не случилось, что барон вовсе не был даже немилостив к нему, но эти две минуты аудиенции научили старого слугу тому, чему он не мог научиться во всю свою долгую жизнь, а именно – безусловному повиновению взгляду и слову барона.
Пауль изо всех сил старался сохранить серьезность, но жалкое отступление его неизменного поверенного во всех делах показалось ему таким комичным, что он не удержался и громко рассмеялся.
Раймонд не разделял его веселости.
– Ты, кажется, сильно избаловал своего слугу, Пауль.
– Ведь он оставлен мне в наследство моими родителями, – сказал в свое оправдание молодой человек. – Его привязанность бывает часто неудобна, но он носил меня на руках еще ребенком и так напирает на это, что при всем желании мне никак не удается держать его на почтительном расстоянии. Мне очень неприятно, что он имел смелость даже по отношению к тебе…
– Оставь! – сделал отрицательное движение рукой Раймонд. – Я умею держать своих подчиненных в известных границах, и тебе необходимо будет научиться этому, когда ты станешь владетелем Бухдорфа.
С этими словами он встал и отошел от письменного стола. Сумерки сгущались, и в высокой, мрачной комнате стало почти темно. Только разведенный в камине огонь бросал свет на пол и ближайшие предметы. Барон подошел к камину и подбросил несколько поленьев в потухающий огонь, который ярко вспыхнул, получив новую пищу.
– Я недавно посылал за тобой, – сказал он, – но мне доложили, что ты уехал верхом. Ты был на охоте?
– Нет, я сделал довольно большую прогулку, – ответил Пауль, тоже подходя к камину. – Я посетил наш родовой замок.
– А, ты был в Верденфельсе? Понравился он тебе?
– Необыкновенно понравился! Я редко видел имение красивее! Жаль только, что замок и сад в таком запустении.
– Ты нашел там какие-нибудь непорядки? – спросил Раймонд. – Ведь я отдал строжайший приказ, чтобы все было в исправности, и аккуратно получаю оттуда донесения, что все в порядке.
– Ты не так меня понял. Я говорил о том запустении, которое происходит от безлюдья. Чувствуется, что замок давно покинут своими владельцами. Ты ведь сам никогда не жил в Верденфельсе с тех пор, как получил его?
– Никогда!
– Значит, у нас совершенно разные вкусы. Я безусловно предпочел бы Верденфельс романтичному, но мрачному Фельзенеку, и если бы даже так любил горную глушь, как ты, все-таки ежегодно проводил бы несколько месяцев в Верденфельсе.
Раймонд ничего не ответил. Он прислонился к камину и мрачно наблюдал, как огонь охватывает толстые поленья. Дрова трещали и разбрасывали искры, пламя обвивалось вокруг них огненными змейками, вспыхивая то тут, то там и поднимаясь все выше и выше, пока все дрова не вспыхнули наконец ярким пламенем. Было что-то жуткое и тревожное в этой игре огня в полутемной комнате, а сильная тяга в камине еще больше раздувала пламя.
– Вид с террасы на сады – единственный в своем роде, – продолжал Пауль, – да и местоположение деревни в высшей степени живописно. Мне особенно бросилось в глаза, что эта деревня совсем не похожа на другие горные деревушки, где ветхие лачуги так тесно жмутся одна к другой, что между ними и не проберешься. В Верденфельсе, напротив, так просторно, свободно и светло! Управляющий рассказал мне, что когда-то это местечко совершенно выгорело, а затем вновь застроилось.
– Да, тогда оно сгорело дотла, – подтвердил Раймонд, продолжая смотреть на игру огня в камине.
Казалось, он следил за странными образами, появляющимися и исчезающими в огне, мимолетными и дрожащими, как само пламя, и по мере того как рассыпались догорающие головки, перед ним появлялись все новые картины и образы.
– Я смутно припоминаю что-то, – сказал Пауль, и действительно в эту минуту в его голове всплыло воспоминание о катастрофе, о которой он слышал еще мальчиком. – Это, должно быть, было страшное несчастье. Бедные люди потеряли в огне все свое имущество, и, насколько я помню, не обошлось и без человеческой жертвы.
– И не одной, в огне погибли тогда трое.
– Это ужасно! – воскликнул Пауль.
Ему казалось совершенно необъяснимым, чтобы можно было так спокойно говорить о подобном бедствии. Слова Раймонда звучали полнейшим равнодушием, он не пошевелился, не изменил положения, но молодому человеку показалось, что еще никогда он не видел у дяди такого неподвижного и мертвенно-бледного лица, как в эту минуту, когда оно было ярко освещено пламенем камина, а глаза были мрачны и страшны, как самая темная ночь.
Сильный порыв ветра ворвался в каминную трубу и раздул пламя; оно бросилось в сторону, словно простирая свои жгучие объятия к неподвижно сидевшему перед камином человеку. Через мгновение пламя стихло, но его палящее дыхание, вероятно, обожгло руку, опиравшуюся о каминную решетку, так как барон с глухим стоном вскочил с места.
– Тебя обожгло? – озабоченно спросил Пауль. – Могло случиться несчастье. Тебя не очень задело?
Вместо ответа Раймонд отвернулся и изо всей силы нажал кнопку звонка.
– Света! – приказал он вошедшему камердинеру таким резким тоном, какого тот, наверное, никогда не слышал от своего господина.
Камердинер поспешно вышел, а Раймонд быстро подошел к окну и, распахнув его, высунулся из него, как будто ему вдруг стало душно в комнате.
Через несколько минут слуга вернулся с зажженной лампой, сразу осветившей кабинет. Пауль был поражен, он никак не мог себе представить, чтобы легкая физическая боль могла так взволновать человека – ведь огонь мог только слегка коснуться руки. Однако ожог оказался, вероятно, болезненнее, чем можно было думать, потому что когда Верденфельс закрыл окно и отошел от него, он был бледнее обыкновенного, а его лицо выражало тайное страдание. На заботливые расспросы Пауля он ответил коротко и резко:
– Пустяки, все давно прошло. Не беспокойся больше, поговорим о чем-нибудь другом.
Однако сам он не начинал разговора, а принялся ходить взад и вперед по комнате. Пауль инстинктивно угадывал, что здесь скрывается что-то такое, чего он не смел касаться, хотя связь между происшедшим и тем, о чем они говорили, оставалась ему неясной. Он привык к длинным паузам во время разговоров с дядей и обычно относился к ним довольно равнодушно, но на этот раз наступившее молчание показалось ему особенно томительным, и он быстро переменил тему.
– Мне следует еще покаяться тебе, – начал он. – Боюсь, что из-за моего полнейшего незнания здешних условий я сделал шаг, которого ты не одобришь: я был сегодня у верденфельского пастора.
Барон остановился, удивленно и мрачно глядя на племянника.
– У Грегора Вильмута? Как ты попал туда?
– Совершенно случайно. Я полагал, что простая вежливость требует, чтобы я сделал визит священнику, к приходу которого принадлежит наш родовой замок. Я и не подозревал существования совершенно особых отношений, вследствие которых мое посещение возбудило неприятное удивление.
– Тебе объяснили, в чем дело?
– Нет, меня послали за разъяснениями к тебе. Лицо Раймонда еще больше омрачилось, но голос звучал совершенно спокойно, когда он сказал:
– Мне следовало самому ознакомить тебя с обстоятельствами, с которыми тебе рано или поздно придется столкнуться. Да я так и сделал бы, если бы ты при мне упомянул о своем намерении сделать этот визит. Ты не должен больше бывать в доме пастора и лучше всего тебе совершенно не показываться в деревне.
– В Верденфельсе? – с величайшим удивлением спросил Пауль, – в твоей собственной деревне?
– Ты носишь мое имя, а оно там ненавистно. Если ты захочешь посетить опять замок, поезжай прямой дорогой, через замковую гору.
Раймонд снова принялся ходить взад и вперед по комнате и как будто хотел прекратить разговор, но Пауль, найдя новую загадку там, где искал разъяснения, решил не отступать от этой темы.
– Прости, если я задам тебе еще один вопрос, это не простое любопытство, должен же я хоть немного ориентироваться здесь. Этот пастор относится к тебе неприязненно?
– Да, – холодно произнес Раймонд, – мы враги.
– И он, вероятно, воспользовался своим положением, чтобы восстановить против тебя весь приход?
– В этом не было необходимости, но он сделал все возможное, чтобы тлевшая много лет ненависть стала неугасимой.
– Но, Боже мой! – воскликнул Пауль, – что же дает простому деревенскому священнику право вступать в такую борьбу с бароном фон Верденфельсом?
Раймонд пожал плечами.
– Что значит для священника барон фон Верденфельс? И он, как и всякий другой, должен преклониться перед дисциплинарными требованиями духовенства, а если не сделает этого, то ему дадут почувствовать всю силу духовной власти. Ты не знаешь, чем считает здесь себя священник и какую роль он действительно играет в деревне. Влияние Вильмута безгранично и простирается далеко за пределы его прихода. А как он принял тебя?
– Очень холодно, но по всем правилам вежливости. Он был дома не один: у него были в гостях родственницы-соседки.
Барон словно прирос к полу – так быстро он остановился.
– Родственницы? Из Розенберга?
– Да! Две дамы: молодая женщина и ее сестра.
– Я знаю – Анна Вильмут.
– Ты хочешь сказать: Анна фон Гертенштейн?
– Да, госпожа президентша фон Гертенштейн; я все забываю это.
Слова звучали ледяной холодностью, но в них слышалось презрение. Пауль испугался, увидев подтверждение своих опасений: Анна Гертенштейн была включена в круг враждебности, которая распространялась на самого Вильмута.
– Я не знал, что ты так хорошо осведомлен о том, что происходит по соседству, – немного смущенно заговорил он. – Ведь ты уже столько лет ни с кем не общаешься.
На лице Раймонда появилось выражение бесконечной горечи.
– Совершенно верно, но это я все-таки узнал. Этот брак в свое время наделал много шума. Восемнадцатилетняя девушка, отдающая свою руку старику, – явление незаурядное. Многие осуждали ее за эту «блестящую партию».
– И были к ней несправедливы, – воскликнул Пауль в сильном возбуждении. – Ее могли уговорить, принудить, она могла принести себя в жертву бедным родителям или братьям и сестрам. Я не знаю всех обстоятельств этого брака, но готов биться о заклад, что ею не руководило никакое низкое побуждение. Стоит лишь заглянуть в эти глаза, чтобы убедиться, что все низкое, дурное от нее бесконечно далеко.
Уже при первых словах племянника Раймонд медленно повернулся к нему и окинул странным взглядом молодого человека, который в своей горячей защите забыл всякую сдержанность и осторожность. И когда Раймонд заговорил, его голос не отличался обычным бесстрастным спокойствием, а звучал глухо, почти грозно.
– А ты, должно быть, очень глубоко заглянул в эти глаза, если мог при первой же встрече так много прочесть в них. Десять минут тому назад ты говорил мне о любви, владеющей всеми твоими помыслами, а теперь воспламеняешься при одной мысли о посторонней женщине. Ты, очевидно, очень быстро меняешь свои увлечения.
С минуту Пауль колебался из страха перед дядей, который вместе с согласием мог отнять и свой великодушный подарок, если узнает, что дело идет о члене ненавистной ему семьи. Но открытый характер молодого человека взял верх, и он решил не отказываться от своей любви, чего бы это ни стоило.







