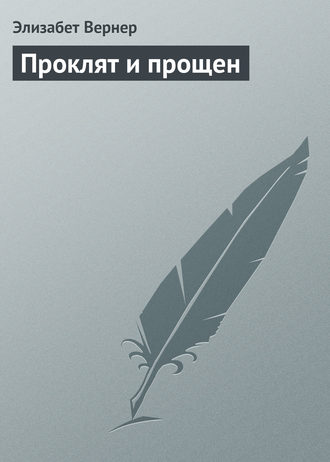
Элизабет Вернер
Проклят и прощен
Глава 22
Приближалась весна. Внизу, на равнине, уже пробуждалась жизнь, но в горах власть зимы была еще в полной силе. Вершины окрестных гор еще стояли в блестящем снежном одеянии, посылая в долины леденящий ветер. Дева льдов беспрепятственно властвовала всюду, где простирались владения Гейстершпица. Фельзенек уже не был так заброшен и одинок, как это было зимой, потому что сюда снова переселился владелец замка, а с ним вместе приехала и его будущая супруга со своей сестрой. Анна сдержала слово и ни на минуту не покидала Раймонда, а официальное объяснение их отношений оправдало в глазах света принятое ею решение.
Верденфельс и все его соседи с величайшим удивлением узнали, что барон Раймонд еще до своего опасного падения с лошади был обручен с Анной фон Гертенштейн, и помолвка была бы тогда же объявлена, если бы этому не помешал несчастный случай. Приехав ухаживать за больным женихом, невеста лишь исполнила свой долг, что все нашли в порядке вещей.
Выздоровление барона шло быстро, и уже через несколько недель можно было переехать в Фельзенек. Доктор настаивал на том, чтобы удалить выздоравливающего от места неприятных воспоминаний. Покой и тишина горного замка должны были способствовать его скорейшему полному выздоровлению. Однако само известие о помолвке вызвало между соседями невероятное возбуждение. Молодая, красивая и, как все думали, богатая вдова везде служила предметом живейшего интереса, все с нетерпением ожидали момента, когда она снова появится в обществе. Вместо того она неожиданно обручилась с «фельзенекским бароном», мрачным, неприятным чудаком! Эта новость отодвинула на задний план последовавшее сразу за ней известие о помолвке барона Пауля Верденфельса с сестрой Анны Гертенштейн. Оба эти факта были недоступны пониманию местных жителей, склонных даже приписать их новому колдовству «фельзенекского барона».
Раймонд стоял у окна своего кабинета, сохранившегося в прежнем виде во всей своей мрачной роскоши. Сегодня он также был погружен в полумрак, тогда как снаружи все горы были залиты еще яркими лучами заходящего солнца. На лице барона словно лежал отблеск этого света. Это уже не был прежний мрачный, одинокий мечтатель, в его чертах словно отражалось сияние молодости и счастья, во всей его фигуре чувствовалось возрождение к жизни, возвращение прежних сил, и лишь широкий темно-красный шрам на лбу напоминал о пережитых страданиях. И все-таки из глаз Раймонда еще не исчезла прежняя тень, и взор, устремленный на Гейстершпиц, был полон мрачной задумчивости. Любовь и счастье не могли изгладить старое горе! Свежая рана на лбу уже закрылась, а старая душевная рана все еще не могла зарубцеваться. Отлучение еще не было снято, и прошлое бросало в новую жизнь свою зловещую тень.
Дверь тихо отворилась, и по ковру зашелестело женское платье. Верденфельс обернулся, при виде вошедшей Анны с лица его мгновенно сбежала мрачная тень, а глаза вспыхнули страстной любовью.
Анна наконец сняла траур, и вместе с ним, казалось, исчезли строгая сдержанность и гордая холодность, придававшая ей неприступный вид. Вместе с ее светлой фигурой в темную комнату словно ворвался солнечный луч, а в ясной улыбке не было и следа той энергии и силы воли, отпечаток которой прежде всегда лежал на ее лице. Это была счастливая улыбка женщины, которая после долгих недель страха и тревоги за жизнь любимого человека видит его наконец спасенным и выздоровевшим.
– Я только что получила известие из моего осиротелого Розенберга, – сказала она. – Там никак не могут примириться с моим долгим отсутствием, да и моя маленькая Лили начинает скучать по дому. Надо нам подумать о возвращении.
Раймонд вскочил с выражением полнейшего ужаса на лице.
– Ты хочешь уехать? Хочешь покинуть меня?
– Разве я недостаточно времени провела с тобой? Сегодня доктор сказал, что ты совсем здоров. Тебе больше не нужен мой уход.
– Но мне нужно твое присутствие! Я не могу лишиться его даже на несколько часов!
Молодая женщина, улыбаясь, покачала головой и, не возражая ни слова, подошла к стеклянной двери на балкон.
– Сегодня настоящий весенний воздух, – сказала она. – Посмотри, как на горах гаснет вечерняя заря.
Раймонд подошел к ней. Перед их глазами была старая, неизменная картина сурового, дикого величия: кругом только скалы, мохнатые ели да снежные поля. Дева льдов повсюду расстилала еще свой снеговой покров; недоставало лишь ледяного дыхания, создавшего это царство, недоставало обычного мертвого покоя и мертвого молчания.
Вечерняя заря окутала розовой дымкой белые вершины гор и самую высокую из них, Гейстершпиц, которая одна только еще могла принять прощальный привет заходящего солнца. Сверкая багряной одеждой, она стояла, могучая, подобно исполинскому горному духу, перед которым должны склоняться все прочие вершины. Там, наверху, все сияло и блестело, а внизу над долиной уже расстилался голубоватый туман.
Весна отправила в горы своего первого вестника – уже подул ветер, и от его мягкого, теплого дыхания таяли ледяные оковы зимы. Полными, мощными звуками доносился из глубины шум горного потока, но теперь он не служил единственным проявлением жизни среди мертвой природы: со всех сторон доносился ответный рокот. Из каждой скалы, из каждого ущелья раздавались тысячи проснувшихся голосов – начиналось таяние снегов.
– Сегодня Гейстершпиц приветствует нас в необыкновенной красе, – сказала Анна, указывая на гору. – Кажется, будто внутри горы таится яркое пламя, и вся она утопает в огне.
Раймонд, не отрываясь, смотрел на сверкающую вершину.
– А ведь там, наверху, у недоступного трона Девы льдов, – произнес он, – только снег да лед. Она не терпит, чтобы кто-нибудь взглянул на нее вблизи, – это мне самому пришлось узнать, когда однажды я… заблудился в ущельях Гейстершпица.
– Разве ты не знал, что они непроходимы? Что ты искал там?
– Смерти! – медленно и тихо произнес Верденфельс. – Да, Анна, тогда я искал ее и страстно желал, считая невозможным прожить всю жизнь под бременем той тягостной ноши, которая свалилась на мои плечи. В двадцать лет, кажется, легко покончить со всем горем, со всеми страданиями. Но жизнь цепко держится за нас. Меня нашли окоченелого, без сознания, однако я все-таки очнулся… и должен был прожить жизнь.
– Но что же заставило тебя бежать в эти ледяные ущелья?
– Наконец-то ты спрашиваешь об этом! Я ждал этого целые недели, но ты все молчала, всегда ловко уклоняясь от возможного разговора. Я видел ясно, что ты не хотела слушать.
– Ведь я не смела! Доктор строго приказал мне избегать всего, что могло взволновать тебя, полный покой он ставил необходимым условием твоего выздоровления, а я слишком хорошо знала, что всякое напоминание о прошедшем вызовет в твоей душе целую бурю. Но теперь ты выздоровел, – она прижала руку к груди, из которой вырвался глубокий вздох, – теперь я хочу услышать всю правду!
Раймонд молча привлек к себе свою любимую, с тревогой заглядывая в ее глаза, точно боялся, что она снова отступит от своего решения, но Анна с полным доверием положила голову к нему на плечо.
– Не бойся ничего, Раймонд! Что бы мне ни пришлось услышать, я не отступлю в ужасе. Со всем этим покончено в ту минуту, когда я узнала, что твоей жизни грозит опасность. Тогда я почувствовала, что есть только одно на свете, чего я не в силах была бы перенести: я не могла бы лишиться тебя! И если ты даже расскажешь мне о совершенном тобой преступлении, о преследующем тебя проклятии, то нас все равно уже ничто не разлучит. Разделяя с тобой твое будущее, я хочу разделить и прошедшее.
Раймонд на мгновение крепко прижал ее к себе, но тотчас же выпустил из своих объятий и тихо сказал:
– Ты несколько лет прожила в верденфельском пасторате. Слышала ты когда-нибудь, чтобы на меня жаловались?
– На твоего отца жаловались, но в сущности, по-моему, это ненависть и страх сочиняли про него невероятные сказки; я им не верила, а Грегор никогда не говорил об этом. О тебе упоминали очень редко. Ты ведь всегда путешествовал, а когда однажды вернулся в замок, то избегал показываться в деревне. Я ни разу не видела тебя, а барон Верденфельс, с которым я встретилась в Венеции, был не знаком мне даже по имени.
– Вполне понимаю, – мрачно проговорил Раймонд. – Тогда Вильмут еще не раздувал ненависти, зная, что при характере моего отца кровавые столкновения были бы неизбежны, а пострадали бы от них лишь его духовные дети. Тогдашний владелец не заботился о всеобщей ненависти против себя, он над нею смеялся и попирал ее ногами. Я не в него уродился! Тебе часто описывали моего отца. Это был жесткий, властный человек, беспощадный защитник прав и привилегий своего сословия; даже когда начались грозные волнения последнего времени, он и слышать не хотел ни о каких переменах и уступках. С презрением относясь к революционному движению, вскоре охватившему и крестьян, он ошибочно полагал, что в своих поместьях легко справится со всем.
Мне было тогда всего двадцать лет, я был еще очень несамостоятелен, воспитываясь в почти рабском повиновении. Отец не любил меня, потому что я не походил на него, а я чувствовал только страх перед ним. Со страстным нетерпением ждал я времени, когда смогу покинуть Верденфельс, чтобы поступить в университет, ждал, как узник ожидает освобождения из тюрьмы. Но уже за несколько месяцев до того разразилась катастрофа.
Непреклонный характер владетеля Верденфельса и его жестокое обращение с крестьянами вскоре привели к тому, что они вступили в открытую борьбу с бароном: перестали подчиняться даже справедливым требованиям, вымогали всевозможных уступок, а когда им отказывали, грозили силой добиться своего. Мой отец со всех сторон получал предостережения, но вместо того, чтобы пойти на какие-либо уступки, он бросал толпе насмешливый вызов, приводя ее этим в дикую ярость. Были сделаны попытки завладеть замком, но отец только насмехался над ними. Вооружив всю прислугу, он объявил, что накажет «мятежную шайку».
Однако ему очень скоро пришлось убедиться в серьезности положения. Слуги оказались ненадежными трусами, и когда дело дошло до решительного столкновения, нам пришлось уступить численному перевесу нападавших. Принимая во внимание их безумную ненависть к владельцу замка, нетрудно было угадать, какая участь ждала нас, если им удастся прорваться. Нельзя было ждать пощады, для нас это было вопросом жизни и смерти.
Смерти отец не боялся, твердо решив защищаться до последней возможности, но подобное поражение он не мог бы перенести. Для него было уже бесчестьем сама возможность пасть от таких рук. Я видел, как грозно он хмурился, как стискивал зубы, принимая какое-то суровое решение. Я никогда не смел давать ему советы, но теперь решил попытаться.
– Ты видишь, что мы не можем долго удерживать замок, – сказал я, – а на слуг положиться нельзя, они покинут нас, как только дойдет до серьезной схватки. Отступим, пока есть возможность. Калитка в каменной ограде ведет прямо на Шлоссберг, а там такие густые заросли, что мы сможем пробраться незаметно. Через несколько минут мы будем уже на хуторе, где найдем лошадей, на которых доберемся до Бухдорфа. Тех из слуг, которые захотят сопровождать нас, мы возьмем с собой, а остальным бояться нечего: ведь ищут только нас одних.
– Отступать? Бежать? – закричал отец. – И ты смеешь говорить мне о такой постыдной трусости?
– Где десять против одного, там в отступлении нет ничего малодушного. Ты часто водил своих солдат в бой, разве ты не отступил бы перед таким численным превосходством?
– Там был честный бой и честный неприятель, а здесь шайка мятежников! Пусть не говорят, что барон фон Верденфельс отступил перед таким сбродом, бежал от своих крестьян и поденщиков!
– Неужели последние бароны Верденфельсы должны пасть от руки своих поденщиков? Не обманывай себя, отец! От тебя никто не видел милости и снисхождения, и ты ни от кого не увидишь ее; что бы с нами ни случилось, замок все-таки попадет в – их руки.
– Замолчи! – крикнул отец, бешено топая ногами. – Говорю тебе: замок не падет, и я не тронусь с места. Я дам этой шайке заслуженный ею ответ. Попомнят они Верденфельса! Займи пока мое место, я сейчас вернусь.
Он отвернулся от меня и, кликнув егеря, приказал ему следовать за собой. Этот егерь служил когда-то в полку под командой моего отца, последовал за ним в Верденфельс, стал его доверенным лицом и был слепо ему предан, но все считали его беспощадным и бессовестным человеком, способным на всякую подлость. В ту минуту мне некогда было об этом думать, так как я должен был занять место отца и защищать замок.
Тут в доносившихся снаружи шуме и реве вдруг наступила пауза. Нападающие, по-видимому, совещались о плане действий. Через минуту один из слуг сообщил мне, что они собирают хворост с очевидным намерением поджечь ворота замка, до сих пор выдерживавшие все удары. Я поспешил предупредить отца об этой новой опасности. Он заперся с егерем в кабинете, но как раз в ту минуту, когда я подходил к двери, она отворилась, и я услышал последние слова отца:
– Всю ответственность я беру на себя! Думай лишь о том, как незаметно добраться до Шлоссберга, и берегись, чтобы тебя не увидел никто в деревне. Но прежде всего спеши – замок не продержится и часа!
– Положитесь на меня, ваша милость! – раздался сдержанный ответ. – Значит, сарай за домом Экфрида?
Настежь открыв дверь, он вышел из кабинета, но увидев меня, попятился. Я был сыном его господина. и имел право слышать, о чем они говорили, но он бросил на меня странный, как будто испуганный взгляд, оглянулся – не было ли еще кого-нибудь поблизости, и шмыгнул мимо меня. Вслед за ним из кабинета вышел отец.
– Что тебе здесь надо? – сердито обратился он ко мне. – Отчего ты не на своем посту?
Вкратце передав ему о том, что делается за стенами замка, я сообщил о том, что замок хотят поджечь. Он ответил жестоким, издевательским смехом.
– Прекрасно, пусть только попробуют! Дубовые ворота выдержат некоторое время, а до тех пор мы успеем освободиться. Будь спокоен, Раймонд, через полчаса вся шайка будет рассеяна, и возле замка не останется ни единой души, ручаюсь тебе!
Меня охватило предчувствие чего-то ужасного.
– Что ты приказал егерю? – спросил я вне себя от волнения.
– Потом узнаешь. А теперь пойдем, нас ждут.
– Что ты приказал Андрею, отец? – повторил я.
Отец близко подошел ко мне и сказал, понизив голос, причем в его лице и в тоне выражалась холодная, беспощадная решимость:
– Тише, не кричи! Никто не должен нас слышать. Есть только одно средство спасти нас и замок, а на Андрея можно положиться. Если в деревне начнется пожар, все бросятся тушить его, а мы выиграем время и удержим замок, пока из города не придет обещанная мне помощь. Да не смотри на меня так, точно я сошел с ума! В огне погибнет какая-нибудь пара сараев!
Я стоял, как пораженный громом, но в следующую минуту опомнился и бросился вон из комнаты. Отец загородил мне дорогу.
– Стой! Куда ты бежишь?
– За Андреем, я хочу остановить его! Это не должно, не может случиться! Отмени приказание или я отменю его!
– Ты? – презрительно сказал отец. – Неужели ты думаешь, что Андрей послушает тебя, если ты захочешь отменить мой личный приказ?
– Так я силой заставлю его подчиниться, а если он этого не сделает, я буду кричать по всей деревне, чтобы остерегались поджигателя!
Отец побледнел и, словно железными клещами, сжал мне руку.
– Мальчишка! – прошипел он. – Ты хочешь пожертвовать собственным отцом? Хочешь, чтобы замок твоих предков сгорел дотла? Хочешь и сам погибнуть под ударами крестьянских дубин и топоров? Какая почетная смерть для последних представителей нашего дома! И все это ради спасения какого-нибудь несчастного сарая!
– Но подумай же об ужасной опасности для деревни! – стал умолять я. – Ветер дует с Гейстершпица, и если огонь перебросится…
– Ну, нашим крестьянам везет, – перебил меня отец, – с ними ничего не случится. А я делаю только то, что они сами намерены сделать мне. Ты сам говоришь, что они уже поджигают мои ворота! Посмотрим только, кто дольше выдержит – замок или деревня. Ты останешься со мной, Раймонд, и ни на минуту не отойдешь от меня!
Во мне заговорила энергия отчаяния.
– Я не останусь с тобой! Если ты берешь на себя ответственность, то я этого не могу. Я пойду за Андреем и удержу его!
– Так иди же, трус! – сказал отец тоном, от которого вся кровь во мне закипела. – Ты рад найти предлог к бегству, ты уже и раньше предлагал воспользоваться калиткой в каменной ограде. Прежде всего ты хочешь быть в безопасности, это на тебя похоже! Ты – не Верденфельс, да и никогда им не был. Ступай, жертвуй своим родовым замком, покинь отца в минуту смертельной опасности и укройся в безопасном Бухдорфе! Но помни, что сына, который в такую минуту бросает меня и трусливо отворачивается от опасности, я больше не знаю!
Это я не мог перенести: по лицу я видел, что он действительно считает меня жалким трусом. Если бы я, несмотря на это, решился все-таки спасти село, то возвратиться мне было бы невозможно, да и для тех, кто оставался в замке, не было никакого спасения – мой отец, а с ним и замок оказались бы в руках разъяренной толпы.
Все эти мысли сводили меня с ума. Не спрашивай меня о том, чего стоила мне эта борьба, это был самый тяжелый час в моей жизни… Если бы я вышел к бушевавшей снаружи толпе, мне стоило сказать ей одно слово, и деревня была бы спасена, но я остался и промолчал… и судьба Верденфельса была решена!
Раймонд остановился и провел рукой по лбу, на котором выступили капли пота.
– Ты теперь понимаешь, что я не мог сказать «нет», когда ты спросила меня, была ли моя вина в этом несчастье? – спросил он после короткого молчания.
– Да, – тихо ответила Анна.
Она подняла на него взор, в котором отразились остатки прежнего страха, но это длилось один миг, в следующую минуту Анна в страстном порыве бросилась к нему на грудь. Он понял, что это был ответ на его признание, и молча, но в сильном волнении заключил ее в свои объятия.
– Ты знаешь, с какой страшной силой свирепствовал пожар и какой ценой был спасен замок, – продолжал Раймонд. – Даже мой отец был поражен ужасом при таком исходе, которого он вовсе не желал. Я не мог вынести вида дымящихся развалин, вскочил на лошадь, ускакал в горы и гнал коня до тех пор, пока тот от усталости не свалился подо мной. Я же не ощущал никакой усталости. Пламя, бушевавшее в долине, гнало меня все дальше, все выше, через непроходимые ущелья, до самых снеговых полей Гейстершпица. Лишь тогда, когда вокруг меня лежали только вечные льды, когда меня окутал мрак ночи, настал желанный покой. Дева льдов прикоснулась к моей груди своей холодной рукой, и я потерял сознание.
– Ты тогда перенес тяжелую болезнь? Я слышала об этом!
– Да, и как только я поправился, мы покинули Верденфельс, где ходили самые грозные слухи. Люди, пришедшие в отчаяние от потери всего, что имели, подозревали связь между происшедшими событиями, хотя не было никаких доказательств. Они знали моего отца, и мое исчезновение непосредственно после пожара, и моя тяжкая болезнь навлекли на меня подозрение. Говорили, что отец приказал, а сын исполнил. У меня было такое чувство, как будто я действительно сделал это! Отношения с отцом стали для меня невыносимыми. Он видел, что я не могу примириться с тем, что случилось, да и я был в его глазах тягостным напоминанием; поэтому он согласился на мой отъезд. Я отправился в университет, много путешествовал, бродя по белому свету без всякой радости, не находя нигде душевного мира, пока не встретился с тобой… лишь для того, чтобы снова потерять тебя!
– Отчего ты мне ничего не рассказал? – с упреком сказала Анна. – Почему я от Грегора услышала то, что должна была слышать только от тебя? Твое молчание было в моих глазах единственным тяжелым обвинением против тебя.
– Знаешь ли ты, что значит, проведя всю жизнь в тоске и уединении, вдруг почувствовать себя счастливым? Я боялся, что мое признание лишит меня счастья, отняв твою любовь. Но даю тебе слово, Анна, что, прежде чем мы соединились бы навеки, ты узнала бы всю правду. Теперь ты все знаешь и можешь судить меня!
– Не надо больше этой мрачной тени, Раймонд! Пусть она совсем исчезнет! Ты вернулся к жизни, и твоя жена разделит с тобой эту жизнь, что бы она нам ни принесла – проклятие или благословение!
В горах исчезло последнее розовое сияние, и высокие вершины поднимались к небу, белые и суровые, а прямо над Гейстершпицем в еще светлом вечернем небе сияла крупная звезда, сверкая, подобно бриллианту, над увенчанной снегом главой Девы льдов. Ночь спустилась на горы, но сегодня она не была беззвучна. Мягкое, теплое дыхание с юга все росло, и пробужденные им голоса раздавались среди ночного мрака.
Уже трещал лед, сковывавший ручьи, и сверкавшие массы воды понеслись вниз по скалистым стенам. В лесу деревья стряхивали с ветвей тяжелый снежный покров, и зеленые ели, гордо выпрямляя свои освобожденные от гнета вершины, мягким шелестом приветствовали весну.
На огромной высоте, словно по мановению волшебника, тихо слетали с Девы льдов снежные покровы. Превратившись в тысячи ручейков, они устремились в долину, где, шумя и пенясь, их принял горный поток. Из каждого оврага, с каждого утеса неслись голоса, сливающиеся в могучий хор, радостно приветствующий пришествие весны. Зимнее оцепенение было нарушено, освобожденная природа готовилась воскреснуть.
Но если Дева льдов спускается в долину, то всегда несет с собой несчастье!







