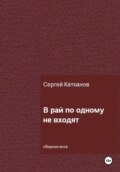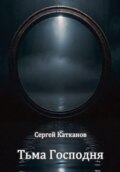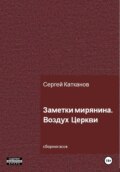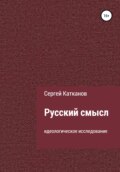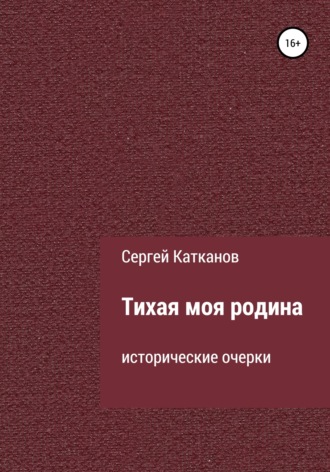
Сергей Юрьевич Катканов
Тихая моя родина
Эти поезда, которые ни когда не могли столкнуться в пути, столкнулись в судьбе одного человека – Веры Кирилловны Слюсенко, родившейся и жившей в Запорожской области.
Семья Слюсенко имела две коровы, две лошади, двадцать ульев. В этом, казалось бы, не было криминала, тем более что батраков не нанимали. Криминал усмотрели в том, что семья не захотела вступать в колхоз. Председателем колхоза был тогда родной брат Кирилла Слюсенко, он и стал инициатором раскулачивания. Так брат шёл на брата. Гражданская война ещё отнюдь не закончилась. Имущество отобрали, потом был поезд, идущий на восток, потом – Спасо-Прилуцкий монастырь, трехъярусные нары в стенах Спасского собора.
Спустя несколько лет после этих событий один из организаторов нацистских концлагерей писал; «Установлено, что путем постройки трехъярусных нар вместо кроватей в типовых бараках имперского трудового фронта можно поместить по 150 военнопленных». – Опоздал группенфюрер с открытием, большевики научились использовать такие нары гораздо раньше.
В монастыре остались мать с тремя детьми, в числе которых – семилетняя Bepa, их отца и деда сразу же отправили дальше, под Тотьму.
«И в дороге, и позднее, в монастыре, обращались с нами, как со скотом, – вспоминает Вера Кирилловна. – Когда сошли с поезда, и всех большой толпой загоняли в стены монастыря, мой брат потерялся, помню, как мать кричала: «Подождите, там мой сын!». В ответ её ударили прикладом. На прикладные удары вообще не скупились. А брата нашли на следующий день под монастырской стеной чуть живого…»
Так начались мучительные 2 месяца: с марта по май 1930 года. Еды не хватало, перебивались в основном за счет запасов, которые были с собой, но не у всех они были. Дети, что поменьше, целыми днями сидели на нарах. Самые маленькие из них часто разбивались насмерть, падая на каменный пол с этих высоких и шатких деревянных сооружений. Верхний храм Спасского собора ни когда не был отапливаемым. Собравшаяся на кирпичах влага постоянно капала с потолка. И полумрак. Можно себе представить, как всё это действовало на детскую психику. Да и на детский организм тоже. Среди сотен детей, умерших в монастырских стенах, был трехлетний брат Веры Кирилловны.
Хоронили, по словам В.К. Слюсенко, под монастырской стеной. А многие нашли смерть в реке Вологде. В марте, когда ещё стоял лёд, ходили на реку за водой. Возвращались не все, иные предпочитали броситься в прорубь. Беспросветность настоящего и мрак будущего толкали к тому, чтобы разом решить все проблемы, Потом из Москвы приехал какой-то важный чин и разрешил родственникам, оставшимся на воле, забирать детей младше 15 лет. Веру забрала тетя, увезла обратно на Украину. Дочери раскулаченного постоянно приходилось испытывать обиды и унижения. Потом был 1941 год.
«На Украине немцы страшно свирепствовали,– вспоминает В.К. Слюсенко, – жгли дома, убивали скотину, стреляли людей. А скольких в Германию отправили! Оттуда мало кто вернулся. И я несколько раз попадала в списки для отправки, в конце концов этого не удалось избежать. Но по пути охранники перепились, и я убежала с поезда».
Так поезд с конвоем второй раз вошёл в жизнь молодой украинки, за всю свою жизнь не совершившей ни какого преступления.
«Очень долго скрывалась, обратно к тете идти было нельзя, всю семью могли расстрелять. Наконец решила пойти к своему крестному отцу Ф. И. Сулеменко, который служил немцам, используя эту возможность для того, чтобы спасать своих земляков. Рискуя головой, он, например, прятал у себя еврейскую женщину с ребенком, спрятал и меня тоже. Через несколько дней разрешил не скрываться больше, сказав: «Гуляй, что уж будет». Немцам он сказал, что я дочь его первой жены. А потом, когда наши подходили, та еврейка сказала ему: «Не уходи с немцами за Днепр, не бойся своих». У неё муж оказался большим начальником, и она за него заступилась».
А отец Веры ещё тогда, в 30-м году, попал под Тотьму. Высадили их в лесу, велели отстраиваться. Только и на этом не кончились его мытарства. Кем-то оклеветанный, он был арестован. Его били, неизвестно что желая выведать и не обращая внимание на постоянно повторяемые слова: «Я ничего не знаю». Потом был лагерь в Коми АССР (Туда же из монастыря отправили его жену). Потом побег.
Нет ничего удивительного в том, что живший век свой оседло человек, оказался неспособен долго выносить жизнь беглого каторжника. Он пришёл в Вологду, прямо к начальнику управления НКВД и сказал, что мол я такой-то и оттуда-то, стреляйте, коли хотите. Начальник оказался человеком с пониманием (Видимо, поэтому его самого позднее расстреляли) Он дал Кириллу Слюсенко возможность поселиться в поселке Ермаково Вологодского района. О возможности уехать на родину тогда, в войну, речи не шло. He появилость такой возможности и сразу же после войны. Зато в 1947 году он взял к себе дочь, сына и жену. Жили тогда голодно, но снова были все вместе. Все, кто остался жив. В Прилуках умер брат Веры Кирилловны, под Тотьмой – её дед. В 1953 году им дали, наконец, паспорта, реабилитировали, разрешили вернуться на Украину. Bepa Кирилловна, вышедшая к тому времени замуж, решила остаться в Ермакове.
«Свои-то, верно, хуже чужих были», – говорит В.К.Слюсенко. К таким сравнениям невольно приходишь, если представлять свою жизнь зависящей от воли правителей. Но свою ли волю творили столь похожие друг на друга диктаторы той эпохи?
IV. Черные избы на белом снегу
Равнодушные лица толпы,
Любопытных соседей набег,
И кругом проторили тропы,
Осквернив целомудренныйснег.
Александр Блок
Начало февраля в том году скорее напоминало середину марта. В маленьких деревнях нет, правда, грязной городской слякоти, нет огромных луж, заставляющих не любить это время года. Здесь весна приносит с собой рыхлый, по-прежнему белый снег, свежий звенящий воздух и одинокие голоса осмелевших птиц.
Деревенька Осинник Гончаровского сельсовета Вологодского района стоит недалеко от дороги. Подходишь к ней по узкой тропинке всё равно, как по бревну, ежеминутно рискуя поскользнуться и увязнуть по пояс. За современными добротными домами – старенькие черные избы, будто вросшие в белый снег. Есть что-то очень русское и в снеге, и в избах, и в резком контрасте между ними.
Женщина, с которой хочу встретиться – Софья Федоровна Чернышева, сейчас ей уже 88 лет (С.К.: это 1990 год) Почти уверен, что застану её дома. Деревенские бабушки редко куда-нибудь выезжают, разве что к сыну в город, и то нечасто и далеко не все. Я не ошибся, из маленькой прихожей хозяйка приглашает в комнату, скромное убранство которой поразило бы всякого, кто не бывал в таких избах. Большая икона в переднем углу. Тиканье настенных ходиков только подчеркивает тишину. Я жду рассказа про тридцатый год, всё про тот же Прилуцкий монастырь.
«Жили в деревне Пестово недалеко отсюда. Трое детей у нас с мужем к тому времени было. Занимались кустарными промыслами, сбрую для лошадей делали. Было и своё хозяйство: корова, лошадь. Муж нa лесозаготовки ещё ездил. A в 30-м году, как раз, когда его не было, имущество отобрали, меня с детьми из дома выгнали. За что, про что – не объясняли, и сейчас нe знаю. А брат мой жил в Осиннике. Пошла с детьми к нему, приютил. Вернулся с лесозаготовок муж, его осудили на 10 лет. А вскоре и меня забрали, одну, без детей. Когда по улице вели, никто не смел подойти даже, так боялись. Привезли вПрилуцкий монастырь, где пробыла с 11 мая до 20 октября».
Я несколько раз удивлялся тому, что Софья Федоровна помнит точные даты происходившего 60 лет назад, причем, называет их уверенно, даже не припоминая. A ведь вряд ли она когда-нибудь думала, что всё это можно будет рассказывать, вряд ли запоминала специально. В те годы такие вещи рассказывали только следователю, а в последующие этим никто не интересовался. Всё-таки странная штука – человеческая память. Цепляется порой в некоторые события с такой силой, что не отпускает уже никогда.
Поселили русских в том же Спасском соборе в том же мае 30-го, когда Адлеры и Слюсенко навсегда покинули эти стены. Кстати, украинцы, с которыми довелось беседовать, до сего времени не слышали, что кто-то был в монастыре и после них. Так же и Софья Андреевна только от меня с удивлением узнала, что за какой-то месяц до неё в соборе жили и умирали дети. При ней детей уже не было.
Русских держали в монастыре гораздо строже, чем их предшественников. Тем бежать было некуда, а у местных дома и семьи – под боком. На ночь – под замок, а чтобы за стены выйти, так и не думали. Давали 300 граммов хлеба в день, да капусты кислой. Лишь у немногих была возможность и быт свой сделать разнообразнее, и паек улучшить. Это работа, стирка. Софья Федоровна сама на неё напросилась через неделю после того, как попала в монастырские стены. Уже и суп давать стали, и кашу – на харчи грех было жаловаться, но и работа очень тяжелая – с утра до вечера.
«Настираешь три огромные корзины и на реку полоскать. Помощников давали, но если убегут – ты отвечаешь. Я у них как бы за старшую была».
Порядок в монастырских стенах теперь поддерживали куда строже, за чистотой следили больше. Так стало, когда последних украинцев отправили кого куда в июне. Целые кучи вшей, как муравейники, после них наметали. И одеяла пришлось в дезинфекцию отдавать, одной стиркой взять их было невозможно.
С.Ф. Чернышеву тоже однажды поставили в список для отправки на Печору, было это 29 июня. Но решили разобраться сначала, а вообще вологодских очень многих отправили, и умерли многие. Её землячка из Гончарки родом там умерла. Хоронили внутри монастыря у той башни, что первая по дороге из Вологды стоит. Хоронили, видимо, в разное время когда где. Все, с кем довелось беседовать, говорят об этом по-разному. Так что теперь внутри монастыря и за его стенами нередко ступаешь по костям. Над ними ни имен, ни крестов,
20 октября 1930 года начальник позвал её к себе и сказал:
– Плохо, говорят, ты, Чернышева, стираешь.
– Так ведь народу много, на всех нe уладить.
– Ладно, ступай домой, только в Вологду зайди сначала отметиться.
В Вологде проверили, не убежала ли, потом отпустили в родную деревню. Её муж полгода был в заключении, потом работал в Вологде. Взят был без обвинений и отпущен без извинений.
Жили Чернышевы неплохо, нажили ещё троих детей, шестеро их стало, а в 1940 году хозяин умер. Осталась Софья Федоровна с детьми одна. Больше, вроде, и рассказывать нечего. Была работа в совхозе, несколько десятилетий к ряду. Работа не баловала ни разнообразием, ни высокими заработками. А детей всех вырастила, поставила на ноги. Сейчас кто где, но не забывают мать, помогают.
Спрашиваю о прошлых временах:
– Кто виноват был во всем этом? Не думали тогда, что Сталин виноват?
– Нет, на Сталина не думали. Тогда вообще боялись и подумать, и слово сказать. Просто кто-то из своих, деревенских, показал на нас. Теперь уже ни кого в живых нет, одна я осталась. Тогда же, когда я и муж вернулись домой, со всеми в мире жили. Никто нам старого не вспоминал, и мы ни кому слова не сказали.
Так просто выходит и так мудро. Что было, то было, надо дальше жить. И никакого поиска виноватых. Икона не даром висит в переднем углу у Софьи Федоровны… Хозяйка вдруг спохватилась: «Так может мне угостить тебя чем?» Она достала из печки топленое молоко, налила стакан, мы ненадолго замолкаем.
Жаль наших бабушек, но им самим и в голову не приходило себя жалеть. Они всё принимали, как есть: незаслуженные обиды, непосильную работу, неожиданные разлуки. «Пообидели в молодости ни за что, а потом всё ладно было, грех жаловаться. Чего уж там, дело прошлое», – говорит моя собеседница. Да, прошлое… Запомнились точные даты, а обиды забылись за долгую жизнь. Эта жизнь, как бескрайнее снежное поле, по которому то здесь, то там разбросаны черные избы.
V. Свидетели
К 1989 году их осталось уже очень немного. Их рассказы немногословны. Что-то забылось, что-то и тогда не было известно. Но сегодня имеет вес каждое их слово.
H.H.Гусев, житель Вологды, вспоминал: « В возрасте 5-6 лет я был свидетелем того, как конвойровали прибывших по железной дороге людей, как их в то время называли – лишенцев, вПрилуцкий монастырь. Колонна была очень большая, шириной во всю проезжую часть дороги. Впереди колонны шли солдаты с собаками, а сзади – с винтовками. Так же и с обеих сторон колонны. Потом я не раз слышал от матери, которая посещала прилуцкую церковь, что вот и сегодня опять много хоронили детей. По несколько гробов в одну могилу. Место их захоронения было при входе на кладбище. В дальнейшем я видел холмики неухоженных могил без каких-либо памятников. Сейчас на этих местах уже похоронены люди, умершие в послевоенные годы».
А.Н.Долгова, одна из старожилов села Прилуки, тоже хорошо запомнила события того времени: «Ужас! Ужас, что было! Лишенцев на лошадях везли из Вологды, весь монастырь был загроможден. Когда с едой было плохо, умирало много детишек. На кладбище их хоронили, не найти теперь ни креста, ни холмика. Голодали тогда все, и в селе тоже нелегко было. Лишенцы, кто мог, меняли свою одежду на картошку и хлеб. Некоторые запаслись в дорогу салом, так сало на хлеб меняли, а чаще всего выходили просить милостыню».
А.К. Раков, проживший в Прилуках более полувека, рассказывал: «Жалко их, конечно, было, когда видели едва идущих по весенней распутице за мерзлой картошкой, или когда они несли на кладбище гробы. После них, как увезли всех, много блох на траве было. Пройти невозможно, так кусались. И деревьев почти не осталось, все пожгли в холодную зиму. Помню ещё, что много среди них было молодежи моего возраста. Нас, парней, иногда пускали за ворота к ним. Девчонки там бойкие были…»
***
Лишенцев в этой земле покоится, пожалуй, больше, чем местных жителей. И немного на земле мест, где похоронено столько детей. Неужели мы сможем об этом забыть?
Часть третья
Обретенная обитель (1991-1992)
I Они вернулись
Они вернулись сюда в мае 1991 года: игумен и два послушника. Вернулись не полноправными хозяевами, а как будто милости пущенные на постой в несколько помещений. Хозяином монастыря по-прежнему продолжал оставаться музей. Монастырские помещения были в таком состоянии, что ночевать первое время приходилось в Вологде, в доме епархиального управления, тем временем подготавливая себе жильё. Не в братском корпусе, а в келарских палатах, призванных служить монастырскими складами. 29 мая заселились в несколько импровизированных келий.
16 июня 1991 года, в день сретения иконы преподобного Димитрия Прилуцкого, в православной Вологде был большой праздник – первый за многие десятилетия крестный ход, который возглавил архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил. Крестный ход прошёл от кафедрального Рождество-Богородицкого собора Вологды к Софийскому собору и далее – к Лазаревской церкви. В нем участвовал и прилуцкий игумен, сразу же после окончания шествия отслуживший в Спасском соборе монастыря молебен с акафистом преподобному Димитрию. Это было первое после перерыва в 67 лет Богослужение в монастыре. Служили в нижнем храме собора, где под спудом, ни кем и ни когда не потревоженные, 6 веков покоятся мощи преподобного Димитрия.
В тот теплый июньский день холод в соборе был невыносимый, пар шёл изо рта, ноги коченели от стояния на ледяных каменных плитах. Все‚ участвовавшие в этой службе, кроме отца игумена, на следующий день слегли от простуды. Но с этого дня в обители начал прослушиваться слабый пульс духовной жизни, несмотря на то, что организм её был искалечен и обескровлен. В соборе – облезлые стены, пол с просевшими плитами. Надвратная церковь без кровли и купола, ободранная, в сгнивших лесах. Братский корпус – с разрушенными печами, наполовину без окон, полов и дверей. Свет, подаваемый по тонкому проводу, брошенному через стену, постоянно гас. Канализации не было, газа не было. Не было ни чего, кроме Божьего благословения, которое имел игумен.
II Игумен
Перед тем, как попасть в эти стены, он в сане иеромонаха служил на приходе в Никольске, восстанавливая первую в этом районе церковь. Догадываясь, что вновь открываемый Спасо-Прилуцкий монастырь предложат возглавить ему, он заранее решил отказаться. Он привык к своим прихожанам, чувствовал, что нужен им. Но владыка Михаил, вызвав его к себе, поставил в известность о новом назначении, как о факте уже свершившемся. Тут пробудилось в душе инока чувство протеста, этому званию не вполне приличествующее. Он не мог ещё внутренне согласиться с решением архиерея и начал искать благовидный предлог для отказа. Однако, боясь совершить своевольный поступок и повинуясь неожиданно пришедшему желанию, решил сразу после разговора с владыкой ехать в село Никульское Ярославской епархии к архимандриту Павлу, убеленному сединами старцу, к которому иногда приезжал за духовным советом.
Старец встретил его в полутемном коридоре и, велев встать на колени, благословил иконой. А, давая её целовать, спросил:
– Знаешь ли, что это за икона?
– Не вижу, отче, тут довольно темно.
– Это икона преподобного Димитрия Прилуцкого.
Позже молодой священник, присутствовавший при этом, рассказал ему, что батюшка ещё накануне, задолго до этой встречи, что-то искал, достал наконец хранившуюся у него вдали от людских глаз икону преподобного и повесил её почему-то не на виду, а в коридоре на гвоздь. Отец Павел не мог знать, что за гость будет у него, поскольку последний сам тогда ещё не знал, что решит посетить старца-архимандрита.
– Поезжай в монастырь. Господь поможет, не волнуйся, – закончил старец.
Инок всё понял. Господней воле противиться нельзя. Так иеромонах Ефрем (вмиру – Евгений Виноградов) стал наместником Спасо-Прилуцкого монастыря. Если первым считать преподобного Димитрия, основателя обители, то отец Ефрем – 57-й из тех, чьему попечению она была вверена более, чем за 6 веков.
Ранее Спасо-прилуцкий монастырь управлялся настоятелем, до XVII века – в сане игумена, затем – в сане архимандрита. В XIX веке прилуцкие настоятели были и викарными епископами, и ректорами Вологодской духовной семинарии. Теперь настоятелем стал правящий архиерей, а непосредственно управлял монастырем наместник в сане игумена. Подобным же образом управляется наместником Троице-Сергиева лавра, настоятель которой – патриарх Московский и всея Руси.
***
Три последних настоятеля, управлявших обителью до революции, происходили из семей священнослужителей и с раннего детства не мыслили себе иной стези, кроме духовной. Судьба игумена Ефрема – совершенно иная. Он родился и вырос в Москве в семье православных мирян. Закончил МГУ и, получив специальность геолога, работал научным сотрудником в Академии наук. Интересовался живописью, закончив вечернее художественно-графическое отделение Московского пединститута, получил диплом художника. Участвовал в выставках дома художника на Кузнецком мосту. Имел интересы самые разносторонние. Писал и издавал в столичных журналах художественную прозу, снял на «Мосфильме» картину, увлекался альпинизмом и конным спортом. В его жизни было, кажется, всё, но ни научная работа, ни художественное творчество полного удовлетворения не приносили. Евгения не покидало ощущение, что он зря живет на земле. Он с юности задумывался о смысле человеческого существования, изучал различные философские системы и религиозные доктрины, но ни в одной не мог найти нужных объяснений до тех пор, пока не обратился всей душой к православию.
В 25 лет у него появилось желание посвятить жизнь совершенствованию души. Посещал храмы, ездил на исповедь в Троице-Сергиеву лавру. Там впоследствии принял монашеский постриг, там познакомился с владыкой Михаилом, который пригласил в Вологодскую епархию. Служил сначала в Грязовце, затем в Никольске. Заочно закончил семинарию, за два года прошёл все степени от чтеца до иеромонаха.
Так русская интеллигенция, в своё время немало послужившая делу разрушения нашего государства и развращению народа, начала отдавать долги, стараясь все свои способности поставить на службу делу духовного возрождения России.
III Из руин
Пока приводили в порядок кельи и храм, ходили на литургию в Лазаревскую церковь, по железнодорожному мосту через реку Вологду – всего 40 минут хода. Тем временем настлали деревянный пол в алтаре нижнего храма Спасского собора, сделали временный иконостас, установили в нем иконы, написанные в Оптиной пустыни другом отца Ефрема специально для Спасо-Прилуцкого монастыря, сделали престол и жертвенник. Владыка Михаил подарил монастырю всё необходимое для литургии. Первая Божественная Литургия состоялась в монастыре в праздник Рождества Иоанна Предтечи – 7 июля 1991 года.
Начали внутренний ремонт надвратной церкви. Болышую помощь в этом оказывали местные энтузиасты, уже несколько лет, ещё до возобновления в этих стенах монастыря, по субботам приходившие сюда.поработать на несколько часов. Помогали и паломники, приезжавшие из Москвы.
В 1992 году фреску «Спас нерукотворный» на фронтоне крыльца собора написал московский иконописец Дмитрий Ермолаев. А незадолго до дня памяти преподобного Димитрия, 24 февраля 1992 года меценат из Москвы А.А. Дедов, президент строительной фирмы, подарил монастырю набор из 9-и колоколов, которые он заказал отлить специально для монастыря.
В июле 1991 года начали приводить в порядок хозяйственный двор. Здесь не просто накопились горы мусора, сам уровень земли за 67 лет поднялся на 1,2 метра, поскольку всё это время сюда сваливались самые различные отходы жизнедеятельности большевиков. Со двора (страшно представить) вывезли 300 «камазов» мусора, потом сделали подсыпку гравийной смесью. На остальной территории мусора накопилось столько, что собор оказался в низине, и под него текли все поверхностные воды. С помощью мелиораторов был выполнен огромный объем работ, имеющих целью спасти собор от затопления.
Проложили по всему монастырю высоковольтный кабель. Осенью подготовили в братском корпусе 8 новых келий, сложили печи с котлами, изготовили в собственной мастерской десятки оконных рам и дверей. В октябре сделали шлемовидную главу на надвратной церкви. 5 ноября отец наместник освятил деревянный обитый медью крест, и в тот же день он был установлен на главе. 14 ноября закончили основные штукатурные работы внутри надвратной церкви. Ko дню памяти преподобного Димитрия, 24 февраля 1992 года был полностью отштукатурен и побелен нижний храм Спасского собора, в котором состоялось торжественное богослужение при огромном стечении верующих со всей области.
В начале лета 1992 года была побелена надвратная церковь, реконструированы закомары, заново обшитые медью. 19 июля с треском и грохотом упали леса. В этот момент наместника не было в монастыре. Вернувшись, он долго не мог оторвать глаз от церкви, а потом сказал: «Господи, какая красавица. Даже не верится».
IV. Друзья и враги
К лету 1992 года в монастыре было выполнено работ на 2 млн. руб. Деньги поступали от жертвователей со всей России, от частных лиц и организаций. Наместник сначала искал тех, кто мог бы выполнить работы, затем тех, кто мог бы их оплатить. Епархиальное управление ни чем не могло помочь, оно само было в долгах, как в шелках. В патриархии та же картина. В это время из-за недостатка средств приходилось даже семинарии закрывать.
Одним из жертвователей выступил облисполком, выделив 2 раза по 50 тыс. руб. (деньгами 1991 года) Большую помощь оказывал В.Г. Тенигин. Благодаря его поддержке много раз разрушались козни желающих помешать монастырю встать на ноги. To же самое можно сказать о начальнике областного управления культуры В.В. Кудрявцеве. Управление‚ само едва сводя концы с концами, всё-таки изыскивало возможность помочь монастырю деньгами.
С администрацией Прилуцкого музея-заповедника, который всё ещё продолжал оставаться в стенах монастыря‚ отношения складывались сложно. Отец наместник с самого начала не был уверен в возможности мирного сосуществования музея и действующего монастыря, его опасения оправдались. Отчасти это было вызвано проблемой психологической совместимости конкретных людей, но тут прослеживалась и общая тенденция. Десятилетия государственного атеизма не прошли бесследно. Если одни представители государства поддерживали возрождение Церкви, то других оно раздражало, порою, очень сильно. То же можно сказать и о представителях творческой интеллигенции. Одни рванули в храмы, а другие очень недобро усмехались по поводу этой «моды».
Серьёзный конфликт вокруг монастыря возник в связи с тем, что игумен Ефрем отказался сотрудничать с тем архитектором, которого ему предложили. Потом Дирекция по охране памятников истории и культуры послала в монастырь группу своих сотрудников, составившую акт нарушений, допущенных при реставрации. Позднее отец Ефрем утверждал, что надуманность каждого пункта этого акта была доказана московским начальством вологодских «ревнителей старины». Но дело даже не в том, кто был прав в конкретных пунктах, а кто ошибался. Дело в том, что государство за 67 лет довело монастырь до состояния руин, и никто по этому поводу не возмущался. Прилуцкий музей-заповедник управлял большой помойкой. Монастырь выглядел, как после разрушительной войны. И все только руками разводили: ну а мы-то тут что можем поделать. Но вот монастырь начали восстанавливать и тут же со всех сторон понеслись возмущенные голоса: всё делается не так, как надо.
Местная пресса в целом довольно доброжелательно отнеслась к возрождению монастыря, но вот в газете «Вологодские новости» появилась-таки «разоблачительная статья». Приведу из неё фрагменты и при этом, конечно, не смогу удержаться от комментариев.
«В конце XIX века известный собиратель русских икон художник Остроухов сокрушался по поводу мечты каждого провинциального батюшки обновить свой храм, заменив древнее убранство современным. (С.К.: сравнение прилуцкого игумена, имеющего три высших образования, с «провинциальным батюшкой» звучит несколько комично). Те же самые опасности, что и в прошлом веке, подстерегают наши памятники и сегодня, когда полным ходом идёт процесс возвращения храмов и монастырей церкви. Многие, кто склонен считать духовенство достойным и последовательным хранителем культурного наследия Руси, совершают большую ошибку (С.К: И доныне распространенная, довольно ущербная логика. Монастыри и храмы, возведенные людьми Церкви, путем вооруженного грабежа отобранные у Церкви, оказывается, не могут быть той самой Церковью «достойно» сохранены. В таких случаях всегда хочется спросить: какое вам дело до того, как Церковь хранит своё собственное имущество? Это её имущество, а не ваше).
…Сегодня просвещенная интеллитенция Вологды предпочитает умалчивать о том, что в результате неграмотных архитектурных работ в Спасо-Прилуцком монастыре уже рухнула часть стены братского корпуса, относящаяся по времени постройки к XIX веку (С.К.: отец Ефрем утверждал, что рухнувшая часть стены по времени постройки относилась к 50-м годам ХХ века и возведена была военными строителями для туалета. Планом реставрации монастыря эта стена была определена к сносу, просто Господь избавил реставраторов от лишних трудов. Даже если стена была действительно ХIХ века, исторической ценности в ней не было никакой, но по поводу этого «падения прилуцкой стены» отцу игумену изрядно потрепали нервы)
…Монастырь не стал заключать договор об архитектурном надзоре с московским архитектором А. Асафовым (С.К.: Был грех) и, заручившись поддержкой заместителя по научной работе управления «Вологдареставрация» Г. Щапина, ведет на территории аварийные земляные работы, самодеятельное строительство и укрепление фундаментов. (С.К.: Всё очень просто: наместник восстанавливал монастырь, а вокруг него спорили о том, кто должен зарабатывать на восстановлении монастыря).
…Отец Ефрем в высших московских церковных кругах хлопочет о том, чтобы закрыть свободный доступ на территорию монастыря всем желающим, ограничив его временем службы. (С.К.: Как видим, отцу наместнику ставили в вину даже то, чего нет, но что по слухам может быть. Сам он по этому поводу говорил: «Мы прекрасно понимаем, что уединиться в обители и закрыть её ворота мы не можем. Люди интересуются своей историей, специально приезжают издалека, чтобы полюбоваться изяществом архитектурных строений монастыря. И это прекрасно»).
Мы процитировали значительную часть этой статьи, чтобы показать, что монастырь после его второго рождения отнюдь не окружала атмосфера всеобщего умиления и поддержки. К примеру, журналистка, написавшая эту статью, была последовательницей одной из нетрадиционных религий, что вполне объясняет её обличительный пафос. Твердокаменных коммунистов возрождение монастыря тем более не приводило в восторг. Некоторые православные тоже не поддерживали прилуцкого наместника.
Отец Ефрем – личность яркая и незаурядная, вызывал к себе полярное отношение. Для одних он был горячо любимым духовным отцом, и они относились к нему восторженно, другие относились к нему настороженно, а то и вовсе неприязненно.
Всё это имело свой результаты. Вопрос о полной передаче всего монастыря Церкви дважды выносился на малый совет областного совета народных депутатов и дважды был решен отрицательно. Но естественный ход событий уже невозможно было остановить. 13 мая 1992 года в 11 ч. 15 м в кабинете у главы администрации области Н.М. Подгорнова был подписан акт о полной передаче монастыря епархии.
V Братия
История монастыря – это история людей. Монастырь – это братия. И созидание духовного братства – процесс куда более сложный, чем реставрация стен и корпусов.
К лету 1992 года монастырская братия составляла 9 человек: наместник, игумен Ефрем, иеромонах Гурий, ранее служивщий на приходе в Устюженском районе и пришедший в обитель в конце 1991 года, а так же 7 послушников. Состав братии в течение года был очень зыбким и изменчивым. Те послушники, с которыми отец Ефрем пришёл сюда, не выдержали тяжести монастырской жизни.
В течение первого лета здесь перебывало полтора десятка человек, причем, только одного из них, обладавшего невыносимым характером, попросил уйти отец Ефрем Остальные сами сказали, что эта жизнь им не по силам и попросили благословения покинуть монастырь. А началось формирование братии с объявления о наборе послушников в только что открытую обитель, которое дал владыка Михаил в центральных и местных газетах. На имя отца Ефрема сразу же пришло огромное количество писем со всего бывшего Союза с просьбой принять в монастырь. В основном это были люди, не имевшие ни малейшего представления о монашестве, значительная часть из них просто хотела спрятаться за монастырскими стенами от житейских трудностей, не предполагая, что в монастыре жизнь значительно тяжелее, чем в миру. He было никакой возможности дать каждому из нескольких сот написавших право убедиться в этом на собственном опыте.