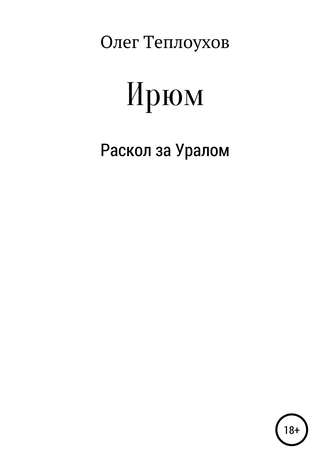
Олег Теплоухов
Ирюм
Не ожидая ничего хорошего, инок подошел к затихшей стае своей новоявленной паствы. Суровые, словно вырезанные из сибирского кедра лица раскольников, сливались в единое полотно с неясными очертаниями. Федор уже не различал ни мужиков, ни баб, ни детей – все одно. Монах сбросил одеяние с серебряного потира и обратился к толпе:
–
Слушай меня, народ Христов! Спаситель заповедал нам, своим верным сынам, причащаться святых даров. Это наш священный долг, как христиан, живущих под покровительством православного государя. Знаю, что вы смиренно несете свой крест в этой непролазной глуши, не имея даже собственного пастыря. Эту проблему мы скоро решим и поставим новые церкви по всей здешней округе. Пока же примите плоть и кровь Христову, за нас пролитую, из моих недостойных рук.
Закончив речь, Федор исподлобья бросил взгляд на раскольников. Те предсказуемо молчали, прячась за мужицкие бороды и бабские платки. Тяжело вздохнув, инок продолжил:
–
Напомню вам, братья и сестры, что святое причастие есть наша священная обязанность не только пред Господом, но и перед законом. Каждая живая душа хотя бы единожды в год обязана совершать таинство евхаристии. В противном случае, на нее может обрушиться праведный гнев государства.
В недрах раскольничей толпы началось какое-то копошение. Потом она выпустила из себя крепко сбитую старушку, покрытую алым платком. Бабка Енафья низко поклонилось Федору, скрестив пухлые руки на груди. Монах смутился и растерянно посмотрел на раскольников, продолжавших с прежней невозмутимостью держать оборону.
–
Кажись, процесс пошел! – издалека прокомментировал появление бабки довольный Степан.
Федор, наконец, избавился от смущения, отыскал за пазухой позолоченную ложку, зачерпнул в чаше кусочек просфоры и осторожно протянул ее старухе. Та широко открыла рот и, не сходя с места, наклонилась к монаху. Федор поманил ее к себе знаком руки. Бабка Енафья, сделав широкий шаг, неловко оступилась и повалилась прямо в ноги Федору, сшибив того с ног.
–
Ой-ой, – запричитала старуха, поднимаясь с колен, – Совсем ноги худые стали, не держут.
Ошалевший монах вскочил на ноги: ряса его напиталась вином и покрылась высохшей на солнце травой. Тут Енафья вдруг громко вскрикнула – это Степан схватил ее за бока и поднял над поляной. Толпа раскольников дружно ахнула: бабка нелепо перебирала ногами, словно перевернутый на спину майский жук.
–
Совсем очумела, старая? – заорал офицер – Ты меня за дурака что ли держишь, ведьма?
–
Отпусти, милок, – взмолилась Енафья, тщетно хватаясь за руку офицера, – Не-то Богу душу отдам.
–
А мы поглядим!
Степан стрельнул в старуху своими красными глазами и отбросил ее в траву. Затем он скинул с себя кушак, скрутил его в тугую косу и размахнулся, чтобы стегануть бабку по хребту. Тут его кто-то больно ударил в бок, и капитан свалился на колени, чувствуя, как лопаются его внутренности. Обхватив ребра, Степан обернулся в поисках обидчика, но получил сапогом в лицо. Кровь хлынула ему в нос, а в глазах потемнело.
Растерянные солдаты вскинули фузеи и нацелили их на раскольника, напавшего на их офицера.
–
Нет! Отставить, – в гневе закричал Уручев, опасаясь, что раскольника, унизившего его при подчиненных, убьет чужая рука.
Ожидая пропустить новый удар, он перевернулся на спину и увидел перед собой широкую грудь молодого парня.
–
Вставай, собака, – прошипел Демьян. – Лежачих не бью.
Степан сунулся за пистолетом и стиснул зубы, поняв, что потерял его. Так тебе, пьяная морда, – отругал себя Уручев. Сохраняя внешнее спокойствие, он поднялся на ноги, намереваясь запугать обнаглевшего раскольника своим офицерским рыком, но тут же пропустил удар в челюсть. Зубы Уручева хрустнули, заполнив рот вперемешку с кровью. Капитан взвыл в приступе боли и с яростью подстреленного кабана бросился на Демьяна. Оба дерущихся повалились в траву, превратившись в единую груду мускул. Через мгновение они уже бились у переплетенных корней тополя.
Степан, на мгновение освободившись из цепкой хватки Демьяна, вцепился длинными руками в толстую ветку и влез на тополь. Опираясь на грубую морщинистую кору, он успел на немного перевести дух, пока неугомонный Демьян не взобрался на дерево с другой стороны, оказавшись прямо над головой капитана. Красные от ярости и хмеля глаза офицера встретились с прямым взором раскольника. Уставший капитан с медвежьим рыком из последних сил метнулся в сторону обидчика, ухватившись за его сапоги. Подошвы Демьяна предательски скользнули о влажную кору, и он полетел к земле, пока не уцепился за одну из ветвей. Жилы на руках Демьяна вздулись от напряжения: капитан, не отпускавший сапог обидчика, отчаянно тянул его вниз. Степан вновь попытался выхватить взгляд упрямого раскольника, когда поляну вдруг всколыхнул раскат грома, а руки Демьяна разом обмякли и расцепились. Два могучих тела повалились к подножию тополя, ломая друг другу ребра. Солдаты и двоедане дружно ахнули и замерли, затаив дыхание.
Федор выкинул в траву пистолет, дымящий горячим от выстрела стволом, отыскал в траве оброненный потир и торопливо пошагал к лошади, намереваясь поскорее вернуться в Тобольск и забыть все, что увидел и сотворил сегодня.
Малаша, удерживаемая рукой Мирона, тщетно пыталась вырваться из плотно сбитой толпы раскольников. Ее бездонные синие глаза утопали в слезах.
Глава 4
Должно быть, убей капитан Уручев Демьяна самостоятельно, он бы сразу угомонился. Однако смерть дерзкого обидчика от руки другого – какого-то вшивого чернеца, от выстрела, сделанного из пистолета самого Степана – это было плевком судьбы в лицо. Капитан так взбесился, что, несмотря на переломанные кости, лично возглавил расправу над раскольниками. Он с голыми руками набрасывался на деревенских мужиков и с остервенением таскал их за длинные бороды. Он беспощадно срывал платки с местных баб и, как невольниц на базаре, прогонял их перед строем солдат. Раскольники при этом совсем не сопротивлялись надругательствам, смиренно принимая гнев опозоренного капитана. Такая реакция только распаляла Степана, который в эти дни пугал даже видавших виды вояк Ширванского полка. Лишь к вечеру, напившись кумыса до беспамятства, он успокоился и принялся бродить по деревне, натыкаясь на тоскливо воющих на луну собак.
Жители Дворцов рассовали по погребам ценные иконы да святоотеческие книги, опустошили моленную и запустили в нее скот, маскируя под стойло. Лучше уж навоз, чем никонианская нога, – рассудили двоедане. Проспавший едва ли не сутки капитан не смог найти по деревне ничего действительно ценного. Без знающего глаза Федора он сгребал своими хищными руками только то, что ему сами подсунули хитрые раскольники. Забив сундуки грошовыми иконами, тряпьем и серебряными побрякушками, Уручев немного успокоился, ожидая, что в Тобольске выручит за награбленное солидный барыш. О себе капитан позаботился – теперь надо подумать и о подарке для Сильвестра. По-хорошему, надо забрать в Тобольск убитого раскольника, чтобы его закопали у помоев без всякого христианского обычая. Но зачем с мертвечиной возиться ему, Степану? До тобольского Кремля путь не близкий. Менее хлопотно оставить мертвого здесь, на его родине. Пусть раскольщики делают с ним, что хотят. Пусть хоть святым нарекут – до этого Степану дела нет. Ему и вовсе опротивело вспоминать об убиенном раскольнике и позоре, который предшествовал убийству. Мало ли он смертей на своем веку повидал? – Сотни! Но утром капитан проснулся с чугунной головой и лицом Демьяна перед глазами. Какого лешего он запал ему в душу? Сам бы убил эту собаку, ежели б Федор не подсобил! – ругался про себя Степан, – И эта его плаксивая жёнушка благодарить должна, что ее от такого дурака избавили.
Поразмыслив, капитан решил прихватить с собой в Тобольск с полдюжины раскольников, чтобы суровый сибирский епископ не затаил на него злобу. Степан уже смекнул, что с Сильвестром стоит дружить также близко, как и с губернатором. Больше всего Уручева удивило то, как легко пленники согласились отправиться с ним в Тобольск. С утра он собрал всю деревню от мала до велика на поляне и поставил перед строем солдат, вскинувших ружья. Он приготовился к убеждению и уже разминал кулаки, как вдруг из толпы раскольников выделилась небольшая кучка и самочинно погрузилась на заранее приготовленный обоз. Капитану оставалось лишь с недоумением чесать немытую голову. Внимательно осматривая будущих колодников, Степан примерялся, смогут ли они удовлетворить аппетиты Сильвестра.
–
А ну-ка креститесь! – крикнул он на мужиков.
Пленные дружно осенили себя размашистым двуперстным знамением.
–
Креститесь троеперстно! – еще громче завопил капитан, демонстративно хватаясь за пистолет.
–
Прости, батюшка, – запричитали мужики, – Слагаем персты, как с детства приучены.
–
Пешком у меня до Тобольска пойдете, шельмы! А ну пшли с обоза! Вон! – рычал капитан, не умея сохранить злобу в голове: качеством пленников он был доволен.
По команде капитана солдаты пришпорили коней и нестройно двинулись вперед; за ними, подпрыгивая на кочках, заскрипел колесами обоз с раскольниками; замыкал процессию Степан, теперь облачившийся в офицерский мундир. Голова его постепенно прояснялись благодаря целебному рассолу и прохладному утреннему ветерку. Думы о нелепой схватке с Демьяном он собирался оставить в окаянной деревне, где бросил и наскучившую ему татарку.
Сырой воздух погреба постепенно набирался теплом едва тлеющей свечи. Мирон сидел на влажной земле, поджав под себя босые ноги. Вокруг него были аккуратно разложены старинные книги и пожелтевшие свитки пергамента. Он машинально водил по корешкам увесистых томов и думал о том, как хорошо просто сидеть здесь, под землей.
Последние годы в жизни ирюмского раскола были спокойными, а потому случившееся накануне потрясло Мирона до глубины души. До вчерашнего дня он никогда не видел столь легкой и быстрой смерти. Отдать жизнь за Христа, за старую веру есть святое призвание человека, и Мирон знал это с детства. Однако уж слишком давно смерть не заходила во Дворцы так нагло. Что же означает гибель Демьяна, думал Мирон? Демьян был молодым, горячим и самым живым парнем на деревне – он и есть сама жизнь. Значит, вчера смерть вот так запросто победила жизнь? Мирон хотел верит, что нет. Так ли уж дорога наша земная жизнь, чтобы, сберегая ее, поддаваться смерти? Что такое земной путь по сравнению с вечностью? Он завершается скорее, чем прогорает свеча. Поддаваться смерти, значит отказываться от вечности в угоду мирской жизни. Так, сидя в подвале в окружении книг и святых образов, рассуждал Мирон. Но что на его мудрствования сказал бы сам Демьян? Ведь это он лишился жизни, это он потерял молодую жену, это он никогда не увидит своего ребенка. Одно Мирон знал наверняка: смерть ничего не отберет у него самого. Ведь у Мирона не было ничего, кроме веры, а отнять ее невозможно.
Когда будущее туманно и покрыто мраком, должно обращаться к прошлому – к святой старине. Этим руководствовался Мирон, раз за разом перечитывая свою невеликую библиотеку, унаследованную от бабки. За хранение старопечатных книг полагалось провести остаток жизни в казематах – тобольские архиереи видели в печатном слове главного расколоучителя.
Мирон покопался в бумагах, неразличимых при скупом свете огарка, и вытащил исписанный вполовину лист пергамента. Это была его отдушина, его первое самостоятельное сочинение – “История про древнее благочестие”, которую он писал в тайне от всех. Мирон задумал отследить историю ирюмского раскола от первых святых апостолов. Он не сомневался, что его собратья по вере носят в себе чистоту и правду раннехристианской церкви и собирался доказать это на бумаге. Мирон почти физически ощущал силу написанного слова, а потому работа его подавалась нелегко. Сейчас, когда над ирюмским расколом нависла опасность, работа над сочинением вдруг представилась Мирону едва ли не греховным занятием. Теперь пришла пора отбросить книги.
За новым тобольским архиереем Сильвестром Гловацким с Руси шла самая дурная слава. Сильвестр пробыл в Сибири только месяц, а на Ирюм уже пришла смерть. Новый сибирский епископ был человеком ни старой, ни новой, а государевой веры, – рассуждал Мирон. Он также, как и его предшественники, будет выслуживаться перед погрязшими во грехе чиновниками, а другой рукой примется беспощадно душить раскол. Из далекого Тобольска Сильвестр смог разогнать по подвалам всех дворецких двоедан. Что же будет с расколом?
Новости по Ирюму распространяются быстро, а потому к вечеру дня убийства Демьяна уже вся округа знала о случившемся. Беглый священник Симеон спешил во Дворцы, чтобы потолковать с местной паствой о дальнейших действиях. Он хорошо помнил, как только минувшей зимой обвенчал статного парня Демьяна с красавицей Маланьей. О Демьяне он и не думал – такая смерть только к чести любому мужику. Убеленную сединами голову Симеона больше заботила Малаша, потерявшая сначала родителей, а теперь и мужика. За что девке такие испытания? – никак не мог взять в толк священник. Но разве испытания даются только за грехи? – спорил сам с собой Симеон. Испытание Божие тем и ценно, что посылается всегда как будто бы ни за что и не тому. Для каждого человека Господь заготовил крест, который ему по силе.
Отец Симеон торопливо брел лесной тропой, вьющейся вслед за холодным ручьем, рассчитывая прибыть во Дворцы к полуночи. Он ловко огибал валежник, опираясь на деревянную палку, вырезанную из легчайшей сосновой ветки. Спешная ходьба путала его мысли и мешала думать, а поразмыслить ему было о чем. Сегодня на общем собрании деревни его, как духовного наставника всего Ирюма, спросят, чем ответить на убийство Демьяна и как жить под грозной рукой нового сибирского архиерея.
Когда Симеон добрался до Дворцов, долгие летние сумерки уже превратились в густую ночь. Деревня словно вымерла: только сонный скот да беспокойные собаки недоуменно переглядывались друг с другом, потеряв хозяев. Все взрослые уж давно собрались внутри просторной моленной, стоявшей за высоким забором на излучине Мостовки. Моленную поставили с десяток лет назад, когда ирюмский раскол уж подокреп и почувствовал свою силу. Здание срубили из вековых сосновых бревен и перекинули через него невысокую двускатную крышу, увенчанную скромным куполом. По закону моленные строить было запрещено, но не так, чтобы совсем невозможно. Провинциальные воеводы на многое закрывали глаза и следили лишь затем, чтоб моленная была выстроена без особого украшательства – не приведи Господь, чтобы какой-нибудь слабый духом православный мужик, завидев благолепно поставленную моленную, вдруг обратился в раскол.
Симеон перебрался через брод реки и постучал в невысокую дверь забора, замаскированную от глаз чужаков. Через мгновение она отворилась, впустив священника на тесный двор. Пространство между забором и моленной было забито народом: все негромко, но оживленно переговаривались, создавая шум пчелиного роя. Завидев своего духовного наставника, народ приутих и низко поклонился гостю. Тот благословил паству мимолетным движением руки и поспешил в моленную.
Внутри было темно: внушительное по площади помещение освещало меньше десятка свечей. С полок на людей со скорбью и пониманием поглядывали лики святых. Между рядами икон к стенам были приделаны медные кресты и литые образа, отражавшие тусклые огни свечей и множившие их число. На престоле располагалось величественное Евангелие, отделанное красным бархатом и одетое в рубашку из жемчуга; на аналое открытыми страницами белел служебник; рядом на сундуке громоздилась стопка святоотеческих книг. Через крохотные оконца внутрь моленной проникал бледный свет луны, подсвечивавая намытый до блеска пол и ноги раскольников, рассевшихся на скамейках у стен.
Отец Симеон влетел в моленную стремительно, как на пожар. Оглядевшись, он низко поклонился и поприветствовал присутствующих. Несколько старух подошли, чтобы поцеловать руку священника. Затем Симеон прошел к иконостасу, поднимая на ноги весь народ. Священник и его многочисленная паства молились долго и истово, чувствуя, как важно сегодня быть услышанными Господом. После окончания общей молитвы Симеон устало повалился на скамью, растирая онемевшие ноги – сказывался долгий переход. Священник сосредоточенно разминал конечности, украдкой поглядывая на лица собравшихся двоедан и пытаясь угадать их душевное состояние. Закончив с ногами, Симеон встал, опираясь на бревна стены и доверительным тоном обратился к пастве:
–
Крепко молились сегодня, братья и сестры! Да ноги мои уж не те – початай, годов тридцать как от племя Антихристова бегаю.
–
Еще столь же отбегаешь, отче! – одобрительно загудел народ.
–
Соболезную вашей тяжкой утрате, – продолжил Симеон. – Демьян был добрым в делах и твердым в вере христианином. Господь призвал его в Царствие небесное раньше нас, а значит, нам еще придется помучиться, ожидая жизни вечной. Завтра мы простимся с Демьяном и погребем его по христианскому обычаю, что по нонешним временам почти уж роскошь. Демьян в умиротворении будет пребывать со своим Отцом небесным, но от нас, своих братьев во Христе, потребует действия. Роду проклятому мы спустить такого зверства не можем – не по чести. Что думаешь о том, честной народ?
Двоедане вновь зашумели, наперебой предлагая самые разные меры. Братья Демьяна стояли за то, чтобы выследить и задушить молодого монаха, как бешеную собаку. Другие предлагали перво-наперво освободить из плена пятерых мужиков, увезенных капитаном, а уж после решать, что делать с убийцей. Третьи были уверены, что разбираться надо с самим капитаном, который и привел солдат в их деревню. Самые отчаянные стояли за то, чтобы начать бунт и пожечь храмы господствующей церкви в ближайшей округе.
Симеон развалился на скамье, устало выслушивая дворецких мужиков да баб, кипевших от нетерпения. Тут взгляд его упал на молодого парня, тихо сидевшего в самом дальнем углу моленной. Он ни с кем не разговаривал и, казалось, вовсе собирался уйти. Симеон поднялся и подошел к молчаливому пареньку, узнав его только с расстояния двух шагов.


