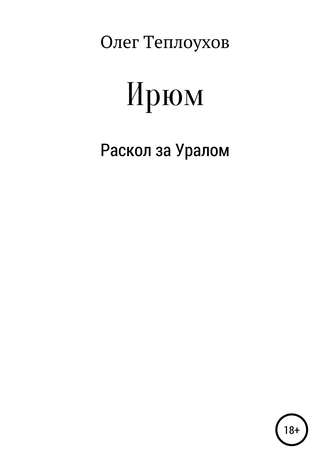
Олег Теплоухов
Ирюм
–
Кто тут лодка, а кто корабль, еще надо поглядеть, – Мирону вовсе не хотелось спорить с никонианским иерархом, но горящие мечтами глаза Сильвестра так и просили возражения. – Вы можете согнать нас с земель, разрушить наши избы и загубить людей. Но Церковь Христова – это не только живые, но и мертвые. Истинная Церковь будет существовать вечно – на небе, подле Отца нашего и Спасителя.
–
Если у вас истина, то что ж тогда у нас?! – горячился оскорбленный епископ. – Кому мы-то молимся? Дияволу что ль?
–
Ваша вера господская – господам и молитесь. Никон оторвал вас от Спаса, заменив истину льстивой ложью. Мы пребудем в вечности, а вы оставите после себя только остовы пустых церквей, где будет гадить скот да скрываться от овода.
–
Плетей ему! – не выдержал Сильвестр, – Федор! Кличь солдат. Плетей ему – прямо на морозе, чтоб до костей проняло!
Караульные, обезумевшие от криков епископа, гурьбой ввалились в консисторию и поволокли Мирона на двор. Он ничуть не боялся избиения, думая лишь о том, как вновь окунется в чистоту морозной ночи.
Малаша крепко сомкнула глаза, но все равно чувствовала, как горит ее лицо. Она впервые оказалась в православном храме: руки и ноги ее онемели, а тонкая шея, скрытая под платком, вспыхнула ярким огнем. Малаша не понимала, что происходит вокруг: православная служба оказалась пугающе недоступной для нее – словно священник говорил на чужом языке. Пальцы Малаши намертво сцепились в троеперстном знамении – она училась креститься по-новому не одну ночь. Как солдат, готовый к маршу на плацу, Малаша ожидала указаний, что делать дальше. Изредка она открывала глаза, чтобы бросить короткий взгляд в сторону алтаря, где находился Федор, помогавший Сильвестру служить литургию. Ослепительно резкий свет; яркие краски фресок; важные, так похожие на живых людей лики образов; оглушающее, переворачивающие нутро пение привезенного Сильвестром хора, – все это до смерти пугало Малашу, заставляя до боли жмурить глаза. Служба подобралась к “Отче Наш”, и Малаша послушно зашевелила губами, проговаривая с пеленок знакомые слова, в надежде, что они породнят ее с новым миром. Сейчас она молилась не Отцу небесному, а своему счастью, как остячка-язычница на окровавленном капище. Малаша мечтала поймать свое счастье, как и всякая деревенская девка. Перемена веры должна была помочь – ведь раскол принес Малаше только горе.
Вдруг врата Софийского собора хлопнули, и мерное течение службы нарушил топот солдатских сапог. Прихожане обернулись и единогласно ахнули: караульные ввели в храм чуть живого арестанта, избитого и ободранного до безобразия. Невольник тщетно пытался уловить происходящее вокруг через узкие прорези заплывших глаз – так слепой котенок тыкается по сторонам в поисках материнской груди. Сильвестр, видя, как взволновался народ, знаком попытался привлечь его внимание и повысил голос. Малаша, только что раскрывшая глаза, сразу уловила взглядом посеревшее лицо Федора, устремленное куда-то вдаль. Обернувшись, Малаша вздрогнула: в сгорбленном, засыпанном кровавым снегом арестанте она с трудом, но узнала Мирона Галанина. Ноги ее подкосились, а плечи потянуло назад – обмякшую Малашу подхватила стоявшая рядом старуха. Федор уже бросил служебник и нырнул в толпу. Мирон почувствовал, как зашевелился народ, и ринулся вперед, но повис на тяжелой цепи.
–
Малаша, беги ко мне, я тут! – завопил из последних сил Мирон.
Заслышав его голос, Малаша оттолкнула старуху, тараторившую над ней молитву. Толпа прихожан сомкнулась, и Малаша с трудом протискивалась к воротам. Мирон, одернутый караулом, как дурная собака, метался на четвереньках в частоколе солдатских ног. Тут голову его обхватили жгучие руки – Малаша накрыла Мирона своим телом, обнимая и целуя его вспоротый хребет. Солдаты замешкались: доживающий последние дни раскольник и красавица в белоснежной крестильной рубахе сцепились в крепких объятиях прямо под их сапогами. Чуть поодаль за происходящим пустыми глазами наблюдал Федор – сердце его стремилось прочь из Тобольска.
–
Что вытворяет твоя грязная девка?! – Сильвестр был неистов, отчего пустой графин на столе подпрыгивал и истерически позвякивал.
Федор молча сидел напротив, понурив голову, и, казалось, совершенно не слушал епископа.
–
Федя-Федя… – Сильвестр через стол потянул монаха за рясу, пытаясь привести его в чувства. – В себе ли ты? Я тебя совсем не узнаю. Не уж-то все дело в раскольщице? Мало ли ты девок повидал, пока не угомонился? Или сибирская жизнь тебе не по нутру? Что за печаль тебя терзает? Вот уж действительно: Cum tacent clamant. Федор! Кому тебе еще открыться, ежели не мне, своему духовному отцу и наставнику? В Тобольске мы с тобой, яко овцы посреди волков. Право, не к чему таиться!
–
Владыка, опять скажу тоже: утаивать мне нечего. Маланью я не люблю, но, чувствуя за собой вину, хочу ее крестить. Это я сломал ей жизнь, выдернув из привычного ей мира. Если мы с тобой – овцы посреди волков, то она в Тобольске, как Игнатий, раздираемый львами. Перейдя в православие, она сможет обезопасить себя. Я уже и место нашел, куда ее пристроить. Женских рук Тобольску смерть как не хватает, а Маланья, может работать за трех городских девок. Своим трудом себя прокормит.
–
Мда… ну и проекты ты вынашиваешь, – Сильвестр широко повел бровями. – Видать, мало я тебя делами нагружал. Впрочем, может оно и к лучшему, что в тебе еще теплится уголек жизни и сострадания. Я уж было думал, что ты давно превратился в истукана – за то тебя и ценил. А ты такие фортеля выдаешь, когда тебе в пору о себе подумать. Раз уж тебе спокойно не сидится, то давай, Федя, собирайся в дальнюю дорогу. Как придет час – ехать тебе в Далматову обитель. Там нынче губернатор свой порядок наводит, какие-то делишки с землями обделывает да степной угрозой покрывает, а мне надо знать, что игумен и братия мне верны. К тому же – никак не смолкнет слух – тамошние монахи все еще слабы на раскольничью прелесть и потакают ей. Уж полвека минуло, как старец Далмат почил, а братия все на раскол заглядывается. Знать, надобно с корнем сорняки ереси вырвать. Вот ты, Федя, поезжай в монастырь и разузнай, чем там игумен и братия живут, о чем Бога молят и на кого уповают.
–
Когда прикажешь ехать, владыка? – равнодушно спросил монах.
–
Ты давай щеки-то не надувай, поддай-ка желания. – Сильвестр приблизился к Мирону со спины и ухватил его за плечи. – Как Сухарев вернется в Тобольск, так и поезжай. Он мне тобой уже плешь проел. Чем ты ему не полюбился – не ведаю. Народ судачит, что физиономией уподобился ты тюменскому татарину, с которым губернаторская жена как-то согрешила. Мне о такой срамоте и думать тошно, но Сухарев мужик простой – с него станется. И еще… – Сильвестр поглядел на тонкое, действительно отдающее восточной смуглотой лицо Федора. – Губернатор, хоть и большую власть имеет, да все ж не так опасен – у меня против него свои козыри есть, о чем он хорошо знает. Но за Уручевым ты следи в оба – он тебя затопчет и глазом не моргнет. Редкостная скотина этот Степан, и в борьбе с ним я тебе не помощник – капитан мне и самому нужен. Слишком уж полезен, дьявол.
Глава 8
Щедрый Иртыш давал тоболякам пропитание и работу: мужики ловили рыбу, перевозили на своих суденышках грузы, встречали заезжих купцов. Но та же река по весне приносила Тобольску много горя и испытаний.
Март выдался на редкость теплым – уже на Сороки прошел первый дождь. Как и пророчили приметы, следующие недели оказались столь же теплыми. Иртыш, потревоженный ранним дождем, медленно просыпался от зимней спячки. Сначала у могучей сибирской реки подтаяли и почернели бока, пропустив на волю студеную воду, застоявшуюся за зиму. Тобольские мальчуганы, наплевав на указы матерей, мочили ноги и простужались. Старшим оставалось только чесать затылки да кланяться иконам: скоро река вскроется и выйдет из берегов.
Через пару дней лед на Иртыше вспучился, словно хмельной живот кабацкого пропойцы. Затем брюхо реки распороли уродливые шрамы, обнажив ее алчущую свободы утробу. Иртыш напрягся, встрепенулся и вдруг разом пришел в движение. Льдины наскакивали и давили друг друга, рвали и вгрызались в чужие бока, топили соперников и поднимали на колья побежденных.
Как потревоженный пчелиный улей зашевелился и Тобольск. Нижний посад разбирал свое барахло и освобождал от добра подклети; амбары выметались под чистую; торг на нижних рынках встал – народ сбежал на Панин бугор, подальше от большой воды. Среди опустевших улиц ошалело носились голодные собаки, хищными глазами высматривая позабытых в суматохе кур, свиней да овец. Над брошенными избами кружило вороньё, предчувствуя скорый пир.
Следующей же ночью Иртыш загремел канонадой. Гром, завывающий скрежет и скрип подсказывали знающему уху одно – в месте слияния Тобола и Иртыша образовался затор. Льдины, не в силах пробиться дальше, наскакивали друг на друга, образуя слоеный пирог. Вода, пытаясь обогнуть ледяную плотину, вышла из берегов, сокрушая все на своем пути. Стихия не проявила и капли жалости к тому добру, которое тоболяки годами наживали тяжким трудом. Вода ломала избы, хлебные и соляные амбары; крушила в щепу торговые ряды; уносили мосты, полуживой скот и вспарывала мостовые.
Жители гордой сибирской столицы, заливаясь слезами, отсиживались на горе под белокаменными стенами Кремля – мимо них проплывало все их добро. За какие грехи Господь послал им столь суровое наказание? У каждого на памяти были грешки, да разве они соразмерны стихии? Оставалось лишь роптать и молиться, чтобы вода поскорее ушла. А пока в Тобольске царствовали людишки самого низкого пошиба: воры, насильники, пьяницы и прочий лихой сброд повылазили из всех щелей, как тараканы. Этот подлый сорт человека радовался чужому горю и питался им. Те тоболяки, кто разом лишился всего, бродили по городу, пустыми глазами заглядывая в окна уцелевших домов. Солдаты, не спавшие которое сутки, ловили воров, пороли разбойников да без меры прикладывались к бутылке. Церкви отворили свои закрома, снабжая голодавших горожан провизией. Губернатор, только вернувшийся в город из поездки по южным острогам, суетился, десять раз на дню заглядывая в каждый уцелевший уголок Тобольска и проверяя исполнение своих поручений, – словом, лучшего времени для побега было не найти.
Грохот реки, колокольный звон и карканье ворон сливались в единую симфонию звуков. Рыжий Яшка, очутившись на свободе после долгого заточения и знакомства с плетьми, отныне решил больше никогда не горевать. Даже в природном бедствии, которое тоболяки воспринимали, как кару Божию, он научился видеть добро и благо. Впрочем, сам Яшка жил на окраине города рядом с татарами, куда вода так и не дошла, зато добралось всеобщее горе. В своей небольшой избе он приютил три семьи, которых разъяренный Иртыш вовсе лишил крова. Горница яшкиной избы наполнилась горькими слезами – плакали обезумевшие от горя бабы, да крепким перегаром – лишившиеся хозяйства мужики заливали тоску самогоном. Яшка знал их всех много лет – торговали бок о бок, хоть и дружбу никогда не водили. Несчастье оказалось выше вероучительных разногласий и упрямый раскольник пустил к себе никониан. Хлеб да капуста – на столе не пусто, рассуждал сам с собою Яшка, думая, чем прокормить нежданных гостей.
Яшкина баба безропотно взвалила на себя заботу по присмотру за чужими детьми. Те были еще слишком малы, чтобы понять всю тяжесть своей доли, и с утра до вечера носились по избе, разрушая строгий двоеданский порядок, царивший у Яшки. Бог не дал им с женой своих детей, и теперь Яшка с умилением замечал, как расцвела его бесплодная женка – забота о других наполнила ее силой и радостью, которая она, краснея, тщетно пыталась скрыть.
Было уже далеко заполночь, а Яшка так и не сомкнул глаз. Он слушал, как после суетного дня мерно сопит его любящая жена, как надрывно храпят пьяные мужики, как тихо всхлипывают их бабы, как беспокойно ворочаются во сне дети – и на глазах у него самого наворачивались крупные слезы, путающиеся в густой бороде. Его спина еще помнила удары плетей, срывающих плоть до самых костей. Тогда, безвинно оказавшись на плахе, он считал себя самым несчастным человеком на свете. Но теперь Господь открыл ему, что такое настоящее горе. Горе окружило его со всех боков, но самого оставило невредимым, словно насмехаясь – погляди, что могло быть с тобой. Яшка не возблагодарил Бога, боясь обратить Его внимание на себя, недостойного даже испытания настоящей бедой. Теперь он лежал на холодном полу, с замиранием сердца вдыхая тяжелый смрад перемешавшихся перегара, слез и разбитых надежд. Господь не дал ему ума и веры, достаточных, чтобы ценить каждый момент жизни, – корил сам себя Яшка. Но теперь все! Теперь он поставит себя по-новому, теперь-то он угодит Богу.
Утерев слезы радости, Яшка бесшумно поднялся и, как кошка перепрыгивая спавших на полу, добрался до двери. Луна услужливо подсветила божницу, Яшка низко поклонился образам, натянул стоптанные сапоги, видавший виды тулуп, задвинул на брови собачью шапку и выскочил на двор.
Ночью вдруг ударил мороз и разлившуюся реку сковало тонким льдом. Подтопленные дома оказались стиснуты в цепких объятиях ледяной корки, на которую не боялось выходить только вороньё. Яшка поглядел на приветливо мерцающие звезды, потрепал рыжую бороду и отправился выводить из конюшни лошадь. Кобыла нехотя позволила обуздать себя, то и дело бросая негодующий взгляд на хозяина. Но тот лишь лукаво подмигивал ей в ответ, поглаживая по крупу. Новое, еще не объезженное седло болью отзывалось в ребрах, и лошадь все норовила пуститься в галоп. Яшка, крепкой хозяйскую рукой успокаивал ее, приговаривая:
–
Обожди, Маруся, натерпишься еще сегодня, успеешь разбежаться. Обожди, родненькая.
Вскоре выросли купола тобольских церквей и забелели крутые бока Кремля. Впереди раздались голоса – караульные, вполглаза следившие за исполнением комендатского часа, пересказывали друг другу десятки раз слышанные солдатские байки, поеживаясь на морозе. Яшка проворно спешился, сгреб Марусю за узду и повел ее за огороды. Отламывая жерди ветхого забора, он вспоминал, как почти в этом же месте уже прятался от солдат, но в итоге был схвачен.
Лошадь, не привыкшая прыгать по огородам, совсем осерчала на хозяина и когда Яшка, обогнув караул, вновь полез в седло, Маруся в сердцах чуть не сбросила его.
–
Не дури, старая! – забеспокоился Яшка, – Подсоби хозяину дело сделать, а уж я в долгу не останусь.
Чем ближе Яшка с Марусей подбирались ко Кремлю, тем больше народу им попадалось на пути. Наплевав на губернаторский запрет, тоболяки сновали туда-сюда без особой нужды: один вертался из кабака; другой, озираясь по сторонам, третий прятал за пазухой награбленное; кто-то все пытался отыскать потерянную скотину, – словом, город, выведенный стихией из привычного равновесия, и не собирался засыпать.
Яшка въехал в Кремль через северные ворота, которые никониане почитали святыми и только чрез них проносили абалакскую Богоматерь. Не сомкнувшие глаз уж которые сутки солдаты лишь недобро покосились на него.
–
Не спится, собакам, – услыхал Яшка злобный оклик, уже заворачивая на гостиный двор.
Здесь было оживленно: горели высокие костры; обескровленные тоболяки облепили торговые ряды, прижимаясь друг к другу, как воробьи; кто-то затянул вышибающую слезу песню, которую подхватили собаки, радуясь человеческому вниманию. Яшка пониже спустил на лоб шапку, наскоро перекрестился и двинулся к консистории.
Рядом с деревянным пристроем, ведущим в подвал консистории, в одиночестве развалился караульный. Сапоги его валялись в желтом снегу, а на ногах солдата болтались огромные валенки.
–
Подмерз, служивый? – с улыбкой прохрипел Яшка.
–
Проваливай, покуда цел, – караульный даже не взглянул на незнакомца. – Пойди в Иртыше обогрейся, тута мест нету.
–
Да мне и не надо, – засмеялся Яшка, – Я еще тебя самого обогрею.
–
Рыжий, ты что ли? – сморщенное, изрытое оспой лицо немолодого солдата вопросительно вытянулось. – Не уж то по цепи истосковался? Я тебе живо организую.
–
Я свое цепями отгремел, Харя – так солдата прозвали за уродливую физиономию, – За другим пришел. – С этими словами Яшка вытащил из-за пазухи увесистый мешок, набитый монетами, и бросил его караульному.
Харя вздрогнул от неожиданности, вцепился короткими пальцами в заветный мешок и позвенел им, словно на слух пересчитывая содержимое.
–
Вот уж не думал, что душегуб тебя пошлет, – расплылся в улыбке Харя, – Вот тебе и Яшка, собачий хвост!
–
Открывай калитку, принимай гостей.
–
Отчего ж не принять, коли гость дорог. Заходи!
Харя сунул деньги в валенок, скрипнул замком и нырнул в пристрой. Вскоре из темноты раздался лязг – отвалился замок двери, ведущей прямо в подвал.
–
Не тяни, Рыжий, посвети бородой!
Яшка глубоко вздохнул и суеверно осмотрелся: высокое небо, белокаменные стены Кремля, крепкий мороз – вот она воля. Страх перед сырым, заплесневелым подвалом вдруг пробудился в его душе и сковал по рукам и ногам. Нужно было идти, и Яшка спустился под землю по крутой лестнице. Харя громко чертыхался где-то в глубинах подземелья, не умея совладать с цепями в темноте.
–
Подсоби, Рыжий! – солдат что-то волочил по земле. – Тяжелый, собачий хвост, отъелся на казенных-то харчах.
С горем пополам Харя и Рыжий выволокли в пристрой обмякшее тело невольника, затерявшееся в окровавленных лохмотьях. Неловко снимая кандалы, солдат разбередил на ногах арестанта загнившие раны, которые теперь сочились бледно-алой жижицей.
–
Теперича сам с ним разбирайся, Рыжий. – проворчал Харя, обронивший в суматохе связку ключей и рыскающий по земляному полу. – Пора ноги уносить. Коли попадешься мне на глаза – убью!
Яшка и бровью не повел на угрозу солдата – так и было уговорено. Он присел рядом с арестантом, чтобы перевести дух и собраться с силами перед дальней дорогой. Кандальник невозмутимо поглядывал на него спокойным, смотрящим из глубин впалых глазниц взором. Лицо невольника было не знакомо Яшке – видать, его заковали в кандалы уже после того, как отпустили Яшку. В темноте пристроя он не мог разобрать стар ли, молод ли его спутник, но чувствовал, как от незнакомца исходит необъяснимое спокойствие, от которого и самому Яшке становилось легче.


