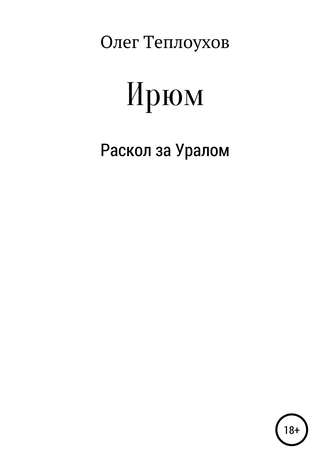
Олег Теплоухов
Ирюм
–
Оно мне надо? – удивилась Васёна, – Его и колоколом не проберешь.
–
Давай, родненькая, тут дело государево.
–
С этой-то пьянью? Что ж у нас за государь такой.
–
Ты за языком-то следи, – посуровел губернатор, – Не бабьего ума дело.
Васёна, опустив голову, пошла распинать своего мужика, но так и не добудилась.
–
Облей его водой, – подсказал губернатор, – Первый раз что ли.
Девка послушно набрала ушат студеной воды, только принесенной из колодца, и плеснула ею в красную физиономию капитана Уручева. Степан вскочил, как подстреленный, и ухватился за мокрую голову, словно опасаясь потерять ее. Завидев, наконец, Сухарева, он широко улыбнулся.
–
Здорово, Михалыч! – весело поприветствовал он губернатора.
–
Какой я тебе Михалыч, совсем уж упился, поганец?
–
Этот не упьется – вставила Васёна. – Коню меньше надо.
Капитан рассмеялся и попытался ухватить девку за ногу, но вместо этого рухнул на пол, оголив исписанное шрамами тело.
–
Свел же черт с такой срамотой, – скривился Сухарев, бросив капитану его сюртук, – Каков наш новый епископ – сразу солдат спаивать взялся.
–
Да я Сильвестру уже за брата, – хвалился капитан, безуспешно пытаясь натянуть платье.
–
Про твои подвиги наслышаны, – из дверей проворчал Сухарев. – Давай, выходи на двор – воздухом подышим.
–
Опять полицеймейстер шалит? – лукаво подмигнул капитан.
–
Про этого забудь, – сурово прошипел губернатор, – Есть дельце посерьезнее. Только оденься!
Глава 3
–
Кто будет худо робить, сачковать начнет иль винцо зашибать вздумает, я того живо на шишак намотаю! – ругался разгоряченный Демьян, оголивший на жаре могучую волосатую грудь.
Он задумал поставить для себя новую избу, ведь Малаша уже понесла. Всю неделю Демьян искал работников и беспашенных бобылей по окрестным мирским деревням. Нужно было завершить стройку быстро – до сенокоса. Демьян уже закупил осиновых бревен, доброго мха, каленых кирпичей для печи и теперь строго осматривал собранную им бригаду плотников. Мужички собрались худого хуже: один кривой, другой седой, третий вообще притащился пьяным. Демьян недовольно теребил бороду и плевал себе в ноги.
К счастью, ему вызвался помочь Миронушка Галанин, который в свои 24 года все еще не имел ни жены, ни детей. Одно досаждало: Демьян всегда недолюбливал Мирона. Он казался ему ненормальным: слишком умным, слишком богобоязненным и слишком непонятным, а Демьян не любил всего, чего не понимал. Однако работник из Мирона был хоть куда, и Демьян искренне обрадовался его помощи – будет кому уследить за наемными. Вот и сейчас Мирон переговаривался с самым ободранным и пьяным мужичишкой, словно он ему ровня. Демьян этого решительно не принимал.
Избы на Ирюме ставили крепко, по-сибирски. На ярмарке в Кирсаново Демьян подсмотрел купеческую хоромину, занозой засевшую в его голове. То была высокая изба с подклетью, о восьми окнах и двускатной крышей; коньки кровли гордо вздымались вверх конскими головами; кудрявые резные наличники обвивали толстопузые рамы окон. Демьян мечтал о такой избе, как ребенок, углядевший новую игрушку у соседа.
Двоеданские семьи спокон веку держались вместе, а потому новую избу решено было ставить рядом с родительским домом. Для этого часть забора разобрали и расчистили место под постройку. Место было хорошее, сухое и высокое – весной вода не застаивалась и уходила в Мостовку. Правда, с реки по осени поднимались густые туманы, а заморозки студили огород даже в начале июня. Зато рукой подать до паркой баньки, рубленной еще дедом Демьяна.
Избу порешили ставить крестовиком – разделенную на четыре части двумя стенами. Под полом соорудили подклеть в десять бревен – здесь уместятся подскобка, кладовка и летняя кухня. Углы избы вывели с большим остатком, чтоб не промерзали даже в хлящие морозы. Под нижний ряд бревен вкопали венцы из березовых комлей, на которые положили бересту для защиты от сырости. Снаружи стены тщательно проконопатили мхом и замазали швы жирной глиной, взятой из оврага у Лебяжьих ворот. В подклети вырыли глубокий погреб и обшили его доской.
Пол избы настелили из толстых плах, тесаных топором и отполированных до блеска. Потолок вывели тщательно подобранными тонкими бревнами и засыпали сверху толстым слоем земли. Потолочную матицу покрыли узорчатой резьбой – к ней подвесят люльку, когда Малаша родит первенца. Кровлю выстлали без единого гвоздя, положив ее на берестяные листы. Малашка любила солнце, поэтому мужики сробили восемь окон, освещавших всю избу; в подклети врезали волоковые окошки. На окна временно посадили самые простые наличники, разбогатеют – поставят новые, с резьбой и хитрым узором. Ставни Демьян отказался делать напрочь – он любил поступать наособицу, да и не боялся никого.
С внутренней стороны стены избы вытесали и выстрогали до ровной поверхности, чтобы дитё не посадило ни одной заносы. На кухне поставили русскую печь, испещренную углублениями для хранения бабской утвари. От печи до противоположной стены протянули полати – здесь будут спать народившиеся ребятишки. Возле печки в полу прорубили голбец, чтобы спускаться в подклеть. Вдоль стен вывели широкие лавки, для которых Малаша уже нашила половички. В красном углу сообразили божницу, куда встанут иконы, подаренные родителями. В горнице поставили печь-галанку – рядом появится кровать для молодых. Вдоль стен расставят лавки и сундуки, которые забьют малашиным добром, если старик Макар раздобреет на приданное. Пол по всей избе выскоблили, чтобы застелить его разноцветными половиками, оставив голые плахи возле печей. В будущем вокруг избы вырастут сенцы, амбары, конюшни, пригоны – но пока отделяться от родительского хозяйства было рано.
– Баня веничком метётся, дом хозяюшкой ведётся, – ехидно приговаривала бабка Енафья, осматривая результат стройки.
Мирон стоял в красном углу своей избы и внимательно рассматривал образа, прикидывая, какой из них правильнее отнести Демьяну и Малаше на новоселье. Избу справили на петровку-голодовку, а потому отмечали новоселье по-двоедански скромно. Мирон предпочел веселой компании уединение и рассчитывал забежать к молодым на следующий день уже с иконой в руках. Святый образ будет оберегать их от напастей и наставлять на путь истинный. Шутка ли, начинать новую жизнь разрывом со старой: ходили слухи, что старик Макар напрочь отрекся от дочери и думать про нее забыл. Без опоры на грешной земле остается уповать только на небесных защитников, рассуждал Мирон. Его семья не отличалась богатством, в доме было не больше десятка икон – самых необходимых. Что-то убавить из столь скромных сокровищ было мучительно больно, хоть Мирон и стыдился этого чувства. Сейчас он задумчиво рассматривал образа, но вместо святых ликов перед ним настойчиво вставало лицо Малаши.
После свадьбы Малаша вдруг сделалась кроткой и тихой, словно мышка. Девка увядала на глазах, как полевые цветы после первых сентябрьских заморозков. Все Дворцы дивились, как такая тихоня могла сбежать из родного дома – должно быть, Демьян увел невесту силой иль хитростью. Глаза бирюза, да в душе сажа, – злословили по деревне, не зная прежней Малаши: вечно веселой, смелой и бойкой девки, любимой отецкой дочери. Бегство от родителей легло на Малашу тяжелой печатью, глубоко запечатлевшей на ее лице печальный и задумчивый образ. Любая девка после свадьбы становилась только краше: румянела щеками, полнела боками да крепла грудью. Малаша же, напротив, с зимы только подурнела: блеск ее золотых волос истощился, лоб рассекла вертикальная морщинка, а синие глаза стали столь бездонными, что даже смельчак Демьян боялся в них заглянуть. Да уж, не такая Малашка полюбилась ему на ярмарке и не за нее он брал грех на душу темной январской ночью. Однако былого не воротишь: Демьяну оставалось только кусать кулаки с досады, да ждать, что рождение первенца вернет к жизни его жену.
Взор Мирона упал на образ Богоматери Казанской медного литья. Этот образок он купил в прошлом году в Рафайлово, когда ездил по делам в Тюмень. Православный Рафайловский монастырь на Исети славился своей иконописной мастерской. Тамошние изографы, хоть и ушли в ересь, да древних иконописных заветов держались крепко. Рафайловские мастера быстро изловчились писать для малоросских архиереев Тобольска образа на новый лад: масляными красками, с раздутыми, как павлиний хвост виршами и лоснящимися от сытости ликами. Однако для зауральских двоедан в Рафайлово писали по-старому: на липовой доске темперой трепетно выводили знакомые с младых ногтей каждому христианину сюжеты. После золочения такая икона горела в вечном полумраке раскольничьей моленной, словно неопалимая купина на горе Синай. Мирон перекрестился, аккуратно взял образ в руки и поднес к окну. Младенец Христос смотрел на него с иконы так ясно и уверенно, словно видел всю его жизнь наперед. Богородица склонила голову к Сыну, задумчиво отведя глаза в сторону. Поля иконы были искусно покрылись виноградной лозой. Хитрые узоры утопали в синей и белой эмали, игравшей на солнце. Мирон тяжело вздохнул, положил икону за пазуху и вышел на улицу.
Жаркое июньское солнце обрушилось на деревню и придавило ее к высушенной многодневным зноем земле. Пыль от проскакавшей лошади повисла в воздухе, раскачиваемая легким ветерком; крапива вдоль крестьянских заборов приуныла от невиданного зноя; собаки, коровы да поросята спрятались в тени заборов, наплевав на голод; густые заросли вечнозеленой конотопки съежились и пожелтели, как осенний лес. Мирон обмотал голову белой косынкой и вышел на улицу.
Новая изба Демьяна гордо возвышалась над соседними домами, словно отражение своего хозяина. Избу отгрохали ровно такую, как и хотел Демьян: с подклетью, высокой крышей и множеством окон. Стоявший рядом родительский дом, казалось, был пристыжен таким соседством. Мирон издали любовался новой избой – он бы и сам не отказался в такой пожить. Теперь он уже сомневался, не станет ли его подарок слишком скромным для таких-то хоромин?
Мирон подошел к избе Демьяна, приподнялся и постучал по наличнику открытого настежь окна. Вскоре из него выглянула покрытая белым платком Малаша. Увидев гостя, девка слегка смутилась – за время стройки она так и не сошлась с Мироном, чувствуя неприязнь к нему со стороны мужа. Через мгновение она взяла себя в руки и приветливо улыбнулась:
–
Мир дому сему, – не слишком уверенно проговорил Мирон.
–
С миром принимаем, – поприветствовала его Малаша. – С чем пожаловал, Мирон Иванович? – чуть погодя спросила она, заметив, как неуверенно перетаптывается на месте гость.
–
Да вот, – замешкался Мирон, – Пришел с новосельем поздравить. Подарок принес.
Мирон запустил руку за пазуху и вытащил оттуда икону. Зеркальная латунь блеснула на солнце, чуть ослепив Малашу. Закрыв глаза от яркого света, она вдруг увидела нечеткий блик Богородицы, печально склонившей голову над Христом. Видение на миг оттолкнуло Малашу от окна. Затем она суетливо перекрестилась и вновь вынырнула к Мирону, удивленно стоявшему с иконой в руках.
–
Что я, дуреха, стою! – опомнилась Малаша, – Подожди, гостенёк, сейчас выбегу.
Вскоре белая косынка Малаши показалась за оградой. Внезапно перед Мироном предстала жгучая девичья красота, спрятанная под тенью тяжелого горя. Мирон изумился потаенной красоте Малаши, которую раньше никогда не замечал. На мгновение в молодой девушке промелькнула ее была подвижность и озорство. Мирон смутился своим открытием и потупил голову. Малаша приблизилась к нему и аккуратно приняла из его рук иконку.
–
Господь да благословит тебя за такой подарок, – промолвила она.
–
Куда уж мне, – залился краской Мирон, – Подарки дарить дело не хитрое, так и никониане поступают. К тому ж я с грехом пришел. Не могу таиться: жалко мне икону отдавать было.
–
Когда ж это правда грехом стала зваться? – удивилась Малаша. – Правда это свет Божий, который и в зимнюю стужу согреет.
Малаша улыбнулась кончиками губ и пронзительно посмотрела на Мирона. Возникло недолгое замешательство, которое прервала сама хозяйка, вернув Мирону его икону.
–
Зачем от сердца отрывать? – весело объяснила она – Сама знаю, как с такими думами живется. Благодарю тебя покорно, что пришел. Да иконы у нас в избе уж имеются. Не дело оплакиваемой святыне в моей горнице стоять.
Растерянный Мирон молча принял икону, но не двинулся с места.
–
Экой ты смешной, – весело протянула Малаша, – Долго ль подле замужней девки ошиваться собрался, когда мужа дома нет? Что люди-то про меня скажут?
Мирон спохватился и засунул икону обратно под рубаху, проклиная тот час, когда решился сюда прийти. Тут Малаша легонько тронула его за плечо, сняла с головы платок и вывалила на лоб свои золотые волосы.
–
На вот, заверни икону в платок – от меня подарок будет, – промолвила она и убежала в избу.
Обескураженный Мирон остался стоять один, прижимая к груди икону и пахнущий Малашей платок. На душе его было тепло, словно там разгоралось собственное солнышко.
За Дворцами, на берегу речки Северняшки, подкрадывающейся к деревне с севера, возвышался старый тополь: его мощный ствол испещрили старческие морщины; извилистые ветви раскинули в стороны свои корявые руки; на высоте человеческой головы в стволе зияло дупло, почерневшее от удара молнии. Крутой берег мелкой, но быстрой реки стал излюбленным местом для всей деревни. Здесь водили хороводы, играли в лапту, высматривали невест и пасли скот. Тополь вырос тут задолго до того, как на Ирюм пришли русские. Он чувствовал себя хозяином здешней земли и снисходительно мирился с извечным копошением дворецких двоедан. Последние тонко чувствовали тополь и относились к нему с почтением, а молодые девки тайком друг от друга вязали на раскидистые ветви заговоренные платочки в надежде приворожить жениха.
После воскресной службы вся деревня традиционно вывалила на полянку возле тополя. Кто-то залез в реку, чтобы успеть накупаться до Ильина дня; ребятня осадила ветви тополя; мужики расселись на высоком берегу, степенно обсуждая насущные дела; бабы красовались друг перед другом нарядами да обсуждали мужиков. Мирон смиренно сидел в тени тополя на влажной после дождя траве, опираясь на по-старчески грубую кору. Он лениво поглядывал, как резвится деревенская молодежь, стараясь не думать о Малаше, поглаживавшей свой живот с другой стороны тополя.
Речка, извиваясь, уходила на север и скрывалась в лесу, где превращалась в ручей с кристально чистой водой. Березовый лес вобрал в себя два месяца летнего тепла и величаво возвышался вдали могучей бело-зеленой стеной. Кудрявые бурые тучи неспешно выползали из-за макушек берез, словно поджидая подкрепления для атаки деревни. Дворцы жили своей обычной воскресной жизнью, смиренно отдаваясь во власть непродолжительного безделья.
Белобрысый мальчуган забрался выше всех по веткам тополя и теперь сидел там, боясь показать другим свой испуг. Чтобы не глядеть вниз на далекую землю, он сосредоточенно всматривался в горизонт, где предгрозовое небо сливалось с лесом. Тут он заметил, как вдалеке показалось несколько неразборчивых точек. Силуэты постепенно множились и обрастали деталями, превращаясь в группу всадников. Паренёк ахнул и от испуга чуть не свалился с ветки.
–
Солдаты! Солдаты идут! – истово прокричал он.
Вся разношерстная толпа дворецких двоедан, беззаботно проводящих воскресный день, тут же пришла в движение, образовав сплоченную стаю. Детей затолкали в центр круга, опоясаного кольцом из девок и баб, внешней границей стаи были мужики – так звери защищают своих чад от голодных волков. Пока народ занимался оборонительными построениями, незваные гости успели приблизиться на расстояние дюжины сажень.
Возглавлял процессию нелепо наряженный мужик: его плечистое тело покрывал зеленый татарский халат с витиеватой золотой вышивкой; лохматая голова спряталась под багровой тюбетейкой; за кушак был заведен короткоствольный пистолет, блестевший сталью. За спиной мужика на связке пушнины восседала смуглая татарка с растрепанными угольными волосами и бессмысленной улыбкой. Только уверенная посадка в седле и наглое лицо, испещренное сетью мелких красноватых жил, выдавали в нем русского офицера. Далее следовал десяток солдат, одетых строго по форме. Замыкал отряд молодой монах с угрюмым лицом, аккуратно державший в руках серебряный потир.
Офицер неспешно задрал правую руку, призывая процессию остановиться. Затем спрыгнул с коня, пощекотал татарку под боком, поправил тюбетейку и лениво поковылял к раскольникам.
–
Эко выстроились! Точно римская фаланга, – усмехнулся он. – Ну что, народец, как жизнь в расколе?
–
Со Христом завсегда легко, – заявил кто-то из толпы.
–
Давай, христовый, покажись, – весело приказал офицер, – чего таиться?
–
Проваливай, скобленое рыло! – толпа загудела, переговариваясь, но никого из себя не выпустила.
–
Так значит, – протянул офицер и обернулся к солдатам – Еще говорят, что раскольщики народ смелый. Да я тут одних баб вижу, а не мужиков!
Солдаты как по команде рассмеялись, обнажив желтые зубы. Офицер вернулся к своему коню и порылся в связке пушнины, вытащив оттуда медную флягу. Как следует пригубив ее содержимое, он сморщился и смачно плюнул под копыта коню.
–
Что за дрянное пойло! – обратился он к заскучавашей было татарке, – Как вы этот кумыс хлебаете, ну?
Вместо ответа девка спряталась под сенью черных волос. Офицер игриво подмигнул ей, затем, обогнув солдат, подошел к молодому монаху.
–
Давай Федька, начинай свое дело. Попои этих винцом своим да накорми сухарями.
–
Это тело и кровь Христова, пьянь ты бестыжая – заметил Федор и аккуратно спешился, стараясь не расплескать содержимое чаши.
–
За языком-то следи, чернец! – сурово одернул его Степан. – Коли пред солдатами меня позорить возьмешься, я тебя в лесу оставлю – волков причащать станешь. Понял?
Федор поглядел на хмельного Степана, который был выше его в две головы, и устало отвел глаза, словно давно решив для себя все про этого офицера. Отвернувшись от капитана, монах перекрестился, прочитал молитву и уверенно пошагал к раскольникам.
За те недели, что Федор провел вместе с отрядом Уручева, объезжая сибирские деревни, он все меньше воспринимал раскольщиков как православных христиан. Они казались ему не людьми, а неотъемлемой частью суровой и дикой сибирской природы. Федор не мог поверить, что это всё русские крестьяне, которые лишь несколько поколений назад пришли на эту землю. Нет, убеждался молодой инок, раскольники жили здесь всегда и выросли прямо из местных непроходимых болот и лесов. Они вовсе не христиане, а, может, даже и не люди: их прямоту, упрямство и глупость нельзя объяснить с точки зрения здравомыслящего человека. Раскольники не вмещались в картину мира Федора и день ото дня мрачнили его душу.


