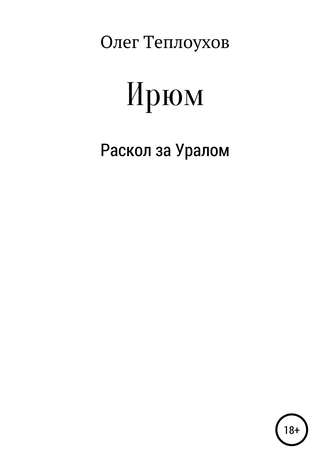
Олег Теплоухов
Ирюм
Капитан в кровь расцарапал заросшее недельной щетиной лицо. Уже который день они с отрядом пробирались через буреломы Бахметских болот: Уручев уже забыл, что ноги его когда-то были сухими; земля под ногами превратилась в жидкий кисель; солдаты его уже смело роптали – а Авраамиев остров все не показывался.
– Стой, ведьма! – выкрикнул Степан, смахивая со лба пропитавшиеся потом волосы.
Анька послушно остановилась, с опаской поглядывая на рассвирепевшего капитана.
– Когда дойдем-то? – Уручев схватил вдовицу за грудки и прислонил к щуплой березе.
– Скоро уж, – проворковала Анька, – Недалече осталось.
– Скоро?! – рявкнул капитан, вцепившись красной от холода рукой в шею проводницы, – Ах ты стерва! Задумала на болотах меня сгноить? Да я тебя живьем закопаю, а сам назад поверну. Сдался мне твой скит! Только и тебе его – не видать боле!
Анька закрыла лицо ладонями и тихонько зарыдала. Руки ее дрожали, платок сполз на затылок, обнажив пепельные от ранней седины волосы.
– Не губи, служивый, – взмолилась вдовица, – Я только зимой в скит хаживала, на лыжах! Без снегу не признаю дороги.
– На кой черт ты мне тогда сдалась? – не успокаивался Степан, – Мужа схоронила – нашто сама землю топчешь? Тут и схороню тебя, ежели завтра на место не придем.
Капитан отпустил Аньку и устало рухнул под корни березы.
– Все, привал! – обратился он к солдатам. – Хорош болото месить. Завтра или скит найдем, или домой отчалим. Эту раскольничью подстилку в Тобольск заберем. До зимы в кандалах просидит, а там и скит отыщем.
Собранный из худого, сырого хвороста костер уже давно прогорел. Солдаты спали вперемешку, в поисках тепла беззастенчиво прижимаясь друг к другу, словно щенячий выводок. Анька, туго привязанная к дереву, промерзла до самых костей. Убедившись, что солдаты, подкрепленный водкой, уснули, вдовица принялась перебирать ногами в поисках палки. Подцепив гнилую корягу, она попыталась вытянуть из костра непрогоревшую ветку. Анька до крови искусала губы, но так и не добралась до костра. Тут один из солдат зашевелился и выполз из-под овечьих шкур, под которыми дружно ютилась вся компания. Мужик оказался грузным и косолапым. Покрякивая, он обошел Аньку и справил нужду прямо за деревом, к которому была привязана вдовица.
– Не спится, красавица? – подмигнул Аньке солдат. Глаза его горели хмелем, а толстые, лоснящиеся жиром губы сверкали отблесками Луны.
– Скажу по совести, – продолжил солдат, – Приглянулась ты мне. Не пойму, нашто такую красоту губить? Наш капитан крут, да я ласков. – Мужик вплотную приблизился к пленнице и ущипнул ее за щеку. Анька отвернулась, зажмурив глаза.
– Что – не люб? Так я тебя и не под венец зову. Сделай дело, а я тебя сразу и отпущу. Скажу, что сбегла. На этих болотах мы тебя никогда не отыщем.
Толстяк одной рукой зажал вдовице рот, а другую запустил под подол ее юбки. Через мгновение от вскрикнул, отпрянув от девки – Анька прокусила ему палец, с которого теперь капала густая, алая кровь.
– И правда – ведьма! – оскорбился мужик. Ну и подыхай, как собака, коли помощи не ждешь!
– Стой, – обернула Анька отошедшего солдата. – Я согласна. Только отвяжи меня – так-то оно сподручнее будет.
– Вот и умница, – расплылся в улыбке толстяк, потирая укушенный палец, – Баба ты с огоньком – как раз по мне.
Он суетливо подбежал к дереву и принялся возиться с веревкой, крепко связанной по военной науке самим капитаном. Разобравшись, наконец, с узлом, солдат отбросил веревку в сторону и впился в шею Аньки, одновременно пытаясь стянуть с нее юбку. Возбужденный солдат пыхтел и трясся, как разогретый самовар. Вдруг он громко охнул и всей тяжестью жирного тела повис на вдовице, судорожно хватаясь за нее руками. Анька напрягла оставшиеся силы и с трудом завалила на бок тяжелую тушу солдата, из обнаженной груди которого свисал изогнутый клинок шпаги. Увидев так близко мертвое тело, пульсирующее свежей кровью, вдовица вскрикнула и бросилась в темноту. Анька бежала не оглядываясь, пока совсем не выбилась из сил. У нее уже не осталось слез, чтобы оплакивать свою первую жертву. Об этом она подумает потом, когда отец Ермил найдет для нее правильные слова. Теперь же надо спешить, чтобы к утру оказаться в скиту.
Солнце уже поднималось над Авраамиевым островом, когда монах завидел приближающуюся гостью. Старик сразу смекнул, что дело худо – раньше Анька не приходила осенью и без припасов. Больнее всего Ермилу было видеть кровь на руках вдовицы, которые она безуспешно пыталась спрятать под передником. Анька никак не могла успокоиться и лишь тянула старика за рясу, призывая поскорее оставить скит. Мирон молча наблюдал за вдовицей и Ермилом, усадив Аську себе за спину. Сиротка, казалось, беспокоилась меньше других: то ли ничего не понимала, то ли видала и хуже.
Ермил твердо отказывался уходить. Оставить могилу старца Авраамия он никак не мог. Уйти означало для него поддаться Антихристу и обречь святое место на поругание.
– Всю жизнь бегал, – объяснил монах, – Теперь уж мне не по годам. Знавал я разных солдат – тоже люди. Помолимся Господу – авось, отведет угрозу.
После долгих уговоров порешили так: Ермил остается в скиту, а Анька и маленькая Анисья под защитой Мирона выбираются с болот. Пока сиротка прощалась со стариком, а вдовица собирала еду в дорогу, Мирон отправился на остров, чтобы в последний раз помолиться на святой земле.
С утра зачиналась оттепель, и снег, наваливший ночью, превратился в вязкий ковер. Мирон прошлепал по камням до сосны, из которой на него выглядывали иконы. Сегодня лик Богородицы показался Мирону особенно печальным. Богоматерь отводила от него глаза, словно стыдясь чего-то. В округе развернулась давящая на уши тишина: птицы умолкли, ветер стих, успокоились остатки неопавшей листвы. Вдруг Мирона оглушил грохот. Богородичный лик вздулся и разлетелся в щепки. Следом выстрелы рассекли другие иконы. Мирон непонимающе хлопал глазами, с ног до головы покрытый щепой и сосновой корой. Дыхание его сбилось, а голова отказывалась соображать. Он, как слепец, выбрасывал руки в стороны, пытаясь ухватить невидимого врага. Вскоре враг предстал перед ним во плоти.
Капитан Уручев крутым шагом подскочил к Мирону, вскинув ружье на плечо. Мирон смотрел на Степана в упор и не признавал его. Для него убийство Демьяна осталось в другой жизни, которую он оставил на Ирюме.
– Ну что, голубчик, добегался! – усмехнулся Степан, – Забрался же ты в дыру. Живете по своим лесам да болотам – истинно звери. Ей-богу, не пойму, – искренне признался капитан.
Над лесом прокатился визг – один из солдат тащил на себе Аську, змеей извивающуюся у него на плече. Следом понуро брел Ермил, постаревший разом на десяток лет. Двое других солдат волочили на связанных из березняка носилках мертвое тело, некогда принадлежавшее толстяку. Довольный Степан внимательно следил за происходящим, разминая конечности, застуженные ночью.
–
Чего с ведьмой-то делать? – обратился к капитану пожилой солдат, волочивший Аньку за спутанные волосы.
– А то ты не знаешь? – Степан удивленно посмотрел на солдата, – Кончай ее да в болото. Другим наука будет.
Глава 6
В отсутствии Сильвестра Федор брал на себя почти всю полноту власти митрополита, с чем безропотно мирились тобольские церковные иерархи. Обязанности не тяготили его, а статус не кружил голову: суета повседневных забот помогала молодому иноку заглушить боль от поднимающейся пустоты в душе. Переезд из Казани в Тобольск на короткое время помог Федору забыться, но то было лишь временное затишье беспокойного духа, мечущегося в вечном поиске. Федор сидел словно на пороховой бочке.
Сегодня Федору предстояло вести допрос юной раскольницы. Он сидел в тесной и душной келье консистории, выписывая сухим пером невидимые знаки на столе. Вскоре послышались тяжелые шаги стоптанных солдатских сапог. Дверь в келью распахнулась, и двое краснолицых мужиков ввели арестантку. Раскольницу, закованную в ржавые лисички, усадили на табурет напротив Федора. Железо звякнуло, девка тяжело вздохнула, солдаты переглянулись с монахом, сунули ему в руки бумагу и вышли. Соломенно-желтые волосы арестантки обрезала чья-то неловкая рука: грязные пряди комьями висели на лбу, за ушами и на затылке. Губы арестантки высохли и полопались. Синие, блестящие глаза глубоко провалились под пепельные брови, словно прячась от мира. Малашу было не узнать.
Дворецкие мужики нашли ее на утро после гари. Девка, перемазавшись в саже, бродила на пепелище, как полуночница. Мужики перекрестились, сгребли Малашу под руки и отвезли к свёкру. Старики, еще не выплакавшие всех слез после гибели Демьяна, обезумели от злобы на сноху. Она принесла в их дом одно горе: отняла любимого сына, а теперь чуть не забрала внука. Через месяц Малаша разродилась. Недоношенный ребенок оказался слабым и невзрачным, словно вовсе не желал появляться на свет. Старики назвали его в честь отца, а Малашу сразу после родов свезли в Ильино, молча передав деду Макару.
Нет мучительней хруста, чем тот, с которым рушится крепкая двоеданская семья. Макар принял дочь безмолвно, будто ему вернули заплутавшую ночью овцу, а не родную кровь. Малаша бледной тенью самой себя бродила по отчему дому. Она давно поняла, что её крест – не иметь ничего и не любить никого. Господь отнял у нее семью, мужа, а теперь и сына. Когда пришли солдаты, Малаша сидела у окна, словно давно их поджидая. Только она выжила в гари, а, значит, могла поведать о её организаторах – так рассудили в Тобольске. Макар отпустил дочь легко – она покинула его еще тогда, студеной январской ночью. Малашу месяц томили в подвале тобольской консистории, пока Сильвестр объезжал свои бескрайние сибирские владения. Епископ все не возвращался, а следствие надо было вести. Тогда Федор решил самостоятельно допросить раскольницу.
Когда солдаты ушли, Федор обернулся к образам и кратко помолился. Малаша не поднимала глаз, её потерявшаяся в мешковатой одежде грудь почти не вздымалась от вздохов. Федор вернулся к столу и развернул принесенный солдатами лист бумаги, испещренный сбивчивым почерком. Малашу узнать он не мог. После рокового выстрела её бледное лицо лишь на миг сверкнуло в разномастной толпе раскольников и скрылось за плечами Мирона.
– Как зовут? – официальным тоном спросил Федор.
– В бумаге написано, – после недолгой паузы безразлично ответила Малаша.
Федор повертел в руках офицерскую записку, пытаясь разобрать мелкий почерк.
– Значит, Маланья, – вслух отметил Федор. – Ну так скажи мне, Маланья, зачем ты в огонь пошла?
Малаша звякнула цепями и опустила голову, всем своим видом показывая, что отвечать не собирается. Федор, не ожидая другого начала разговора, продолжил излагать то немногое, что знал о бунташнице.
– Видать, душу свою спасти хотела – огненное крещение принять. Что ж, воля твоя. Только дитё-то чем провинилось? Сама нагрешила – сама отвечай, но плод чрева твоего – это награда Божия. А ты как им распорядилась? Молчишь? Небось, грех сознаешь, да признать не хочешь. – Федор помолчал недолго, всматриваясь в лицо арестантки, и продолжил. – Слушай, что думаю я. В огонь пойти сманили тебя ирюмские расколоучители. Отец Симеон, если не ошибаюсь? Знаем мы такого. Бегает от нас по лесам уж не первый месяц. Вот скажи мне, Маланья, разве праведный человек будет прятаться от власти, волей Господа установленной? Вот и я думаю, что не будет. Я всегда за разговор стою. Два христианина, два разумных человека всегда друг друга поймут. А он от нас по лесам бегает, не хочет разговаривать. Три невинных души в гари загубил, а от наказания прячется. Разве это по-христиански?
Монах увлекся своим рассуждением и немного повеселел. Достав из-под стола бутылку вина, он плеснул себе в кружку, добавил теплой воды и с удовольствием отхлебнул. Терпкий привкус вина приятно согревал горло. Федор протянул кружку Малаше, но та шарахнулась от нее, как от черта.
– Нам это неможно, – выпалила она.
– Дело твое, – пожал плечам Федор, – Неделя же скоромная.
– Двоедане всегда в посту. Это ваши попы перегаром да табачиной пропахли – сами себя сжигают, ада не дожидаясь, – взволнованная Малаша встряхнула остриженной головой.
– Быстро ты меня в ад определила, – улыбнулся Федор. – Впрочем, наперед никто не знает. На все воля Божия… Вот скажи мне, Маланья, куда мужа своего дела? – решил переменить тему Федор.
– Господь прибрал.
– К нему, значит, и собралась? Не боязно, в огонь-то?
– А что огонь? Не страшней вашего брата.
– Если кто обидел тебя, расскажи, – посерьезнел Федор, – Я в Тобольске не последний человек – помогу.
– Хлеб-воду дают и на том спасибо. Чай не из бояр.
– Ну, смотри. Слово мое крепко, в обиду тебя не дам. – Федор отпил вина и продолжил. – Вижу, девка ты разумная. Значит, силен этот ваш Симеон в словесах, раз такую голову одурачил.
– Не девка я, а отецкая дочь, – встрепенулась Малаша, – Отца Симеона вы оставьте. За гарь он не стоял.
– А кто ж тогда стоял?
– Миронушка придумал.
– Какой еще Миронушка?
– Миронушка Галанин. Наш, ирюмский, – глаза Малаши заблестели. – Только вам его не сыскать, загиб уж.
– Ты как знаешь, что загиб?
– Сама видала, – Малаша поднялась, в упор разглядывая Федора. – Веди меня, монах. Большего я не скажу.
Федор вывел Малашу на двор и передал на руки солдатам, живо переговаривающимся с капитаном Уручевым. Степан, как будто давно поджидая Федора, лукаво подмигнул ему. Затем он картинно раскланялся перед Малашей, словно царицей. Арестантка даже не взглянула на капитана, твердой поступью направившись в свой подвал.
– Хороша, девка! – присвистнул Степан, обращаясь к Федору.
Тот ничего не ответил, внимательно следя, как солдаты уводят раскольницу.
– Эх, хороша, – повторил капитан, потрепав монаха по плечу, – Да востра больно.
– Тебе чего? – устало спросил Федор.
– На раскольницу твою пришел поглядеть да полюбоваться.
– Когда это она моей стала? – не понял инок.
– Тогда, когда ты её вдовицей сделал, Федька, – Степан обнажил частокол желтоватых зубов и плюнул под ноги монаху.
Федор лежал на постели и смотрел в потолок. Свеча только что догорела, и келья разом наполнилась темнотой. На стене одиноко белело пятно скупого лунного света. Молодой монах ни на миг не сомневался, что поступил правильно, выстрелив в раскольника. Если бы он тогда не вмешался, то Степана бы зашибли. Тогда на мирную ирюмскую деревушку обрушилась бы вся мощь государева гнева. Убить капитана императорского полка – тяжкое преступление. Наказанием одного раскольника дело бы не обошлось. Вся деревня подверглась бы разорению: убийцу бы вздернули на дыбе; деревенских мужиков, как соучастников бунта, заковали бы в железо; осиротевших баб вместе с ребятней отправили бы в Тобольск – кормить и обстирывать солдат. В деревне остались б только старики да старухи, в одиночестве доживающие свой век. Через пару десятков лет никто бы и не вспомнил, что такая деревня когда-то стояла на Ирюме. Федор спас их всех, но никто не скажет ему спасибо. Теперь он монах-душегуб. Конечно, Сильвестр своей властью поскорее замял дело, но по Тобольску шла упрямая молва о злодеяниях Федора.
Как только Уручев с отрядом вернулся в Тобольск, то сразу же отправился на поклон к губернатору. Сухарев без интереса слушал доклад капитана до тех пор, пока не зашла речь об убийстве раскольника. Он во всех подробностях расспросил Степана об обстоятельствах события, приказав тому держать язык за зубами и то же велеть солдатам. Капитану не было дела до интриг губернатора, с него хватило, что тот, кажется, был им доволен. Сухарев не реквизировал ничего из награбленного и, выпроваживая Уручева, похвалил его за добрую службу.
Сам Федор был безразличен к пересудам тобольского люда. В слухах о его душегубстве даже можно было усмотреть пользу: теперь его распоряжения выслушивались внимательно и беспрекословно выполнялись. Сам он уже давно забыл эпизод с убийством, как умел отбрасывать все, что могло потревожить его сердце. Да, он убил раскольника, но спас целую деревню. Один против многих – разве это не простая арифметика? Холодный разум заглушал всякие порывы совести. Теперь, забытая, казалось, навсегда проблема вернулась к нему усилиями капитана Уручева, который не поленился вернуться на Ирюм, как только поползли слухи о гари. Очевидно, этот пьяница не так прост, как хочет казаться и, верно, не спускает обид. Что ж, отныне у Федора одной головной болью больше. Со Степаном он обязательно разберется, пусть пока и не знает как.
Вместо раздумий об отмщении в голове Федора крутились синие глаза, смотрящие словно из самых глубин души. Что же делать с раскольницей? Отпустить? Это было бы самым простым решением, но что-то подсказывало монаху, что этому не бывать.
Федор сполз с постели, облачился в рясу и вышел на улицу. Луна залила светом все митрополичье подворье. Осенние холода с каждой ночью набирали силу. Федор осмотрелся и поспешно направился к консистории. Сунув караульным по гривеннику, монах спустился в подвал.
Малаша лежала на каком-то сундуке, свернувшись калачиком под мешковиной. Федор осторожно прошел по холодному земляному полу и присел в ноги к арестантке.
– Говори, чего пришел, – Малаша закрыла непокрытую голову мешком.
– Сон ко мне не пристает. Больно уж ночь неспокойная… Сама поди тоскуешь по Ирюму? Хорошо, когда дома нет – тогда не тоскуешь, – монах помолчал немного и сбивчиво продолжил. – Хочу помочь тебе. Сына, конечно, не верну, да и в отчий дом не пристрою. Но Галанина найти, коли жив еще, мне по силам. Будет тебе собеседник в подвале.
– Мы уж обо всем с ним сговорились.
– Так то до гари было. Огонь круто людей меняет – все ж второе крещение. Миронушка твой теперь уж другой человек.
– Ирюмские двоедане прямо из огня рождаются, – выпалила Малаша, – Люди твердые, на своем стоят – не меняются.
– Может оно и так, – согласился Федор, – Вы раскольники живете наособицу: иначе молитесь, свой капитал имеете, государей не чтите. Только есть ли у вас будущее? Разбежались по окраинам Руси-матушки, попрятались, как тараканы.
– Наши онучи ваших не вонюче, – Малаша отбросила мешковину, обнажив белоснежные плечи, – Только и Господь свое мнение имеет.


