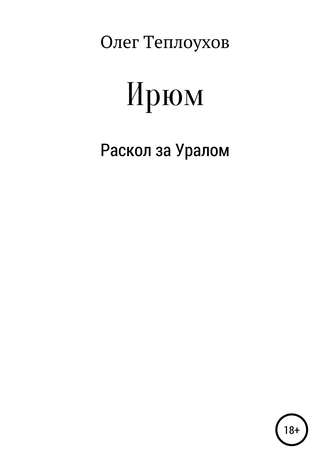
Олег Теплоухов
Ирюм
– Имеет. Но мы Божьей воли не знаем, хоть ваши велеречивые уставщики и привыкли говорить от Его имени. Я так разумею: на чьей стороне сила, тот и прав. Раз наша церковь победила, значит, у нас и истина.
– Вроде человек ты не маленький среди своих, да судишь, как дурак. Истина – она только у Господа. Кто ему служит, тот и истину имеет. У тебя есть сила – это верно – только ее с собой в могилу не заберешь.
– Складно говоришь – любо слушать. – Федор задумчиво посмотрел на Малашу, – Видать, потому речи твои свободны, что ты дом свой оставила и прошлое отпустила. А другие раскольники все за старину держатся и на ней лишь стоят. Где тут вера и где тут Бог? Я вижу только бороды да упрямство.
– Мы упрямы, – согласилась Малаша, – Да вы шибко податливы. Гнетесь, как камыш на ветру. Ваше племя Антихрист гнет и на изнанку выворачивает. А нашего брата не погнешь – его только сломать можно.
– Лучше уж маленько прогнуться, чем сломаться или живьем сгореть. Что толку от смерти? Вы только и чаете, как бы за Господа загибнуть. Нашто Ему ваши смерти? От костей толку чуть. Надо жить, невзирая на свои и чужие грехи – вот в чем сила!
– Не вижу за тобой силы, монах. Вижу только кандалы да солдатские ружья.
– Не только ружья! – Федор все больше распалялся. – Мы в Тобольске семинарию ставим. Будем детей грамоте да слову Божьему учить – разве то плохо?
– Нашел, чем хвалиться, – удивилась арестантка, – Я сама сызмальства Писание знаю и в хоре пою. А по вашим книгам учить – только беса тешить.
– Ну, припечатала! На лопатки положила, – Федор вскочил и затопал по подвалу. – А видала ли ты библиотеку у нашего митрополита Сильвестра? Да хоть мою посмотри! Я в свои годы столько книг прочитал, сколько ты и в глаза не видывала. Темнота деревенская!
– С меня и Писания довольно, – пожала плечами Малаша, – Господь уж все в нем сказал. Нам только исполнять должно.
– Так это Господь вам гари зажигать велит? – не унимался Федор. – Вот скажи мне, Маланья, на такой философии далеко ли уедешь? Ежели только старое исполнять, кто ж тогда новое откроет?
– Антихрист тебе и откроет новое, коли тебе Божий закон не по нраву.
– Ну и каменная ты девка. Об тебя только ноги ломать.
– А ты к каким привык, монах? Одел рясу смолоду – вот и не видывал добрых девок.
– Таких как ты не видал, – честно признался Федор. – Завтра еще приду поглядеть, коли пустишь.
– Позабавиться хочешь? – отстраненно бросила Малаша, – Воля твоя. У тебя ж сила.
Как только Сильвестр вернулся в Тобольск, губернатор сразу же затребовал его к себе. Епископ, разбитый непроходимыми сибирскими дорогами, раздраженно ввалился в кабинет Сухарева, когда тот по своему обыкновению нюхал табак.
– Милости прошу, владыка, – Сухарев указал митрополиту на кресло, в которое тот с готовностью грохнулся.
С минуту два сановника молча разглядывали друг друга, словно изучая, что изменилось в оппоненте со времени последней встречи. С момента своего знакомства Сухарев и Сильвестр старались избегать друг друга настолько, насколько это было возможно для людей, наделенных столь необъятной властью. Канцелярии епископа и губернатора регулярно обменивались записками и докладами, за сухим языком которых опытный глаз непременно заметил бы тихо тлеющие угольки вражды, готовые превратиться в пламя от легкого дуновения ветра.
– Чего стряслось, Алексей Михайлович? – сухо спросил Сильвестр, – раз уж ты меня прямо с дороги снял.
– Прошу простить, владыка. Только я сам завтра в дорогу – в Далматов монастырь еду. Расшалились башкирцы, пока тебя не было. Надо укреплять обитель.
– Дело доброе, – согласился епископ, – Только я и сам могу съездить. Монастыри – моя вотчина.
– А оборона рубежей государства от башкирской шалости – моя, – твердо вставил губернатор, потирая раскрасневшийся нос. – Я на тебя Тобольск оставляю – для того и позвал. Сбереги столицу сибирскую.
– Благодарю покорно за оказанную милость. Только мое дело маленькое – за церквами следить да семинарию достраивать. Я в чужие дела не лезу.
– Похвально-похвально, – согласился Сухарев, ерзая в кресле. – У меня, Сильвестр, тоже нет большой охоты твою вотчину тревожить, да служба государева обязывает, – губернатор хрустнул замком ящика и выволок на стол стопку бумаг. – Вот, владыка, давай поглядим на твои деяния, – Сухарев выдернул желтый лист и взялся близоруко изучать его содержимое. – Пишут давеча мне инородцы югорские, дескать, спаси, милостивый государь, наши животы от суровой руки нового шамана тобольского, ибо он поганцами нас обзывает и муками вечными грозит, – губернатор отложил бумагу и вопросительно посмотрел на Сильвестра.
– Язычники они поганцы и есть, – пожал плечами митрополит. – Идолам своим поклоняются и кумирни заводят, а Христа, к которому их еще владыка Филофей привел, уж давно позабыли.
– Язычники, говоришь? А я разумею, что это наперво ясачные люди, государеву казну пополняющие. А ты, что им пообещал, Сильвестр? – Сухарев продолжал буровить епископа взглядом, – Обещал ты им пожизненное освобождение от ясака, ежели они сызнова покрестятся в Софийском соборе Тобольска. Вот скажи мне, владыка, ясак – это твое дело или мое?
– Я сюда неспроста послан, Алексей Михайлович, но дабы привести сибирскую землю к свету церкви Христовой. А ты, губернатор, чего хотел? Инородцев крестить и убытков не понести? Не бывает такого.
– Эвона, как! – Сухарев развел руками и достал другую бумагу, – Теперь поглядим, что пишут мне тюменские татары. Читаю: Алексей Михалыч, не дай сгибнуть. Новый епископ сибирский связал нас по рукам и ногам: торговать на ярмарке на дозволяет, мечети оскверняет, сыновей наших в православие государевой службой заманивает! – губернатор скомкал бумагу и выбросил в угол, – Вот скажи мне, владыка, сколько татарский торг казне в год приносит? Не знаешь? А сколькими землями тюменские мурзы владеют ты то же не ведаешь?
– Ты меня с бусурманами дела вести не учи, – выпалил Сильвестр. – Я этот народишко знаю – два десятка годов в Казани прожил.
– Прожил-то прожил, да ума не нажил, – губернатор снова вернулся к бумагам. – Вот еще оказия – Мишка Кручинин подсчитал: с момента твоего приезда – пять гарей в Сибирской губернии! Под моею рукой, владыка, народ добровольно самосжигательством не занимался. У тебя в подвале томится одна красавица – в последний момент из огня вышла. Видно есть ум у девки. Пойди да потолкуй с ней – глядишь, чего и поймешь про наших раскольников.
– Челобитные-то в Петербург отправишь? – ехидно поинтересовался Сильвестр.
– Ты почто меня оскорбляешь, владыка? – Сухарев обиженно развел руками. – Мы в Сибири своих не сдаем – такой закон. Хоть ты и родился в Малороссии да учился в Казани, но теперь ты, Сильвестр, наш – сибирский. Так и живи по-нашему, – губернатор откинулся на спинку кресла и назидательно продолжил, – Сибирь сильна и крутых перемен не любит: перемелет тебя, коли не поддашься.
– Я и сам кого хочешь перемелю, – епископ вскочил со стула. – Я и сам сила!
– Ну, ступай, богатырь, – Сухарев кивнул в сторону двери. – И Федьку своего угомони. У меня и на него бумага имеется. Сколько лет в Сибири служу, а монаха-душегуба еще не видывал. Благодарствую, владыка, привез ты нам красавца.
Когда Сильвестр выскочил из губернаторского дома, Федор уже поджидал его во дворе. С момента своего прибытия в Тобольск епископ еще не обмолвился с иноком и словом. Монах привычно подставил руки под благословение, но не получил его: Сильвестр молча проследовал мимо.
– Святейший владыка, что губернатор? – спросил на бегу Федор.
– Эх, Федор, не помогаешь ты мне совсем, – не останавливаясь, заметил Сильвестр.
– Как же не помогаю, владыка! Все дела на себя взвалил, пока вы в разъездах.
– Ага, как справляешься? Привык уж к власти?
– Да, что ж вы? – монах не мог понять причину недовольства митрополита, – Я без вашего указу, владыка, ничего не решаю. Об этом и речь: у нас в консистории раскольница сидит, из гари вышла…
– Знаю уж, – отрезал Сильвестр.
– Хотел просить ваше преосвященство сыск по ее показаниям учинить. Зачинщика злодеяния найти.
– Коли виноват, сыщем.
– Добро! Мне бы только собраться и хоть завтра в путь.
– Для тебя, Федор, путь из Тобольска заказан. – Сильвестр остановился и сурово поглядел на монаха, – Будешь в семинарии детишек наставлять. От прочих забот я тебя избавлю. Благодари Бога, что еще не на каторге.
– Владыка!
– Я все сказал.
Глава 7
Мирону давно опротивел звон колоколов, а потому он старался не шевелить лишний раз головой, чтобы она ненароком не треснула. Он уже давно подозревал, что постепенно слепнет. Здесь, как и в избушке старика Ермила, почти совсем не было света, но тьма была какой-то другой – злой и холодной. Бедный лучик света изредка просачивался с улицы, если солдаты из караула забавы ради не затыкали сапогами щель в стене. Только по рваному колокольному звону Мирон еще отличал день от ночи. Раз в сутки ему приносили воду и харчи – жидкую кашу на дне деревянной миски. Долго ли длится его пост – неделю, месяц, год – Мирон бы и сам не смог ответить. Он уже давно потерял счет времени. По привычке он продолжал усердно молиться и много спал крепким, беспробудным сном. Силы по капле покидали Мирона; он боялся, что когда-нибудь их не достанет для пробуждения.
Сначала Мирон роптал: зачем Господь провел его через гарь и очищение Авраамиевым островом, а после заточил в темницу? Разве ему мало было отведено испытаний? Разве он не должен был вступить в новую жизнь, чтобы исправить былые ошибки? Теперь на тяжкие раздумья у Мирону не осталось сил, и он боялся лишь одного – сгинуть, слившись с подвальной тьмой. Тьма стала главным врагом Мирона. Он чувствовал, как она постепенно завладевает им, отравляя душу. Тьма – слуга Диавола, а значит Господь покинул Мирона. Слова Ермила, пророчащие Мирону новую будущность, оказались ложью. Мудрый старик ошибся, а, может, специально заманил Мирона в западню. Где он сейчас? Почему не томится рядом в темнице? Почему не подставляет бока под жгучие плети?
Тяжелая дверь вдруг заскрипела, как вредная старуха. Вход в подвал был огорожен пристроем, чтобы внутрь не попадал свет, когда караульные приносили еду. В темноте Мирон не различал солдат – все они были немногословными и думали свои служилые думы. В этот раз караульный забрался в самую глубь подвала и чертыхнулся, запнувшись о натянутую цепь.
–
Эй ты, живой еще? – с опаской спросил солдат нестройным, еще ребяческим голосом.
Мирон поспешил утвердительно пошевелиться.
–
Сегодня для тебя щедрые харчи, – в ноги Мирона упала краюха хлеба и крупная луковица. – Сразу не сжирай, а то лопнешь. Вечером тебя на допрос поведем. Гляди там, без глупостей! – юнец неловко пнул цепь и выскочил из подвала, забыв запереть за собой дверь.
Мирон не сразу сообразил, что путь наверх свободен. Он аккуратно, стараясь не наделать шума, сгреб цепь в кучу и прижал к ребрам. На карачках, будто неся в утробе ребенка, он дополз до двери и распахнул ее. Пристрой был сколочен из толстых горбатых плах, пропускающих свет через широкие щели. От яркого солнечного света Мирон ослеп и отпрянул обратно в подвал. За дверью пристроя весело переговаривались солдаты, поплевывая в снег. Мирон попытался взобраться на крутые ступени, ведущие к выходу, но тут за ногу его одернула цепь, крепко ухватившая голень. Мирон перевернулся на спину, подставляя лицо свету, пробивающемуся через выбитый в плахе сучок, и провалился в сон. Он был абсолютно счастлив.
Проснулся Мирон от удара солдатского сапога в челюсть. Рот его быстро наполнился липкой и кислой кровью. Мирон приподнялся на локти и густо сплюнул. Двое караульных подхватили его и как немощного ребенка поставили на ноги. Третий солдат проворно сбивал цепи с кандалов. Затем караульные, не говоря ни слова, вытащили Мирона из подвала во двор. Морозный зимний воздух ударил Мирона в голову и заполнил впалую грудь. Мороз быстро проник в самое ее нутро, вышибая подвальную плесень. Мирон с трудом успевал перебирать ногами, а голова его шла кругом: мимо проносились белокаменные церкви, золотые купола, чернобокие колокола, ободранные собаки, горбатые старухи, пьяные мужики, горластые вороны, краснолицые ребятишки – Тобольск обрушился на Мирона всей своей столичной величественностью и суетой.
–
Отче, на кого ты меня оставил? – вопрошал Мирон. – Нашто забросил меня в этот Вавилон? Мне ли справиться с ним одному? Разве каждый тут не сильнее меня?
Скоро Мирона приволокли к кирпичному зданию в два этажа и подняли на высокую каменную лестницу. Дубовая дверь распахнулась и выпустила молодого монаха. Он кивнул караульным, взял Мирона под руки и увел за собой. Под ногами Мирона заскрипел лакированный деревянный пол, выложенный замысловатыми узорами. Инок подвел арестанта к высокому столу и усадил на стул, обтянутый красным бархатом. Мирон еще не пригляделся к свету и смутно различал темную фигуру, восседавшую за столом. Постепенно черты ее прояснялись: сначала показалась черная, аккуратно стриженная борода, затем густые чуть тронутые сединой брови и глубоко посаженные глаза, горевшие угольками. Голову незнакомца венчал новообрядеский клобук, а на широкой груди сверкала глазурью богородичная панагия. По-девичьи краснощекий лик Богородицы оценивающе глядел на Мирона. Молодой монах подошел к незнакомцу и что-то шепнул ему на ухо.
–
Ты Мирон Галанин? – взял слово Сильвестр.
Мирон не отвечал, рассеянно осматривая палаты.
–
Он еще в своем уме? – поинтересовался епископ у Федора. Тот лишь пожал плечами.
–
Ты Мирон Галанин, Иванов сын? Отвечай! – скомандовал Сильвестр.
–
Бабка так величала, – наконец, ответил Мирон.
Сильвестр одобрительно кивнул и обратился к лежащей перед собой бумаге.
–
Против тебя, Мирон, есть показания, что ты подговорил собратьев по раскольничьей ереси на самосжигательство. Ты совместно с двумя сообщниками запалил гарь, куда затащил старуху и брюхатую девку. В момент поджога ты трусливо выпрыгнул из сруба. За тобой в проход успела сигануть девка, чем спасла себя и свое дитя. После учиненного злодеяния ты с позором бежал на болота вместо того, чтобы предстать перед государевым судом и законом Божиим. Признаешь ли ты свою вину, Мирон?
–
Признаю.
Столь скорое согласие смутило митрополита, и он вопросительно посмотрел на Федора: мол, не уж-то переусердствовали с пытками? Инок вновь что-то шепнул Сильвестру под клобук.
–
Ведаешь ли ты, Мирон, какое наказание тебя ждет за твои деяния? – после недолгой паузы продолжил епископ.
–
Известно какое – кол в брюхо. Слыхали мы про тарский сыск.
–
Кол?! – Сильвестр от души рассмеялся. – Знавал я, что вы раскольники народ темный и неразумный, да ты меня все равно позабавил. В Таре слово и дело государево вышло, а вы раскольщики для власти – мелкота. Эти свои сказки про строгость государева сыска ты оставь для вечерок с девками. Мы – церковь Христова на земле, а не мучители. Милостию государыни Елизаветы дарована тебе, вероотступнику, возможность исправиться и вернуться под отеческое крыло православной церкви. Завтра на литургии окрестим тебя по христианскому обычаю и отправим с миром восвояси. Собратья на Ирюме нам нужны, дабы подвести тамошний упрямый народец под свет истинной веры.
–
Един Господь, едина вера, едино крещение, – спокойно ответствовал Мирон.
–
Какое же у вас, негодников, крещение? – начал разъяряться Сильвестр. – Ты ж поди только маканый? Старуха в кадке воды навела, пошептала бесовские речи и вот тебе – таинство. Ты Мирон – некрещенец. Поди и чертиков ночами видишь?
–
В Тобольске – вижу.
–
А ты дерзок! – епископ в поисках поддержки бросил сердитый взгляд на Федора. Ну расскажи-ка нам, раз такой умный, кто нам тебя с потрахами сдал?
–
Того не ведаю и знать не хочу. Земля слухами полнится – от вас, ястребов, и в гробу не утаишься. Всех без разбору хватаете: мужиков ирюмских, деда Ермила и малолетнюю Аську. Ладно я – мне по дело кандалы, а их то за что? Куды пленников дели?
–
Это уж не твоя забота. Вашего брата надо порознь держать, чтоб какой шалости не вышло. А насчет ястребов ты все верно сказал – солдаты наши не знают устали и пощады. Впрочем, в твоем случае и стараться не пришлось, – Сильвестр довольно погладил бородку. – Ваша ирюмская девка нам все и раскрыла. Не забыл еще Маланью-то?
Имя Малаши, брошенное устами сурового сибирского епископа, оборвало сердце Мирона и ударило кровью в голову. Томясь в своем подвале он и думать забыл о Малаше. Где она была все это время? Не уж-то не на Ирюме? Не уж-то тоже в заточении?
–
Не мучьте Малашу – отпустите! – исступленно выкрикнул Мирон, вцепившись в спинку стула.
–
Ишь ты, заступничек выискался, – глаза Сильвестра вспыхнули. – Только Маланью твою спасать уж не от кого. Она сама себе хозяйка – живет свободно. Коли не веришь – приходи-ка завтра на службу в Софийский собор – там ее и встретишь.
Мирон непонимающе хлопал глазами, переводя взгляд с епископа на молодого монаха. Мысль о том, что Малаша могла переменить веру не умещалась у него в голове. Нет, тут дело в чем-то другом. Это обман, подвальная тьма, в которой его хотят утопить, лишив самого дорого.
–
Загубить девку вздумали! – к глазам Мирона подступили слезы. – Демьяна в могилу отправили, теперь и за Малашу взялись, ироды.
–
Обойдемся без обвинений, Мирон, – примирительным тоном проворковал Сильвестр. Служка мой совершил проступок и за то был справедливо наказан. Маланья – девка взрослая: сама неразумного мужика выбрала, сама в огонь пошла, сама в православие вернется. Сегодня у нее конец оглашения, а завтра Маланья примет истинное крещение и вернется в лоно истинной церкви. Того уж не исправить ни мне, ни тебе, ни Господу Богу.
Мирону, истуканом сидевшему на стуле, вдруг разом открылось все: это он, а не молодой монах, загубил Малашу. Это он сманил ее в огонь. Это он отвернул ее от Христа. Это он ответит за нее перед Богом.
Сильвестр был неприятно удивлен реакцией раскольника на обращение Малаши. Он рассчитывал продолжить допрос, а Мирон, похоже, совсем расклеился.
–
Вот что я скажу тебе, Мирон, – назидательно, словно на лекции в Казанской семинарии начал Сильвестр. – Ваша раскольничья вера – это лодка, оторвавшаяся однажды от своего корабля и ушедшая в свободное плавание. Я – капитан этого корабля и должен вернуть лодку на место… Хочешь знать, что будет с твоим Ирюмом после? А будет вот что. Всех ярых приверженцев раскола мы переловим в два счета и отправим на уральские заводы. На ваши земли мы посадим государевых крестьян. Они принесут с собою православную веру и построят свои храмы. Через поколение Ирюм утвердится в истинной вере, а о тебе, Мирон, не вспомнят даже ваши старики.


