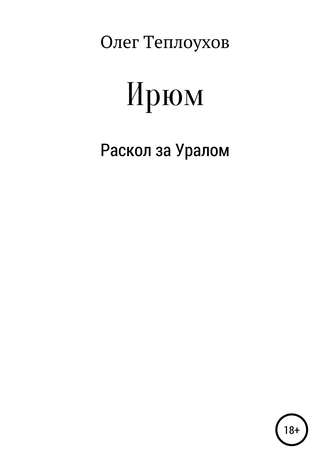
Олег Теплоухов
Ирюм
–
Ты чьей веры будешь? – не выдержал молчания Яшка, знавший, что перед ним раскольник.
–
Вера одна на всех, – ответил арестант.
–
Как же это одна? – не понял собеседника Яшка. – Есть татары-магометане, есть инородцы-язычники, есть еретики-никониане, а есть мы – староверцы, которые отеческую веру хранят.
–
Двоедан я, ирюмский, – признался незнакомец.
–
Так и я в расколе! – искренне обрадовался Яшка. – Свой своему – поневоле друг. Отчего не спросишь кто я и зачем пришел?
–
Коли надо – сам расскажешь. Ты меня из кандалов вывел, о чем мне еще просить?
–
Ладно говоришь! Меня Яшкой звать. Добрый человек поручил мне тебя из казематов вывести. Сейчас за кобылой сбегаю и в путь.
Когда Яшка с Мироном выехали из Тобольска, Луна уже закатывалась за горизонт, уступая место неспешному рассвету. За весь путь по городу их не одернул ни один караул – солдаты наплевали на свои обязанности и, как и все тоболяки, ждали лишь одного – когда вода освободит нижний город, обнажив его костлявые руины. Яшка накинул на спутника бобровую шубу, обхватил ее веревкой и привязал к себе, чтобы тот не свалился по дороге.
Побег прошел слишком легко и Яшка опасливо поджидал, что ближайшие кусты расступятся и выпустят из себя отряд разгневанных драгун. Когда молодой никонианский монах предложил Яшке пойти на дело, то он было заподозрил, что его хотят одурачить и вновь посадить на цепь. Узнав, что освободить нужно собрата по вере, Яшка сразу согласился. Быть может, это было лишь оправдание – Яшка теперь настолько ценил свободу, что освободил бы из заточения даже самого злостного разбойника, появись у него такая возможность. Федор сунул ему мешок монет – Яшка был волен оставить себе половину, но отдал караульному все. За доброе дело брать плату – грех. Уйдет вода, возобновится торговля и Яшка будет работать за троих – ведь теперь у него полон дом ртов – но брать деньги за освобождение арестанта не станет.
Версты сменяли друг друга, а погони все не наблюдалось и из кустов никто не выпрыгивал с ружьем на перевес. Тело арестанта было холодным и Яшка с опаской проверял, не отдал ли его спутник Богу душу. До места назначения оставалось еще далеко, но гнать Марусю Яшка не стал – пусть кабальник подышит морозом и выгонит из нутра всю подвальную гниль.
Когда хан Кучум, разбитый лихими людьми Ермака, бросил сибирскую столицу Искер, то затаился на одном из бесчисленных островов притобольских болот. Старики из татар сказывали, что последним прибежищем неудачливого правителя на долгие стал Золотой Рог. Здесь он загодя выстроил для себя подземный замок, где хранил свои несметные сокровища и с тоски мучил невольниц. Легенду о таинственном острове Яшка знал с младых лет. Татары бережно передавали ее из уст в уста многие поколения. По их поверью, хитрый Кучум обманул храброго, но глупого Ермака – в своем подземном замке он набирался сил, отпиваясь сладкой кровью молодых козлят, и совершал дерзкие вылазки в тыл русских, посчитавших себя новыми властелинами Сибири.
Легендарное место Яшка отыскал без помощи татар – Золотой Рог сам открылся ему во время охоты, словно только его и дожидался, сотни лет скрываясь от человеческих глаз. Яшка не нашел под землей ни ханских сокровищ, ни полчищ змей, которыми старики пугали любопытных русаков. Он никогда не был падок на золото, а потому остров открылся ему другой стороной, предоставляя теплый ночлег в трудную минуту. Согласившись на помощь с побегом, Яшка вспомнил о Золотом Роге. Быть может, Господь открыл ему таинственный остров как раз на такой случай, когда на кону стоит невинная христианская жизнь? Сам не зная почему, но Яшка был уверен, что подземный замок сможет поставить на ноги израненного арестанта за пару дней.
Когда снег стал совсем глубок, Яшка спешился и запрыгнул в ладные, сробленные верной остяцкой рукой, лыжи. Из ивняка он соорудил носилки и, положив на сплетенные ветки Мирона, сам впрягся в них. Марусю он отправил назад – Яшка знал, что она найдет дорогу домой. Возвращение кобылы подскажет жене, что с хозяином все хорошо. Путники добрались до Золотого Рога, когда весеннее солнце уже забралось высоко, посеребрив обледенелый после оттепели снег.
Со времен владычества хана Кучума остров пришел в запустение и порос вековым мшистым сосняком, скрывшим величественный замок под непроходимым буреломом. Посреди Золотого Рога и поныне можно было разглядеть зияющую черную дыру – то был выложенный каленым кирпичом ход, ведущий в подземелье. Спуститься по нему Мирону не хватило бы сил, и Яшка повел его к другому входу, закрытому от любопытных глаз густым тальником.
Просторные подземные палаты, выложенные крупным кирпичом, и по сей день ломились от разнообразного оружия: не потерявшие с годами остроты кривые сабли тут и там валялись под ногами, в тусклом свете запаленной Яшкой лучины угольками мерцали белобокие ножи и искусно сделанные наконечники дальнобойных стрел. Воображение Яшки, подкрепленное правдивыми легендами, рисовало картину того, как пленники, годами не видевшие света, ковали оружие для свирепых сибирцев Кучума, а густой черный дым, насквозь прокоптивший кирпич, денно и нощно тянулся на волю через глубокий колодец, раздувая горькую зависть в сердцах рабов.
Ровно через три дня Мирон встал на ноги. К тому моменту Яшка уже забеспокоился – почти все запасы были проеденыы, а никаких охотничьих снастей он с собой не взял. Подземный замок, устроенный праведным магометанином, не сотворил чуда с упрямым раскольником: Мирон был все так же плох, раны на ногах его гноились, а тело слабело.
Что же касается духа Мирона, то тут Яшка никак не мог сообразить – его спутник почти все время молчал, крайне неохотно поддерживая беседу. В Тобольске Яшку ждала жена в компании обездоленных чужаков, и он рвался поскорее вернуться домой. Мирон, казалось, без слов понимал, какой обузой стал для своего спасителя. Под вечер третьего дня он заявил Яшке, что окреп и готов уходить.
–
И куда ж ты подашься на таких-то ногах? – с едва скрываемой злобой в голосе ответил Яшка, трезво оценивая всю тяжесть их положения.
–
Отдай мне лыжи. Я пойду на Ирюм.
–
Ирюм?! Пошто сразу не в казематы? Разве тебя не на Ирюме будут искать?
–
Другого дома у меня нет.
–
Эх ты, Мирошка-Мирошка. – Яшка ходил из угла в угол в полумраке ханской залы и остервенело теребил клочковатую бороду. – Нельзя тебе домой. Подумай, милок, может, ждет тебя где какой добрый человек?
–
Добрых людей полно, да все самостийно живут. Вот и тебе уж домой пора.
Пристыженный Яшка молчал, заламывая руки.
–
Ты на меня не серчай, Яша, – извиняющимся тоном продолжил Мирон. – Доброе дело всегда большим грузом на плечи ложится. Ты уж потерпи, подсоби мне в последний раз. Оставь мне лыжи да остатки хлеба – а я уж куда-нибудь дойду. Обо мне больше не думай, свое дело ты сделал верно. Дальше мне самому справляться должно, – Мирон бросил тяжелый взгляд на Яшку. – Только напоследок расскажи, за кого мне Бога молить, кто меня вызволить подсобил? Молодой монах?
–
Он самый, – нехотя признался Яшка. – Только, уж не знаю почему, но велел он мне об этом деле тебе не сказывать.
–
То не грех. Человек слаб благим делом поделиться.
–
Этот монах и меня спас! – воодушевленно поделился Яшка. – Хоть и не сказывает, да я знаю, что он! Сколько месяцев я томился в подвале – уж борода позеленела, а потом раз – и на свободе. Я сразу на монаха подумал, которого душегубом кличут. Так человека облаивают, а он святой!
–
Бывало, Яша, и святые убивали, – задумчиво пробормотал Мирон. – Господь всех рассудит.
–
Вот и я говорю – Господь все видит, – закивал Яшка. – Да ведь монах не только нам помог – он и девку из заточенья вызволил! Пусть она и предала нашу веру – зато хоть жива-здорова.
–
Как предала?! – вскрикнул Мирон, не замечая, что вскочил и вцепился в засаленную рубаху Яшки. – Как предала веру? Не уж-то ты о Малаше? Не уж-то она перекрестилась?
–
Ты чего всбуянил? – отстранился Яшка – Великое ли по нынешним временам дело, что раскольник веру меняет? У нас так пол-Тобольска – ночью двоеперстием осеняются, а по воскресеньям в православном храме службу стоят. Такой уж народ мелкий пошел. Али у вас на Ирюме не так?
–
Не так… У нас на Ирюме не так, – силы вдруг разом покинули Мирона, и он приземлился на теплый, усыпанный мелким камнем пол. – Если Малаша в Тобольске, то и мне туда дорога. Завтра с тобой поеду – только сил наберусь.
–
Видать, ты совсем уж умом тронулся, коли свободой, Богом данной, не дорожишь! – осуждающе выпалил рыжий. – В Тобольск тебе никак нельзя, да и не зачем. Нету там твоей Малаши!
–
А где ж она?
–
Укатила вместе с монахом, – нехотя признался Рыжий. – Сильвестр его в Далматов монастырь отослал. Как со мной о твоем побеге сговорился, так в ту же ночь и уехали.
Когда тобольский сын боярский Дмитрий Мокринский схоронил любимую жену, то с горя оставил службу и детей, приняв монашеский постриг с именем Далмат в Невьянском монастыре. Вскоре инок покинул уральскую братию в поисках уединения. Удалившись на восток, Далмат дошел до реки Исеть, берег которой приглянулся ему своей крутизной. Монах выкопал для себя скромную землянку и начал тихую жизнь в молитве и посте. Скоро одиночество Далмата нарушили – вокруг кельи отшельника быстро выросла новая монастырская братия. Прослышав о незваных гостях на своей вотчине тюменский татарин Илигей решил согнать надоедливых монахов с места. Но вдруг во сне магометанину явилась прекрасная женщина в багряных одеждах и приказала оставить Далмата в покое и отдать старцу землю. Народ поверил, что это сама Богородица благословила создание первой обители на Исети.
Незаметно монастырь превратился в островок безопасности в лихой Зауральской степи, притягивая к себе русский люд: первыми монахами Далматовой пустыни стали беглые крестьяне и служилые, остывшие к государеву делу. На крутом исетском берегу жилось трудно. Степняки сжигали монастырь, но упрямый старец вновь восстанавливал его из пепла. Тобольские воеводы ценили обитель за ее пограничное положение; государи жаловали пустынь новыми землями; раскольники перед уходом в скиты или прыжком в гарь отписывали обители все имущество. Вслед за столичным Тобольском оделась в камень и Далматова пустынь. Выросшие каменные храмы монастыря спрятала за собой белобокая кирпичная стена.
Настырные русские выдавливали башкир с родных земель на Урале и лишенные вековых вотчин степняки уходили на восток – мстить русакам на Исети. Иноки Далматова монастыря умели обращаться с пушками и пищалями едва ли не лучше, чем читать молитвы. В монастырских деревнях, страдавших от степной шалости, любая баба умела унимать кровь, делать перевязки и отхаживать сколотых. Степняков, рискнувших подступиться к стенам обители, обваривали кипятком и горячей смолой, забрасывали плитняком и расстреливали из пищалей.
Губернатор Сухарев хоть и ворчал на игумена во все время посещения обители, но в тайне остался доволен: монахи были смелы, а амбары ломились от смолы и пороха. Опасения вызывали лишь вечно неспокойные крестьяне, под тяжестью повинностей готовые поднять игумена на вилы при любом удобном случае.
–
Авось и в этот раз пронесет, – рассуждал наедине с собой губернатор, думая о степной угрозе, – Бог даст – сдюжим.
Как бы ни были храбры монахи, но для порядку и успокоения им надо было чем-то подсобить. Сухарев решил отправить в обитель роту Ширванского полка во главе с капитаном Уручевым. Губернатора крайне озадачило, как охотно пропойца согласился отправиться в монастырь, отказавшись от сладких удовольствий тобольских кабаков. Сухарев волновался не напрасно – Степан уже давно вел двойную игру, служа и губернатору, и Сильвестру. В этот раз епископ поручил капитану не сводить глаз с Федора, который совсем отбился от рук: убил раскольника; спутался с его женой; одного арестанта отпустил, а другой таинственно пропал, – словом, от молодого монаха было больше проблем, чем пользы.
По весенней зауральской земле в Далматову обитель проворно катили сани Федора и Малаши; нестройно топала рота тобольских солдат под командованием Уручева; неспешно, выискивая в лесах и низинах не стаявший снег, шел на лыжах полуживой Мирон. Силы все не приходили к нему, но и не покидали настолько, чтобы упасть и замерзнуть: он шел небольшими перебежками, потом подолгу отдыхал, жевал окаменевшие сухари вперемешку со снегом и отправлялся дальше. Иногда он вдруг останавливался, приглядываясь: где-то вдалеке мерцал неясный лик Малаши, который он силился, но все не мог догнать.
Когда Мирон, наконец, добрался до Далматовского монастыря, снег на берегах Исети уже окончательно сошел, а лед стаял. В предзакатных лучах по-весеннему красного солнца белокаменные стены обители порозовели, словно щеки молодой девки, завидевшей настырного ухажера. По углам кремля, выходящим на реку, высились многогранные башни, увенчанные деревянными кострами. С внутренней стороны стену подпирали монастырская трапезная и братский корпус. Купола Успенского собора сверлили крестами низко плывущие облака. Несмотря на поздний час, монастырь бурлил жизнью: черные пятна монахов суетливо сновали у реки; солдаты в изумрудных мундирах месили грязь под стенами кремля; коровы, свиньи и овцы, пересидевшие за зиму в хлеву, жадно щипали прошлогоднюю траву. Мирон подивился зрелищу – за месяцы, проведенные в казематах, он совсем разучился видеть разом столько людей.
Мирон не сознавал, что уже давно ничего не боится. Страх перед людьми и властью отступил от него еще тогда, в дворецкой молельной, когда он вдруг призвал народ пойти за собою в огонь. Обжигающие плети, холодные подвалы, звонкие цепи – все это ничуть не пугало его. Даже Господа Мирон не боялся – он всепоглощающе любил его, а любовь не ведает страха.
Мирон вошел в обитель через восточные ворота. За монастырской стеной царил первозданный хаос: суетливые крестьяне прятали свое добро по амбарам гостиного корпуса; хмельные солдаты начищали пушки; потревоженные монахи по-хозяйски раздавали указания; собаки от волнения хватали за ноги всех подряд – нападения степи ждали со дня на день.
Взгляд Мирона остановился у крыльца трапезной, где расположился игумен, оживленно беседовавший с жидкобородым молодым монахом. Недолго думая, Мирон направился в их сторону. Оказавшись за спиной игумена, он стал ждать, пока инок его заметит.
Солнце уже спряталось за стеной, когда монах, наконец, подошел к Мирону.
–
Говорила Маланья, что ты дурак, да я все не верил. – Федор не пытался скрыть своего раздражения. – Что мне делать прикажешь? Отвести беглеца на воеводский двор?
–
Отведи меня к Малаше.
–
А ежели она тебя видеть не хочет? Она еще от вашей прошлой встречи не отошла. Зачем девке покою не даешь?
–
Это я-то не даю? – возмутился Мирон. – Кто ее мужа убил? Кто ее на цепи держал? Кто ее в другую веру перевел?
–
Из дому она тоже из-за меня сбежала, скажешь? Ты и есть дурак, если до сих пор не разглядел, насколько Маланья самостоятельна. Она сама себе хозяйка, – Федор взял Мирона под руку и повел за собой. – Спорить с тобой я не буду. Того и гляди, тебя узнают – тут глаз много, а колодника бывшего видно за версту. Не упрямься и следуй за мной – отведу тебя к Маланье. Но то будет ваша последняя встреча!
По своей давней привычке Малаша просиживала вечера у окна и вышивала платок. Не умея сидеть без дела, за день она изработалась так, что с трудом поднимала руки – с утра стирала солдатское белье, днем помогала бабам из окрестных деревень перепрятывать их пожитки, после – щипала кур и помогала на монастырской кухне. Вечером, возясь с крючком и пяльцами, Малаша отдыхала и забывала обо всем. Услыхав стук в дверь, она незаметно улыбнулась: в последние недели Малаша так привыкла к Федору, его спокойной речи и умному взору, что горевала, если из-за множества хлопот не успевала за день встретиться с ним.
Наскоро повязав голову, она отложила вышивку на кровать и бросилась к двери. Увидев за ней не Федора, а заросшего мужика в лохмотьях, Малаша вскрикнула и попятилась назад. Узнавание произошло не сразу – сначала в сердце Малаши болью отозвался тяжелый взгляд глубоко посаженных глаз незнакомца; затем она припомнила его руки, которые когда-то подарили ей икону; потом она услыхала голос обратившегося к ней Мирона и в слезах бросилась на сундук, заваленный принесенным с реки бельем. Малаша рыдала навзрыд: волосы ее выбились из платка и разметались по обитой железом крышке сундука, тело содрогалось от всхлипываний. Растерянный Мирон затворил дверь и, присев на полу рядом с Малашей, потихоньку взял ее за мокрую руку.
–
Зачем ты пришел? – не показывая лица сквозь слезы спросила Малаша. – Зачем же ты пришел?
Мирон совсем растерялся и по своему обыкновению лишь виновато опустил голову.
–
Думал, что нужен тебе, – негромко ответил он. – Хотел спасти.
–
Спасти от чего?! – Малаша уставилась на Мирона каменным взглядом. Опухшие от слез глаза ее блестели синевой.
–
От монаха этого, – не узнавая собственного голоса проговорил Мирон. – Ты его совсем не знаешь.
–
Не знаю монаха?! Ох, Миронушка, – Малаша обессиленно положила растрепанную голову на сундук. – Я все про Федора знаю: откуда он приехал в Тобольск, какие поручения выполняет для Сильвестра, зачем он освободил тебя из кандалов; знаю, что это он выстрелил в Демьяна.
–
И про это знаешь…
–
Знаю, Миронушка, знаю.
–
Тогда почему же ты здесь? Почему не бежишь от него? Почему ударилась в слезы, увидев меня?
–
Потому, что ты тянешь меня в пропасть, Мирон! Ты уже заманил меня в огонь, а теперь хочешь докончить начатое? Вся твоя жизнь будет наполнена страданиями, и ты никогда не успокоишься. Тебе не нужен никто, кроме Бога. Только Его ты любишь. Меня ты не любишь совсем, только – Бога во мне. Все лучшее, что Он в меня вложил. А Федя любит меня и без Бога, он любит во мне все плохое.
Мирон молчал. Он никогда не думал о том, что может любить Малашу иначе, чем он любит Бога. Никогда не думал, что она сама ждет от него любви. Мирон видел в ней человека, который чуть не отдал за него душу, человека, которого надо спасти.


