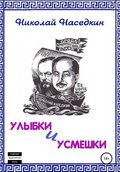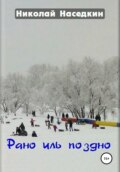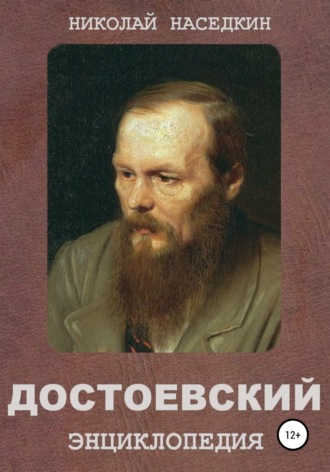
Николай Николаевич Наседкин
Достоевский. Энциклопедия
Алёна Ивановна
«Преступление и наказание»
Процентщица; старшая сестра (сводная) Лизаветы. С её «чином» в романе есть некоторая путаница: сначала она повествователем представлена как коллежская регистраторша (14-й класс), а буквально через две страницы сказано (в сцене подслушанного Раскольниковым разговора в трактире), что «студент говорит офицеру про процентщицу, Алёну Ивановну, коллежскую секретаршу», а это уже гораздо выше – 10-й класс. «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела…» Характеристику ей даёт тот же студент в разговоре с товарищем своим в трактире: «– Славная она, – говорил он, – у ней всегда можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная…

Процентщица. Художник П. М. Боклевский.
И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Даёт вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берёт в месяц и т. д. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьёт поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребёнка, тогда как Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту…» Именно студент своими рассуждениями о том, что «глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живёт, и которая завтра же сама собой умрёт» может своей смертью спасти от нищеты и гибели многих – окончательно подтолкнул Раскольникова на «преступление».
И вот – сцена убийства: «Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы её, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребёнки, торчавшей на её затылке. Удар пришёлся в самое темя, чему способствовал её малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела ещё поднять обе руки к голове. В одной руке ещё продолжала держать “заклад”. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, всё обухом и всё по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к её лицу; она была уже мёртвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и всё лицо были сморщены и искажены судорогой…»
Но Алёна Ивановна ещё явится во всём своём отвратительном виде Родиону Раскольникову в горячечном бредовом сне, когда ему приснилось, будто он опять пришёл в её квартиру: «В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. <…> Он подошёл потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвёл он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: “боится!” – подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал её разглядывать; но и она ещё ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, – так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он её не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шёпот из спальни раздавались всё сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать…»
Достоевскому с самых ранних лет приходилось общаться с ростовщиками И ростовщицами (вроде А. И. Рейслер, Эриксан), так что материала для изображения Алёны Ивановны, её сути и образа жизни было у него более чем предостаточно. Он даже собирался написать отдельное произведение с таким названием – «Ростовщик».
Алёна Фроловна
«Бесы»
Няня Лизаветы Николаевны Тушиной. Эта эпизодическая героиня интересна тем, что ей дано имя реального человека – Алёны Фроловны (Е. Ф. Крюковой) – няни из семьи Достоевских.
Алмазов (Алмазов Андрей)
«Записки из Мёртвого дома»
Арестант, «начальник» Горянчикова на работах. «На алебастр назначали обыкновенно человека три-четыре, стариков или слабосильных, ну, и нас [дворян] в том числе, разумеется; да, сверх того, прикомандировывали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил всё один и тот же, несколько лет сряду, Алмазов, суровый, смуглый и сухощавый человек, уже в летах, необщительный и брюзгливый. Он глубоко нас презирал. Впрочем, он был очень неразговорчив, до того, что даже ленился ворчать на нас. <…> Алмазов обыкновенно молча и сурово принимался за работу; мы словно стыдились, что не можем настоящим образом помогать ему, а он нарочно управлялся один, нарочно не требовал от нас никакой помощи, как будто для того, чтоб мы чувствовали всю вину нашу перед ним и каялись собственной бесполезностью. А всего-то и дела было вытопить печь, чтоб обжечь накладенный в неё алебастр, который мы же, бывало, и натаскаем ему. На другой же день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, начиналась его выгрузка из печки. Каждый из нас брал тяжёлую колотушку, накладывал себе особый ящик алебастром и принимался разбивать его. Это была премилая работа. Хрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахивали тяжёлыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. И уставали-то мы наконец, и легко в то же время становилось; щёки краснели, кровь обращалась быстрее. Тут уж и Алмазов начинал смотреть на нас снисходительно, как смотрят на малолетних детей; снисходительно покуривал свою трубочку и всё-таки не мог не ворчать, когда приходилось ему говорить. Впрочем, он и со всеми был такой же, а в сущности, кажется, добрый человек. <…> Положим, арестанты были народ тщеславный и легкомысленный в высшей степени, но всё это было напускное. Арестанты могли смеяться надо мной, видя, что я плохой им помощник на работе. Алмазов мог с презрением смотреть на нас, дворян, тщеславясь перед нами своим умением обжигать алебастр. Но к гонениям и к насмешкам их над нами примешивалось и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти…»
Алмазов Андрей – реальное лицо: старший мастер Омского острога в цехе, где делали алебастр. Достоевский одно время работал под его началом.
Амишка (собачка)
«Чужая жена и муж под кроватью»
Собачка комнатной породы в доме Александра Демьяновича. Когда Амишка обнаружила под кроватью двух посторонних мужчин, и подняла лай, то была немедленно задушена одним из них – Иваном Андреевичем Шабриным. И хотя хозяйка собачонки, в конце концов, Шабрина простила, ибо он её рассмешил и к тому же пообещал принести новую «сахарную» болонку, но сам Иван Андреевич опростоволосился: сунул машинально мёртвую Амишку в карман, принёс домой и при супруге Глафире Петровне Шабриной невзначай вынул, так что тут же превратился из ревнивца в подозреваемого.
Андреев Николай Семёнович
«Подросток»
Подручный Ламберта и товарищ Тришатова. Впервые их вместе и встречает-видит Аркадий Долгорукий у дверей квартиры Ламберта и описывает сначала Андреева: «Оба были ещё очень молодые люди, так лет двадцати или двадцати двух <…> Тот, кто крикнул “атанде”, был малый очень высокого роста, вершков десяти, не меньше, худощавый и испитой, но очень мускулистый, с очень небольшой, по росту, головой и с странным, каким-то комически мрачным выражением в несколько рябом, но довольно неглупом и даже приятном лице. Глаза его смотрели как-то не в меру пристально и с какой-то совсем даже ненужной и излишней решимостью. Он был одет очень скверно: в старую шинель на вате, с вылезшим маленьким енотовым воротником, и не по росту короткую – очевидно, с чужого плеча, в скверных, почти мужицких сапогах и в ужасно смятом, порыжевшем цилиндре на голове. В целом видно было неряху: руки, без перчаток, были грязные, а длинные ногти – в трауре. <…> Длинный парень стаскивал с себя галстух – совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уж тесёмку, а миловидный мальчик, вынув из кармана другой, новенький чёрный галстучек, только что купленный, повязывал его на шею длинному парню, который послушно и с ужасно серьёзным лицом вытягивал свою шею, очень длинную, спустив шинель с плеч…»
Андреев в разговоре то и дело переходит на скверный французский, и Тришатов поясняет: «– Он, знаете, – циник, – усмехнулся мне мальчик, – и вы думаете, что он не умеет по-французски? Он как парижанин говорит, а он только передразнивает русских, которым в обществе ужасно хочется вслух говорить между собою по-французски, а сами не умеют…» Немудрено, что Подросток про себя начинает именовать Андреева верзилой по-французски – dadais. Впоследствии тот же Тришатов в ресторанном пьяном разговоре с Аркадием характеризует своего друга (который начинает скандалить) более основательно: «– Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и всё у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется – это он с отчаяния. И у него ужасно странные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный – это всё одно и нет разницы; и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или всё равно – можно делать и доброе, и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по месяцу, пить, да есть, да спать – и только. Но поверьте, что это он – только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он ещё вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет: он заревёт, ужасно заревёт, и это, знаете, ещё жальче… И к тому же такой большой и сильный и вдруг – так совсем заревёт. Какой бедный, не правда ли?..»
Андреев – один из самых несчастных персонажей «Подростка»: служил некогда юнкером, за что-то из полка был выгнан (своеобразная перекличка с историей князя Сокольского), прокутил приданное своей сестры, попал в преступную компанию негодяя Ламберта, пребывал хронически в состоянии мрачного отчаяния, перестал даже мыться, маниакально хотел убить себя, а конкретно – повеситься. Причём, его приятель, Тришатов, сообщая это Аркадию, весьма характерно обобщает: «А он, я ужасно боюсь, – повесится. Пойдёт и никому не скажет. Он такой. Нынче все вешаются…» Но в финале выясняется, что Андреев всё же не повесился – застрелился.
Любопытно, что по имени-отчеству герой этот – полный тёзка близкого Подростку человека, наставника, хозяина его московской квартиры Николая Семёновича, а фамилия его как бы перекликается с девичьей фамилией матери Аркадия, Софьи Андреевны, которую до замужества именовали, как и положено было тогда в крестьянской среде, по имени отца – Софьей Андреевой (именно так и упоминается в романе). Скорее всего, – это чисто случайные совпадения.
Андрей
«Братья Карамазовы»
Ямщик. Его нанял Дмитрий Карамазов, чтобы ехать в Мокрое вслед за Грушенькой Светловой. «Когда Митя с Петром Ильичом подошли к лавке, то у входа нашли уже готовую тройку, в телеге, покрытой ковром, с колокольчиками и бубенчиками и с ямщиком Андреем, ожидавшим Митю…» Андрей был «ёще не старый ямщик, рыжеватый, сухощавый парень в поддёвке и с армяком на левой руке». Митя посулил ему 50 рублей, но осторожный Андрей, догадавшись, что возбуждённый Дмитрий Карамазов едет в Мокрое с пистолетами неспроста, уже на месте от щедрой полусотни отказался и взял только «законные» 15 рублей. Кроме того он подробно доложил следствию о странных речах Дмитрия по дороге насчёт того, что он, Дмитрий Карамазов, может в ад попасть за свои деяния.
Прообразом этого персонажа послужил реальный молодой ямщик Андрей, который, как и Тимофей (другой ямщик, также упоминаемый в романе), возил Достоевских из Старой Руссы к озеру Ильмень на пароходную пристань. Его имя дважды упоминается в письмах А. Г. Достоевской из Старой Руссы к мужу в Петербург (от 12 и 13 февраля 1875 г.), а также в письме Достоевского из Эмса к жене в Старую Руссу (от 26 июля /7 августа/ 1876 г.).
Андрей Филиппович
«Двойник»
Коллежский советник, начальник отделения, в котором служит Голядкин. Он постоянно встречается на пути Голядкина и в неслужебное время, так что создаётся у Якова Петровича впечатление, что начальник специально за ним следит. Несколько иронические штрихи к его портрету даны повествователем в сцене празднования дня рождения Клары Олсуфьевны Берендеевой: «Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными седине орденами, вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал с искрометным вином <…> Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие <…> Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, – нет, он казался чем-то другим… я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником. Он был выше! Наконец… о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного…» А из наблюдения самого Голядкина читатель узнаёт характерную деталь, «что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги». Вскоре Якову Петровичу пришлось убедиться вполне, что начальник его благоволит к его двойнику: «В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш всё положение дел…» И именно Андрей Филиппович вместе с Голядкиным-младшим помогли в финале доктору Крестьяну Ивановичу Рутеншпицу посадить Голядкина в карету, дабы увезти страдальца в сумасшедший дом.
Андроников Алексей Никанорович
«Подросток»
Родной и любимый дядя Марьи Ивановны (жены Николая Семёновича) и начальник отделения, юрист, занимавшийся делом Версилова в его тяжбе с князями Сокольскими (однофамильцами князя Николая Ивановича Сокольского). По словам Крафта, который был его помощником в частных делах, «Андроников “никогда не рвал нужных бумаг” и, кроме того, был человек хоть и широкого ума, но и “широкой совести”». Именно Андроников, умерший месяца за три до приезда Аркадия Долгорукого в Петербург, сохранил письмо к нему некоего Столбеева, из-за завещания которого и возникла дело Версилова с князьями Сокольскими. «Дело это теперь решается в суде и решится, наверно, в пользу Версилова; за него закон. Между тем в письме этом, частном, писанном два года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю или, вернее, желание, излагает скорее в пользу князей, чем Версилова. По крайней мере те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники Версилова много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения…» И вот, согласно воле Андроникова в передаче Марьи Ивановны, важное письмо попало через Крафта в руки Подростка и сыграло в развитии дальнейшего развития событий важную роль. Кроме того, именно Андроникову написала Катерина Николаевна Ахмакова письмо, в котором советовалась насчёт учреждения надо отцом своим (князем Сокольским) опеки – это компрометирующее и опасное для неё письмо попало после смерти Алексея Никаноровича тоже в руки Аркадия Долгорукого, а затем Ламберта, шантажирующего им дочь князя. Как человек Андроников, судя по всему, был человеком простым и добрым. Аркадий вспоминает, как Андроников «всю провизию, птиц, судаков и поросят, сам из города в кульках привозил, а за столом, вместо супруги, которая всё чванилась, нам суп разливал, и всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый».
Анкудим Трофимыч
«Записки из Мёртвого дома» /«Акулькин муж»/
Отец Акулины, героини вставного рассказа «Акулькин муж» – богатый деревенский мужик. Рассказчик (Шишков), бывший его зять, угодивший на каторгу за убийство его дочери и своей жены, так его характеризует «Ну, заимку большую имел, землю работниками пахал, троих держал, опять к тому ж своя пасека, мёдом торговали и скотом тоже, и по нашему месту, значит, был в великом уважении. Стар больно был, семьдесят лет, кость-то тяжелая стала, седой, большой такой. Этта выйдет в лисьей шубе на базар-то, так все-то чествуют…» Сначала Анкудим Трофимыч сам избивал свою дочь до полусмерти, поверив сплетням об её «распутстве», а потом, отдав замуж за Шишкова, не мешал ему бить и убивать Акулину…
Анна Фёдоровна
«Бедные люди»
Сваха и сводня; дальняя родственница Варвары Алексеевны Добросёловой. Наивная Варя даже не сразу поняла, зачем эта женщина их с матушкой приютила после смерти отца: «Матушка страдала изнурительною болезнию, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Фёдоровна. Она всё говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.
После долгих вступлений и предуведомлений Анна Фёдоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Фёдоровне, что её предложение мы принимаем с благодарностию. <…> Сначала, покамест ещё мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Фёдоровны. Анна Фёдоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трёх из них жила Анна Фёдоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, – ребёнок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Фёдоровны. Анна Фёдоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать; но состояние её было загадочно, так же как и её занятия. Она всегда суетилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз в день; но что она делала, о чём заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. <…> Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада, было ли бы ещё у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так ещё Бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было её слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье её становилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Фёдоровне; она поминутно говорила, что у неё не модный магазин в доме. <…> Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Фёдоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать своё владычество…»
Именно Анна Фёдоровна стояла у истоков судьбы студента Покровского (настоящим отцом его был помещик Быков, и Анна Фёдоровна сумела «прикрыть грех» – срочно сосватала его мать за чиновника Захара Покровского), именно она уже погубила судьбу Саши, «совратив её с пути», сделав из неё продажную женщину, и именно она, в конце концов, «устроила» судьбу самой Вареньки Добросёловой – выдала-таки её замуж за господина Быкова, продала ему.