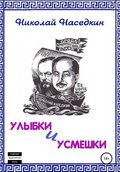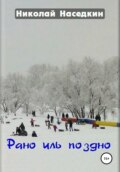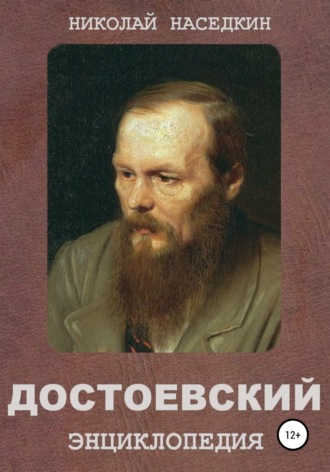
Николай Николаевич Наседкин
Достоевский. Энциклопедия
Приговор
«Предсмертная записка». ДП, 1876, октябрь, гл. первая, IV. (XXIII)
В предыдущей, третьей, подглавке выпуска Достоевский сопоставил два самоубийства: «материалистическое» – дочери А. И. Герцена Елизаветы Герцен и «кроткое» – швеи Марьи Борисовой (послужившей затем прототипом заглавной героини повести «Кроткая»). В «Приговоре», который в черновых материалах имел заглавие «Дочь Герцена», он от имени самоубийцы-«матерьялиста», как бы изнутри, показал «философию» этой категории «самоубийц от скуки», о которых речь уже шла в связи с самоубийством Надежды Писаревой (ДП, 1876, май, гл. 2, II). Основные тезисы «Приговора» таковы: «…В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу сознал: какое право она имела производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать – ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание моё, возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий. Она говорит мне, что я, – хоть и знаю вполне, что в “гармонии целого” участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму её вовсе, что она такое значит, – но что я всё-таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то, уж разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь, – останется ли это целое с гармонией на свете после меня или уничтожится сейчас же вместе со мною. <…> Для чего устроиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это, уж конечно, никто не сможет мне дать ответа. Всё, что мне могли бы ответить, это: «чтоб получить наслаждение». Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё счастье это, и вся любовь, и всё человечество – обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, – не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я всё же был бы утешен. Но ведь планета наша невечна, и человечеству срок – такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, – всё это тоже приравняется завтра к тому же нулю. <…> уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким-то там косным законам её, истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна. Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить всё это завтра в нуль, несмотря на всё страдание, которым заплатило человечество за это счастье, и, главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознанья, как скрыла она от коровы, – то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: “ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?” <…> в моём несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, – вместе со мною к уничтожению… А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого. N. N.»
На Достоевского посыплются обвинения в апологии самоубийства, так что вскоре, уже в декабрьском выпуске ДП, ему придётся оправдываться и расставлять точки над i заново.
Примечание <к статье Н. Страхова
«Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве»>
Э, 1864, № 9. (XX)
Случилось так, что А. А. Григорьев, один из ведущих сотрудников «Времени», в середине 1861 г. из-за разногласий с братьями Достоевскими и в силу разных прочих обстоятельств покинул журнал и уехал из Петербурга в Оренбург, где без малого год служил учителем в кадетском корпусе. Однако ж связи с редакцией журнала он не терял и активно переписывался с Н. Н. Страховым, делясь в письмах своими размышлениями о литературе, «почвенничестве», своих взаимоотношениях с редакцией журнала. Николай Николаевич, публикуя после смерти А. Григорьева в сентябрьском номере «Эпохи» воспоминания о нём, включил в текст и одиннадцать писем поэта и критика. Достоевский счёл нужным сделать примечание, пояснив в первых строках: «Никак не могу умолчать о том, что в первом письме Григорьева касается меня и покойного моего брата…» И далее по пунктам писатель уточняет, что: 1) М. М. Достоевский в качестве редактора журнала ни в коем случае не «загонял как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского»; 2) во взглядах редакции и Григорьева на славянофильство имелись расхождения, но никогда редактор не требовал от Григорьева «отступничества от прежних убеждений»; 3) в первые годы существования «Времени» действительно были колебания, но – «не в направлении, а в способе действия»; 4) суждения Григорьева о сотрудниках и принципах работы редакции только доказали, что «он не имел ни малейшего понятия о практической стороне издания журнала». И в конце Достоевский несколькими штрихами ярко характеризует, отдавая ему должное, Аполлона Григорьева как яркого поэта, критика и публициста (см. А. А. Григорьев).
<Примечание к статье Н. Н. Страхова
«Нечто об “опальном журнале” (письмо к редактору)»>
Вр, 1862, № 5, с подписью: Ред. (XX)
В 1862 г. ожесточённую полемику с «Современником» и «Русским словом» на страницах «Времени» вёл ведущий критикжурнала Н. Н. Страхов (Н. Косица). Редакция «Времени» до этого письма Страхова прямо в его полемику (в основном с «Современником») не вмешивалась, однако, когда накал полемики достиг критического градуса, Достоевский счёл необходимым добавить к очередной статье своего сотрудника несколько резко язвительных замечаний в адрес сотрудника «Современника» М. А. Антоновича.
<Примечание к статье «Процесс Ласенера»>
Вр, 1861, № 2, с подписью: Ред. (XIX)
По инициативе Достоевского редакция «Времени» со второго номера начала публикацию цикла материалов, посвящённых нашумевшим в Европе уголовным процессам. Всего во «Времени», а затем в «Эпохе» было опубликовано семь таких очерков. Первая публикация, которую Достоевский снабдил примечанием, была посвящена процессу над Пьером-Франсуа Ласенером (1800—1836), приговорённым судом в Париже за воровство и убийства к смертной казни. Преступник этот примечателен был кроме всего прочего тем, что писал в заключении стихи и мемуары, в которых изобразил себя «жертвой общества» и «мстителем». Образ Ласенера, о котором в «Примечании» сказано как о «личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной», в какой-то мере был использован Достоевским при работе над образами некоторых героев будущих произведений, в первую очередь – Раскольникова.
Пушкин
(Очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности.МВед, 1880, № 162, 13 июня. (XXVI)
С 6 по 8 июня 1880 г. в Москве проходили торжества по случаю открытия памятника А. С. Пушкину работы А. М. Опекушина. В празднестве приняли участие за малым исключением все крупнейшие писатели земли русской – Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Д. В. Григорович, А. Ф. Писемский, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, А. Н. Плещеев и др. Впрочем, к «малому» исключению принадлежали И. А. Гончаров (по болезни) и Л. Н. Толстой с М. Е. Салтыковым-Щедриным, не пожелавшие участвовать в празднике в силу своих убеждений. Достоевский, прервав работу над «Братьями Карамазовыми» и уединившись в Старой Руссе, на едином дыхании за неделю (с 13 по 21 мая) написал свою «Пушкинскую речь». В Москву он приехал 23 мая, ещё не зная, что из-за кончины императрицы Марии Александровны (жены Александра II) пушкинские торжества перенесены с 25 мая на более поздний срок. Речь свою писатель, к счастью не уехавший обратно в Петербург, как поначалу намеревался, произнёс 8 июня – на второй день юбилейного заседания Общества любителей российской словесности. Ещё только работая над текстом речи, Достоевский писал К. Д. Победоносцеву (19 мая 1880 г.): «Приехал же сюда в Руссу не на отдых и не на покой: должен ехать в Москву на открытие памятника Пушкина, да при этом ещё в качестве депутата от Славянского благотворительного общества. И оказывается, как я уже и предчувствовал, что не на удовольствие поеду, а даже, может быть, прямо на неприятности. Ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я уже и в Петербурге мельком слышал, что там в Москве свирепствует некая клика, старающаяся не допустить иных слов на торжестве открытия, и что опасаются они некоторых ретроградных слов, которые могли бы быть иными сказаны в заседаниях Люб<ителей> российской словесности, взявших на себя всё устройство праздника. Меня же именно приглашал председатель Общества и само Общество (официальной бумагою) говорить на открытии. Даже в газетах уже напечатано про слухи о некоторых интригах. Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих (наших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, а потому и жду, может быть, некоего поношения. Но не хочу смущаться и не боюсь, а своему делу послужить надо и буду говорить небоязненно. Профессора ухаживают там за Тургеневым, который решительно обращается в какого-то личного мне врага. <…> Впрочем, что Вас утруждать мелкими сплетнями. Но в том-то и дело, что тут не одни только сплетни, а дело общественное и большое, ибо Пушкин именно выражает идею, которой мы все (малая кучка пока ещё) служим, и это надо отметить и выразить: это-то вот им и ненавистно. Впрочем, может быть, просто не дадут говорить. Тогда мою речь напечатаю…»
Достоевскому не только дали говорить – его выступление стало апофеозом всего празднества. С первых же слов речи «“Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа”, – сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое…», – и до заключительных: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем», – переполненный зал Дворянского собрания слушал Достоевского буквально затаив дыхание и периодически взрываясь громом аплодисментов. А вроде бы, на первый взгляд, оратор не говорил ничего особенного или совершенно нового. Сам писатель, публикуя свою речь в виде очерка в единственном выпуске «Дневника писателя» за 1880 г., предварил её «Объяснительным словом», где по пунктам обозначил главные темы речи: «1) То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы её не верующего, Россию и себя самого (то есть своё же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе… <…> 2) Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, Инок и другие в “Борисе Годунове”, типы бытовые, как в “Капитанской дочке” и во множестве других образов <…>. Главное же, что надо особенно подчеркнуть, – это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа… <…> Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения – способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного… <…> 4) Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит её со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил её во всё двухсотлетие с петровской реформы не раз…»
Сам писатель вечером того же 8 июня по горячим следам дрожащими от волнения руками описывал А. Г. Достоевской происшедшее так: «Утром сегодня было чтение моей речи в «Любителях». Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать – ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от «Карамазовых»!). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнём. Всё, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты – всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: “Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, Вы наш святой, вы наш пророк!”. “Пророк, пророк!” – кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. “Вы гений, вы более чем гений!” – говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя – есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений, “Да, да!” – закричали все и вновь обнимались, вновь слёзы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Общество люб<ителей> рос<сийской> словесности единогласно избирает меня своим почётным членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил, что своей речи читать не будет, потому что всё сказано и всё разрешило великое слово нашего гения – Достоевского. Однако мы все его заставили читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: “За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!”. Все плакали, опять энтузиазм. Городской глава Третьяков благодарил меня от имени города Москвы. – Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залоги будущего, залоги всего, если я даже и умру…»
Эти сведения подтверждаются многочисленными воспоминаниями свидетелей триумфа Достоевского. Однако ж, уже через несколько дней и особенно после публикации текста речи в «Московских ведомостях» она вызвала острую полемику, что побудило автора выпустить в августе специальный выпуск ДП с текстом «Пушкинской речи» и своими комментариями к ней. Но это только подлило масла в разгоревшийся спор вокруг неё, который не утихал практически до последних дней жизни Достоевского.
Пушкинская речь
См. Пушкин (Очерк).
Пьяненькие
Неосущ. замысел, 1864. (VII)
Наброски к роману под таким заглавием появились в рабочей тетради в 1864 г. После краха журнала «Эпоха» Достоевский, надеясь получить аванс под будущее произведение, предлагал издателям «Санкт-Петербургских ведомостей» В. Ф. Коршу и журнала «Отечественные записки» А. А. Краевскому свой новый роман. В частности, последнему он писал 8 июня 1865 г.: «Роман мой называется “Пьяненькие” и будет связан с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке…» Предложение издателями было отклонено, а замысел «Пьяненьких» впоследствии влился в состав «Преступления и наказания» в качестве сюжетной линии, связанной с семейством Мармеладовых.
Рассказ Плисмылькова
См. Ползунков.
Рассказы Н. В. Успенского
Статья. Вр, 1861, № 12, без подписи. (XIX)
Как и статья «Выставка в Академии художеств за 1860—61 год», данная статья не была включена Н. Н. Страховым в список анонимных статей Достоевского, опубликованных в журналах «Время» и «Эпоха», составленный им по просьбе А. Г. Достоевской для первого посмертного издания мужа. Авторство Достоевского по содержанию и стилистическим признакам установлено позже (в частности, – Л. П. Гроссманом). Статья написана в связи с выходом первого сборника рассказов Н. В. Успенского (Рассказы Н. В. Успенского, ч. 1—2, СПб., 1861), в который вошли произведения молодого писателя-демократа, опубликованные в «Современнике». Книга эта стала событием в литературной и общественной жизни России того времени, вызвала в печати многочисленные отклики и полемику. Споры в основном шли о задачах и способах изображения народа, народной жизни в литературе. Говоря об Успенском, Достоевский проводит мысль, что русская литература «не доросла ещё до широкого и глубокого взгляда» на народ: «Да не подумает, впрочем, читатель, что мы хоть сколько-нибудь сравниваем его с Островским, Тургеневым, Писемским и т. д. Предшествовавшие ему замечательные писатели, о которых мы сейчас говорили, сказали во сто раз более, чем он, и сказали верно, и в этом их слава. И хоть они все вместе взглянули на народ вовсе не так уж слишком глубоко и обширно (народа так скоро разглядеть нельзя, да и эпоха не доросла еще до широкого и глубокого взгляда), но, по крайней мере, они взглянули первые, взглянули с новых и во многом верных точек зрения, заявили в литературе сознательно новую мысль высших классов общества о народе, а это для нас всего замечательнее. Ведь в этих взглядах наше всё: наше развитие, наши надежды, наша история…» Успенский, считает Достоевский, в изображении народа руководствуется самыми лучшими чувствами и побуждениями, но… И писатель-критик высказывает мнение, которое перекликается с его кредо, уже высказанным в статье о выставке в Академии художеств: для правды изображения жизни мало одной фотографичности (одного «дагерротипизма»). И в конце статьи-рецензии высказаны пожелания и надежды: «Не знаем, разовьётся ли далее г-н Успенский. То, что движет его внутренне, – верно и хорошо. Он подходит к народу правдиво и искренно. Вы это чувствуете. Но может ли он взглянуть глубже и дальше, сказать собственно своё, не повторять чужого, и, наконец, суждено ли ему развиться художественно? Суждено ли ему развить в себе свою мысль и потом ясно, осязательно её высказать? Всё это вопросы. Но задатки очень хороши; будем надеяться».