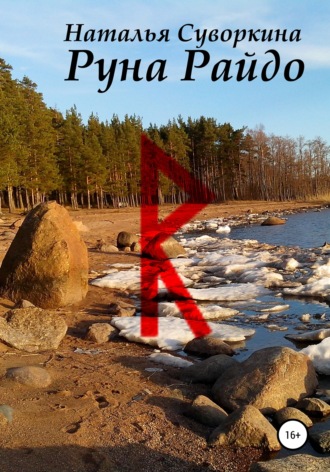
Наталья Суворкина
Руна Райдо
Хауг попросил позволения самому украсить гребнем мою прическу. Случайное прикосновение к шее. Я волнуюсь. Вот он улыбается мне, слегка пожимает руку, произнося любезности, в которых слышится горячий интерес, нежность…
Но разорванное платье и липкая кровь на ногах не оставляли надежды на то, что это все кошмар, а не реальность. Зал родного дома усеян телами моих близких и тех, кого я знала с детских лет. Столы с блюдами перевернуты, снопы и цветочные гирлянды растоптаны. Я не буду королевой хенресин и данов – королевой прекрасной земли Эйрин.
Те, кто не погиб в этот день, сейчас на дыбе завидуют мертвым.
Умом я понимала, что всему виной чудовищный замысел моих родных, то, что я сама того не зная, поднесла Хаугу кубок с ядом, что на галерее прятались лучники, что это была попытка государственного переворота, подлая ловушка, измена.
Меня использовали в качестве приманки родной отец и дядя. Судьба приманки известна – ее обычно пожирают. Но мной пожертвовали, не задумываясь. Отец был так ласков, щедр. Когда мне шили это платье для пира, он знал, что свадебного сговора не будет. Планировал ли он вернуть меня в монастырь или у него был другой жених наготове? Готов ли он был к тому, что в меня тоже попадут, ведь стрелы посыпались на нас градом? Могла ли я успеть отойти в безопасное место до залпа? Или это было не важно? А если бы я отпила из кубка несколько глотков? Отец смотрел, как я подношу его к губам и промолчал…
Если бы я не крикнула, не толкнула Хауга так, что он расплескал вино, не успев сделать глоток… Но ведь и Хауг закрыл меня собой от стрел, пихнул под стол…Почему же потом он не поверил мне, решил, что я участвовала в заговоре? Много позже я догадалась – он думал, что в монастыре меня в это втянули сестры, связанные с Воинами Вереска, и я была активной частью их совместного с Ангусом плана. Ведь Беата действительно имела с этой партией отношения, вела с ними дела, участвовала со своими ближними подругами в политических играх. Конечно, как ему было поверить, что я не была во все посвящена.
Король и его люди, отправляясь на пир, под одежду надели кольчуги тончайшего и прочнейшего лэллорийского плетения. Только поэтому большинство получили лишь царапины и успели к своим щитам и оружию.
Я должна была лишь поднести ему кубок в знак уважения к гостю и вернуться на свое место. По нашему обычаю женщины сидят за отдельным столом и на пиру не пьют вина. У данов – иначе. У них мужи и дамы садятся парами, друг против друга и пьют вдвоем из одной чаши, украшая пир беседой. Хауг попросил меня присесть с ним. Даме прилично пригубить из кубка первой. В монастыре я изучала яды, мать Арисима давала мне крошечные дозы, дабы развить нечувствительность. И, когда я попробовала вино, я сразу узнала этот вкус. Я поняла, в чем дело, не сразу, передала ему кубок и почувствовала горечь, как жжет опухающий язык, а ведь я только лизнула. Никто не ожидал, что я закричу и толкну короля, выбивая кубок из рук. Он не успел даже к губам поднести. И сразу нас накрыло залпом стрел.
Обо всем этом я раздумывала часами, днями. Мысли шли по кругу, иногда принимая какое-то странное, абсурдное направление, но, всякий раз сворачивая на одно. Конечно, замысел принадлежал дяде, как вождю клана. Уна, хоть и делила с ним ложе, разумеется, ничего не подозревала. Не могла она, пришивая жемчуг к рукавам этого великолепного платья, знать, что оно может быть пробито стрелой, вместе с телом ее любимой воспитанницы. До сих пор в моих ушах стоит стук жемчужин о каменный пол.
Зачем Хауг его разорвал? Если бы он приказал, я бы сама послушно сняла. О чем я, господи, думаю! Куда бы я теперь его надела… Вишневый бархат хорошо впитывает кровь, она на нем совсем не видна. Куда его дели? Должно быть, сожгли.
Я чувствовала одновременно тошноту и голод, которые затем станут постоянными. Не могла насытиться вполне сносной едой, которую мне приносили. А иногда – не ела, просто не могла. Я вовсе не хотела умереть, нет. Смерть страшила. Через силу я впихивала в себя немного, утешаясь тем, что Хаугу доложат – я почти не трогала обед. Может быть, ему не все равно. Потом меня стало рвать. Я страдала от того, что воду приносили только во время трапезы, и меня выворачивало на сухую.
Раз в сутки приходила пожилая дама – я подозревала, что не простая прислуга. Наверняка в ее обязанности входило шпионить за мной. Зачем это надо Хаугу или королеве, когда я и так полностью в их власти и лишена всякой возможности бежать или связаться с родными, я не думала. Просто мне тогда казалось опасным и враждебным любое слово и даже взгляд, исходящий от людей. Она купала меня, выносила ночную вазу, причесывала, иногда приказывала переодеть белье или платье. Чья это одежда я не думала.
Тянулись дни, недели, месяцы. Апатия сменялась яростью, затем снова отчаянием. И холод. Я все время дрожала, никак не могла согреться. Я сходила с ума от одиночества и тишины. Каждый день и ночь боялась, что Хауг придет и желала этого. Я все время о нем думала. То с ненавистью, то как о любовнике. То жаждала его сострадания, то мечтала о том, как зарежу его во сне, то о том, как мы помиримся, как он обнимет меня. Я прощу его. Как я прощу его?! Было ясно, что мы не сможем после этого ужаса жить ни вместе, ни порознь.
И он приходил иногда, но никогда не засыпал в моей постели и не ласкал меня. Отметившись как мужчина, Хауг молча уходил. Мы не разговаривали и не смотрели в глаза. Иногда мне казалось, что он жалеет обо всем произошедшем, но не может это прекратить. Не знает, что со мной делать дальше, не в силах прервать это злое наваждение.
Но я не могла его избавить от затруднения, потому что, к счастью, не имела ни ножа, ни яда.
А потом я увидела ее. Сначала просто как некое пятно, лишь чуть светлее окружающей тьмы. Я стала напряженно вглядываться в это…туловище в оборванной окровавленной сорочке без головы…Я так орала, что пришел отрок-охранник. Он велел мне замолчать, но я так безумно себя вела, так умоляла его не оставлять меня одну, что он сжалился и оставил мне зажженный масляный светильник. Он ничего странного, конечно, не увидел, и решил, что я лишилась рассудка. В дрожащем свете лампы я разглядела ее лучше. Нет, голова была, но как бы более прозрачная, едва различимая – растрепанные лохмы, закрывающие лицо. И она двигалась: отвела свои патлы, уставилась на меня немигающими темными глазищами и заговорила. Ее голос был словно скрип виселицы, словно скрежет ржавого от крови пыточного колеса, резкий, невыносимый. В комнате стало еще холоднее, как будто каждое слово нежити наполняло ее затхлым ледяным дыханием склепа.
– Ты жалеешь себя, молодая королевна? Плачешь о том, что этот обезумевший мальчишка убил в тебе? О том, что заперта во мраке и холоде? Но ты не принадлежишь ни своему мучителю, ни смерти. Солнечные лучи согреют тебя, и ты услышишь пение птиц. А то мягкое, слабое, сладкое и глупое, что было побито морозом, из самой твоей сердцевины снова примется в рост, как новый побег на живучем кустике розы.
Поплачь лучше о Хауге. Ведь вскоре он отправится долиной теней к обители вечного отчаяния. Вот там, в царстве Хель, немыслимый холод и беспросветный мрак.
Поплачь о нем, пока он живой… Для него теперь и день черен и ночь не приносит покоя. Он совершил, как я когда-то, деяние злое, непоправимое, противное человеческому естеству. Нарушил обещание, данное пред пламенем очага, над кубком вина…Такие дела прокляты и приближают конец мира.
Я хочу прикоснуться к тебе, молодая королевна, согреть у твоего сердца руки. За это я расскажу тебе все, что случилось со мной и случится с тобой. О конце мира и той последней надежде, отняв которую, король сам не ведая, подарил. О пророчестве на языке Богини, произнесенное вещей головой на Рорне больше столетия назад, перед Битвой. Хочешь узнать, что он дал тебе, отняв всю твою прежнюю жизнь, все наивные мечты? Ведь мне, как вельве, ведомо будущее.
Мгновенно она оказалась у моей постели. Я ощутила на лице смрадный туман, прикосновение к моему горлу ее тонких ледяных пальцев.
– Бренна! Проснись! Что ты, тихо, тихо… это же я… Ты проснулась? Все? Что-то приснилось, да, птаха?
– Отпусти! Не смей меня поднимать, ты спятил, Асмунд. Тебе и вставать нельзя.
– Вот и не будем вставать. Просто иди ко мне.
И он, не слушая моих невнятных и слабых протестов, отнес на свое ложе, укрыл. Поколебавшись, лег рядом, осторожно обнял – все-таки бедро болело. И взял мою руку в свою. Рука у него – сплошные мускулы и жилы, длань большая, жесткая, покрытая тонкими шрамами. Потом я узнала, откуда они: иногда в драке приходится голой рукой отмахнуть руку нападающего с кинжалом и отвести клинок – лучше порезать руку, чем получить проникающее ранение.
Я прошептала «отпусти», но хотела, чтобы никогда не отпускал. Его длинные сильные пальцы гладили мою ладонь, запястье…. Это было странно, немного стыдно …и хорошо. И я, попривыкнув к его близости и теплу, успокоилась. Я никогда еще не засыпала рядом с мужчиной, но вдруг совершенно бесстыдно прижалась, уткнулась носом в его плечо и сладко уснула.
Бер.
Утром я вернулся на двор, подоил корову и козочек. Потом решил замести за воротами свои ночные следы. Ни к чему девочку пугать.
Зашел в дом за котелком, сварить на завтрак каши, растопил очаг, а сам думал, что теперь делать. Бренна с Асмундом спали, обнявшись. Странно, почему Асмунд сказал, что она не его женщина. Наконец, я решил: раз оставаться им здесь нельзя, а Асмунд ранен, хоть и поправится скоро, я должен их проводить. И если сюда снова явятся люди Хауга, они не найдут ни живой души, а жечь покинутый дом – вряд ли захотят возиться. К тому же нужны деньги – надо продать скотину, все равно ее не на кого оставить, и купить удобный крытый возок. Женщина в нем сможет спать в лесу – все не на земле. Сейчас Асмунду трудно будет ехать верхом, потом Бренне. Раз брюхатая, скоро ей нельзя станет верхом скакать, с пузом-то. И хлеба в дорогу.
Так я все обдумывал, помешивал овсянку, и как-то вспоминалось, как я пришел жить сюда, как выстроил дом. Ведь я его с тех пор и не покидал.
Жил в шалаше, приближалась осень, мне позарез надо было закончить строительство до Самайна, но работа шла медленно. Худо мне было – каждый день приступы, потом слабость, тяжелая больная голова. Вместо того, чтобы валить деревья, я просто бродил по лесу, ел ягоды, спал.
Однажды забрел на Хребет. Такое мрачное место, но силы много – я сразу почувствовал: прямо затошнило и руки-ноги затряслись. Там росли огромные старые ели, мягкий сухой ковер покрывал под ними землю: ни гриба, ни травинки. Из-под корней самой раскидистой ели-королевы бил ключ – темный неторопливый ручей изгибался меж толстых корней, подобно ленивому змею. Мне захотелось пить. Я зачерпнул пригоршней – вода была студеная, вкусно пахла лесной землей, слегка горьковатая, словно ели придали ей привкус хвои. Хотелось еще. Я пил и пил, потянуло прилечь, закрыть глаза. Я словно потек вместе с ручьем, но в обратном направлении – по корням вглубь земли, сквозь мягкую почву, скользнул меж камней, потом падал, падал… Тут были сумерки, но видно: невысокие, острые серые скалы, меж которыми горели костры, сам свет которых казался мрачным…Тусклое, темное пламя, оно было очень горячим – здесь в недрах иным, чем мирный прирученный огонь, согревающий человеческие дома. Это было пламя первотворения, плавящее камни и драгоценные металлы, перемешивающее в раскаленном вихре ингредиенты сущего.
Он возник внезапно, наверное, просто вышел из-за скалы. В сущности, он не был карликом – невысокий рост компенсировался мощью корпуса: длинные мускулистые руки, коренастый, в его квадратной фигуре чувствовалась каменная тяжесть – кривые ноги словно врастали в землю после каждого шага. Этот боец расплющит любого врага одним ударом пудового молота. Такого, каким этот рыжебородый поигрывал, подкидывая в руке.
– Бьярки Гуннарсон? Интересно, что ты здесь забыл? В Свартальфхейме не водятся пчелы, птички и ягоды, которые ты так любишь.
– Здравствуй…
– Дьюрин. Но я не помню, чтобы мы тебя приглашали.
– Я просто захотел пить. Я уйду, если ты скажешь мне – как.
– Надеюсь, ты пил воду из ручья наверху? Не вздумай хлебнуть здесь этой темной водицы. Ну раз явился… Что это у тебя в руке за кочерыжка?
– Топор…Я должен рубить сосны, чтобы тесать бревна на постройку дома.
– Ерунда какая. Дай сюда!
И он, легким движением вынув плотно сидевшее топорище, сунул мой топор в пламя, а затем погрузил в черные воды ручья, произнося слова на Высоком наречии, которых я, разумеется, не понял, но, кажется, произносил он их как-то странно – отрывисто, от грубых гортанных звуков переходя на шипение. Я, правда, не знаю ни одного слова на языке Холмов, только слышал немного в песнях филидов, как люди повторяли. Только все равно так не может звучать Высокая речь. И держал он раскаленный металл голыми руками. Мне очень захотелось оказаться в другом месте…
Однако ничего худого не произошло. Он вернул мне мой топор целехоньким и показал тропинку со ступенями, ведущую вверх.
– Имя ему будет Скеггох. Годится для боя и для работы. Темляк можешь не привязывать, будет сидеть в твоей руке послушно и никуда не улетит, если ты сам его не метнешь, конечно. Из тебя получился бы неплохой кузнец – малыш Бьярки. Я бы взялся тебя учить. Но не к тому лежит твое сердце. Оно еще не набрало тяжести, недостаточно впитало горечи. Приходи, если в нем прибавится камня. Ищи липу на опушке, там испей – может выйдет прок, обретешь свое добро, как поется в песне одной валькирии.
И он исчез, а я начал карабкаться по крутым ступенькам. Очень долго поднимался – еле залез.
Потом заснул под елью и проспал и день, и ночь мертвецким сном. А утром нашел добрый сосенник и принялся рубить. Это стало так легко – лезвие топора срезало деревья как серп траву, да и силы у меня как будто прибавилось.
Вскоре дом был почти готов, я даже начал там ночевать. Осталось нарезать дерна на кровлю, и я стал искать ровную полянку, потому, что поблизости трава росла какими-то кочками. Березы начинали кое-где желтеть, воздух пах остро: грибами, осенними цветами, такими, что растут высокими желтыми метелками, а звезды сыпались каждую ночь с черного неба прямо мне под ноги, на протоптанную уже дорожку к дому, в полные дождевой воды лесные ямы. Эти, летящие в черноте сентябрьской ночи серебряные перышки, эти неуловимые вспышки вызывали почему-то странное болезненное волнение, желание плакать от непонятной тоски. Мне было грустно, хоть приступов падучей стало много меньше с той поры, как я побывал на Хребте. Днями я собирал и сушил последнюю малину, грибы да все надеялся найти дупло с лесными пчелами. Я наблюдал, как они садятся то на лесную гвоздику, то лезут в колокольчики или копошатся на последней герани или цикории и куда они, такие мелкие и черненькие, летят. И старался следовать за ними.
И вот однажды я понял, что вижу над своей головой крону той самой липы, о которой говорил мне в полузабытом сне Дьюрин. Пчелы всего леса устремлялись к ней – она была их дворцом. Я лег на мягкую мураву под липой и принялся смотреть вверх, сквозь зеленый трепет листвы. Солнечные блики на листьях сверкали, словно на морской зыби, голова была легкой, пустой и слегка кружилась. Я словно стал маленьким и полупрозрачным, как только выросший из яйца муравей и побежал вверх по стволу.
Кора липы под моими ногами была морщинистой и теплой, как щека старой женщины. Вскоре я добрался до самого верха и оттуда увидел весь лес, свой дом и неуклюжую тушу какого-то молодчика, лежащую в траве: «Да ведь это мое тело», – догадался я, и мне стало так смешно, что я тоненько захихикал, а огромные яркие птицы посмотрели на меня с опасным интересом. Я решил, что лучше спуститься поглубже в трещину коры. Над головой раздавался оглушительный птичий крик: «Вниз! Вниз!»
И я побежал вниз. Тут, под корой, было темно, зато обострилось мое обоняние и я услышал этот сладкий запах. Его источник был у самых корней – там бил родник, наполнявший небольшую ямку водой, подобной меду. Я прильнул к источнику и пил, и рос, рос… Тело мое наполнилось медвежьей силой, а в голове прояснилось.
Асмунд.
На следующий день Бер отправился в ближайшее село, продать корову. Бренна за мной ухаживала – славная она девочка. Приятно, знаете, валяться и принимать заботу: кормила меня похлебкой, перевязывала, не слишком, правда, ловко, опять поила каким-то настоем. Из нас двоих она больше нуждается в теплом отношении. Какая все же Хауг скотина, досадно, что не случилось его убить. Такая милая – сама больше помалкивает, верно, с детства приучили в монастыре, но любит слушать. При этом весьма не глупа. Что ж, если байки помогут приручить эту пугливую птаху – придется заделаться бардом. Птичкам надо петь, что поделаешь.
Ночью-то спала кое-как, присела рядом после обеда, говорит: «Что-то Бера долго нет. Протоплю сейчас, а то выстыло», а сама к стене прислонилась, и глаза закрываются – устала. Я подумал: « Вот сейчас проверим, получится ли», а сам чувствовал себя типом крайне коварным. Ну, в конце концов, наша дружба – залог спокойного путешествия. В ушах у меня все еще звучали слова старого Тэма: «Смотри, как бы не сбежала».
– Ты его не боишься, Бера?
– А что, надо бояться? По-моему он хороший. Это ведь он Бьярки и есть, да?
– И да и нет. Нам он друг, но вообще-то…
– Как это «и да и нет»? В каком это смысле?
– Он Бер. Если хочешь, расскажу всю историю до конца. Устраивайся, я подвинусь. И топить не надо, у меня одеяло теплое. Ночью же не замерзли.
– Я и ночью не должна была…соглашаться. Это…неприлично.
– Неприлично, если кто-то узнает, а мы никому не скажем. Ну, ты же устала. Просто полежи, а я тебе буду рассказывать. Эта история дальше похожа на сказку.
– А это, случайно, не сказка про колобка? «Сядь ко мне на носок, я тебе песенку спою».
– Значит, Бера ты не боишься, а меня…опасаешься? Слушай, птаха, я не люблю громких слов, но клянусь…своей удачей, что никогда тебя не обижу. Да мне и по статусу не положено. Ты – мать моего будущего усыновленного воспитанника. Поняла? Чем это так пахнут твои волосы?
– Это лаванда. Я выменяла флакон масла на гребень у служанки. От этого запаха меньше тошнит.
– Дивный запах. Вот так. Ну, слушай.
С тех пор, как Бьярки испил из чудесного источника, дарованного матерью-Липой, сила его прибывала день ото дня. Но, несмотря на то, что дом был построен, а чувствовал он себя с приходом первых морозцев все лучше, стало одолевать его непонятное беспокойство, какая-то смутная тоска, которая порождалась самим запахом леса. С таким трудом и желанием выстроенный дом стал словно и не нужен, а вот лес и тревожил и звал. Обоняние и слух обострилось, теперь он мог за триста шагов учуять запах мыши в сухой траве, а подойдя чуть ближе – услышать ее возню. Видеть же стал не хуже, а просто немного по-другому. Реальность словно развернулась, раздвинулась в звуках и запахах, во вкусах и телесных ощущениях, но утратила измерение слов и понятий – связность ее теперь была проявлена ему в чувствах. Тело иначе двигалось, иными стали его скорость, реакция, чувство равновесия, ощущения от внутренних органов. Но руки-ноги и отражение в воде были прежними…
Все это томило, Бьярки стал плохо спать. Очень хотелось сладкого, и он мечтал, что в мае, когда вылетят рои, снимет на волшебной липе рой-другой, смастерив ловушки.
Ты знаешь, как ловят рой, девочка?
– Нет. Но я хочу спросить, а как вы познакомились? Откуда ты все это знаешь, он тебе сам рассказал?
– Познакомились на дворе трактира, забавно. Он сидел, обалдевший от ярмарочного шума, жары и вони. Я предложил ему место в тени, принес эль. Потом было приключение, но об этом в другой раз расскажу. Когда мы отдышались, Бер сказал так: «Знаешь, парень, чем пчелы отличаются от людей? Ни одна пчела не важна сама по себе и ничего о себе не думает. Но рой пчел – разумное, сложное и прекрасное существо. Люди же по отдельности вроде как разумны и будто бы самостоятельны, но соберутся в человеческий рой и очевидно, что они отнюдь не обладают ни разумом, ни свободной волей. В них нет ничего приятного, и они не производят ничего нужного для этого мира. Меда поэзии от такого роя не дождешься».
– Бер такое сказал?
– Бывает, человек не тот, кем кажется на взгляд.
– А ты – тот, кем кажешься?
– Смотря, кем я тебе кажусь, птаха. Но, мы отвлеклись.
Однажды Бер проснулся до света внезапно – словно его кто в бок толкнул, от острого чувства тревоги. Он вышел на крыльцо, вдохнул пряный с горчинкой холод, посмотрел на лес – словно заглянул в черную купель, манящую и пугающую. Выпал первый снег. Такой ровный, пушистый, что жалко было оставлять на нем следы. Но он оставил. Это были следы огромного черного медведя.
– Ты хочешь сказать, что Бер – оборотень?
– Ну, да. Кстати, человеческое сознание не всегда полностью сохраняется. Никогда от него не беги, это верная смерть. Счастье или беда с ним приключились, только приступов падучей больше не было, прошли и слабость, и тоска, и головная боль. Медведем он становится редко и ненадолго, но, когда это случится и от чего зависит, сам не знает. Как только появляется предчувствие – раздевается и уходит подальше в лес.
Правда, рассказал об одном случае, из которого видно, что в момент наивысшего напряжения чувств, он может обернуться по собственному желанию, и часть человеческого сознания удержать, даже впав в ярость.
Весной Бер сплел из ивняка ловушки для роев и повесил их в кроне липы. Надо часто выслушивать их, проверять, а то влетевший рой может и вылететь обратно. Так он неподалеку сидел тихонько. К Липе пришли девушки с пирогами, бьером, украшали древо цветами, пели – Бельтайн же. Бер, конечно, волновался, что шумят, но ловушки-то вешают скрытно, чтоб никто не тронул. Собрались девицы уходить, а одна – нарочно отстала.
Как ушли подружки, стала девушка молить Липу об избавлении от злой доли. Хворала она, кашляла, а отец с матерью спешили ее просватать. Осенью готовили свадьбу, коль доживет. Не сильно ласково к ней относились в семье, бранили. А батюшка так и молвил: «Ты все одно помрешь, Марьон, а выкуп за тебя младшей сестре в приданое пойдет, жених-то щедр – еще лошадь купим. Ну и что, что тебе он не по нраву. Судьба твоя все одно – неминучая. Хлеба и так не в достатке, нетках и непрях кормить не с руки. А ты строптивая девка, не благодарная. За твои вопли высечь бы тебя, да боязно, что до свадьбы не дотянешь. Радоваться надо, что мужик-дурень от страсти сомлел и не видеть того не желает, что не хозяйка ты и не родиха».
Вот поплакала она, мать-Липу обнявши, а потом скрепилась и говорит: «Клянусь, мол, матушка при светлом твоем источнике, что больше ни куска хлеба не съем в доме родных своих. Пусть хлебом, зря переведенным на хворую, не попрекают. Все равно мне к Богине скоро».
Тут Бер потихоньку вышел, а девушка была так придавлена своим горем да обидой, что и не испугалась. Помаленьку он ее утешил, уговорил разделить с ним трапезу – не пропадать же пирогам и доброму элю. И не в родном она доме ест. Что тут говорить долго: они подружились, и стала Марьон приходить к Липе, чтобы встретить странного черноволосого лесного парня. Он ее все потчевал жареным мясом и медом, надеялся, что полезно ей.
– А охотится он в медвежьем облике?
– Да ведь, медведь-то, Бренна, лопает, что ни попадя. И овес молодой жует, и корешки всякие, и мышь тоже сгодится, и падаль, и крупных животных, да все, что схватит. Нет, на охоту Бер всегда ходит двумя ногами и с луком.
Ну, вот…Так они встречались в начале лета, но родные девушки быстро почуяли неладное. И решили окрутить поскорее. Заперли ее, а как она рыдала и билась, поучили все же плеткой, чтобы перед соседями не срамила.
Бер нашел их двор по ее следам. Надолго же те люди запомнили глухой низкий рев взбешенного зверя, что одним ударом лапы переламывает хребет взрослого оленя. Он, правда, никого не убил, ума хватило мужчинам не вставать у него на дороге. Сорвал Бер зубами добрый замок, Марьон села к нему на спину, и увез он ее вот в этот самый дом. Когда-нибудь внуки тех людей сложат сказку о девушке, увозимой на спине черного косматого чудища в дремучий лес. Только чудовищем– то в этой истории был не Бер.
– Они полюбили друг друга?
– Да, птаха. Только счастливы были недолго – одно лето… Марьон была с ним до середины осени и уже носила его ребенка, когда Хель ее забрала. Бер старался лечить, собирал какие-то травы, даже пытался найти ведьму, чтобы совершила сейд, но безуспешно. Вода из священного источника тоже не помогла. Тогда Бер смастерил большой короб и отнес ее, ослабевшую, в дальнее село к лекарке, которая обещала хотя бы облегчить последние страдания. Обратно нес в коробе уже мертвую, такие дела… Зато Марьон умерла у Бера на руках и узнала радость. И это лучшее, что могло случиться.
– Почему же Липа…
– Я думаю, что благая магия совершает лишь то, чему быть суждено, помогает человеку или зверю осуществить его судьбу. Но не переменить долю. Бер похоронил любимую по нашим старым обычаям, только пепел закопал в тайном месте в лесу и посадил в него семечко. Какое дерево выросло – он мне не сказал.
Ты что, плачешь, птаха? О них?
– Да, о них… И о себе.
– Что ж, поплачь, это надо. Иногда очень нужно оплакать то, что ушло или вовсе не сбылось. Поплачь хорошенько, как в детстве. Хотя, так мы уже и не умеем, как в детстве, сладко и долго плакать со слезами. А потом, как наплачешься, хорошо становилось, спокойно. Помнишь? Можно, я тебя обниму?
– Да.
Так она и уснула в моих объятиях с мокрым от слез лицом. Мне было чуточку стыдно – ну и коварство, достойное Локи. Ее мягкие волосы щекотали мне подбородок, я чувствовал теплое дыхание и запах лаванды. Рука затекла, я лежал, боясь ее потревожить, и слушал предвечернее пение птиц. Они гомонили на тополе, что рос у Бера во дворе, просто
орали. И я понял, на какую птичку она похожа – на пеночку-весничку, не яркую, но кругленькую, веселую, чье пение напоминает соловьиное.
Бер явился только наутро. Я как раз перебирал свой арсенал, прикидывая, что продать в первом же городе, а что пригодится самому. Ну, с моим– то лонгсвордом я, пока жив, не расстанусь. Имя ему Клайдеб по-гэльски. У большого мужа и все должно быть не малым. Набрал я трофеев, однако, это не радовало. Пара недурных кинжалов – один продать можно. Жаль, такой хороший гамбезон был у Арена, почти мне по росту и широкий – его можно и на кольчугу сверху надевать. Но что поделать – порублен и залит кровью, и снимать не стали. У Ислейва взял отменный скармасакс – нравятся мне его обоймицы для горизонтального крепления к поясу. Лезвием вверх крепится, так удобно выхватить с одновременным рубящим ударом. Но его, пожалуй, подарю Беру. Не надо жадничать. Эта штука и как тесак хороша, для бурелома всякого и кости перерубает легко – оленя разделать или другую крупную добычу – милое дело. Вот худо, что не удалось Беру хлеба купить и вообще крупы никакой. Мы-то с ним можем какое-то время одно мясо жареное жрать, а вот беременная наша девочка по хлебу заскучает. Затем, что мы имеем: меч Харалда – хорошо отбалансированный, с тяжелым красивым навершием в виде гладкого бутона. И гарда не маленькая, квитоны перекрестья сильно загнуты вперед – красивый, сталь хорошая… Деньги приличные можно бы выручить, да как его продашь? Кто купит в мелком городишке такой дорогой меч? Слишком уж приметный, вопросов, а то и неприятностей не избежать. Придется зарыть где-нибудь на дворе. Эти два – попроще сильно, но, если не особо дорожиться, можно предложить, ничего.
А этот клинок принадлежал Олаву. Олав…с ним я бы предпочел посидеть за чаркой бранвина, а не драться насмерть. Но, что ж, он выполнял свою клятву, я тоже, что требовалось. Вот у него – прям какой-то новомодный. Под одну руку, но достаточно длинный, чтоб, не слишком нагибаясь, достать пешего с седла; двойной дол тянется от эфеса до третьей четверти клинка – до точки удара, широкий, плавно сужающийся от гарды к острию, что служит отличной балансировке. И что мне особенно понравилось, что вот, хоть и не двуручник, а эфес длинный, кисть жестко не фиксирует. Я повращал – очень свободно, легко, позволяет использовать кистевые удары. И с локтя, либо со щита колоть им удобно. Такая красота кольчугу если и не прорубит – сделает противнику крайне, крайне неприятно… Словом, чудо просто. Себе оставлю, и имя ему будет… Вертлявый.
Бренна собрала мешочки с сухими травами, сидела бледная и печальная. По-моему ей нездоровится и на душе нехорошо. Бер взял туес с медом, пару бочонков хмельного, уложил одеяла, ложки и котелок. Хорошо, что удалось купить хороший крытый возок. Запрячь в него решили Зайку, Бренна будет править, а Бера все одно лошади не несут – боятся. Он и пешком не отстанет.
Пока я наслаждался своим оружейным богатством, Бер с чем-то возился на дворе. Вошел и говорит: «Вот, тетиву хорошую натянул. Смотри, что выменял в деревне у одного мальца. Пусть Бренна попробует, получится хоть от крыльца в тополь попасть?» И протянул, к моему удивлению, небольшой, почти детский, но ладненький такой лук. Я подумал, зачем ей стрелять из такой ерунды, кого из этого можно убить, кролика? Но Бер лицо сохранял серьезное, непроницаемое – верно что-то задумал.
Я позвал Бренну на крылечко и говорю: «Птаха, ты из лука стрелять никогда не пробовала? Хочешь, научу?» Показал ей, локоть придержал, и у нее действительно дело быстро пошло на лад, только силенок на нормальный лук было бы маловато, а с таким – ничего. Но я порадовался, что ее это упражнение хоть немного отвлекло от тоскливых мыслей.
Бер в это время принес целый тул длинных, но тонких и легких стрел с древками из ладанника или, иначе, скальной розы. Есть тут такой куст с ровными и прямыми ветками, редко только встречается. И горшочек с темно-зеленым вонючим варевом.
– Это кашица из корневищ и стеблей белой чемерицы, свежесобранной – весной она наиболее ядовита – пояснила мне Бренна, выслушав описание растения в исполнении Бера. – Если обмазать этим наконечники – достаточно, чтобы стрела поцарапала кожу человека или крупного зверя. При попадании яда в кровь смерть наступит, едва стрелок успеет до десяти сосчитать. Местные крестьяне так спасаются от волков, и даже детишки носят пузырек с этим отваром. Но есть животное, убитое таким способом нельзя, яд разрушается медленно.
– Бренна – говорю – ты хоть руками голыми отраву эту не трогай. Дурь какую-то Бер затеял.


