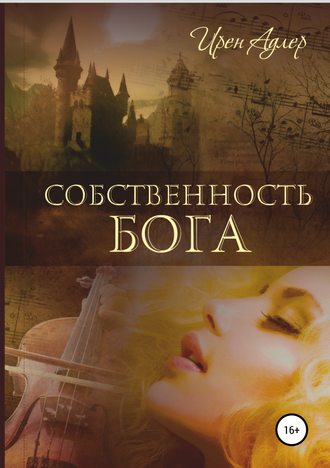
Ирен Адлер
Собственность бога
Вскоре меня уже изучали три пары сверкающих глаз, а три голодных рта жевали шляпки, ножки и перечные стручки. В конце концов я отдал и вторую связку с луком. Не из страха – страх к тому времени давно сменился странным возбуждением, – а из какого-то неведомого мне прежде любопытства. Они были так похожи на меня, будто отражение, только еще более жалкие и потерянные. Руководствовался все тем же звериным разумом, что управляет нашим телом без участия мысли. И этот разум требовал расстаться с добычей.
Моя следующая жизнь была недолгой. Я мало что помню, ибо те несколько недель, которые я провел на улице, слились в игольчатый серый сгусток. Париж осаждала осень. Шли дожди. Под ногами хлюпала зловонная жижа. А трое моих знакомцев с рыночной площади оказались посланцами Двора Чудес.
Двор Чудес – это королевство воров. Остров проклятых, к берегам которого прибивает тех, кто утратил надежду. Вотчина Альби. Не прояви судьба милосердия, та же участь ожидала бы и меня – стать ночной тенью. Мой неожиданный проводник, такой же сирота, как и я, привел меня к своему наставнику. Я вдруг оказался в мире еще более сумрачном и смрадном, чем тот, где обитал прежде. Мне доводилось видеть попрошаек и нищих, замечать мрачные, сосредоточенные лица в толпе, оглядываться, уколовшись о чей-то взгляд, но видеть этих ночных людей, согнанных в плотную, рычащую стаю, походило на те сны, что накрывали меня в самые тревожные ночи. Ярко горели костры, и люди в лохмотьях, в язвах, без рук, без ног неожиданно преображались. Слепые прозревали, безногие вставали, увечные смывали язвы. Потому и Двор Чудес. Я сам это видел. В первый же вечер, когда Томá, самый старший из моих проводников, привел меня к королю, я с ужасом и любопытством взирал на это превращение. Вот у слепца выкатились из-под век темные зрачки, и на меня уставились два здоровых глаза. Вот безрукий солдат, неловко подпрыгивая, высвободил свернутую за спиной руку. А безногий, сползая с тележки, вытянулся и уже блаженно потирал затекшие икры. Я засмотрелся и едва не упал. Томá пихнул меня. У костра сидел его наставник, хмурый худой мужчина. Томá кратко поведал о нашей встрече. Мужчина кивнул и указал куда-то в угол, в нагромождение корзин. Там, на соломе, а то и вовсе на камнях, расположились с десяток мальчишек, старше и младше меня. На самой внушительной тряпичной куче возлежал подросток лет пятнадцати. Он окинул меня равнодушным взглядом, остальные таращились злобно и недоверчиво. Все бледные, худые, немытые, с блестящими голодными глазами. Я примостился на самом краю старого полотнища, но кто-то выдернул его из-под меня, и я оказался на земле. Раздался хохот. Поднявшись, я попытался сесть на сломанную корзину, но корзину кто-то выбил ногой, и я вновь повалился на бок. Хохот. И вдруг я понял. Не словами, не разумом, а все тем же звериным сердцем – здесь будет то же самое. Спасения нет. Будут побои, голод и отчаяние. Однако совершить еще один побег я не решился. Не было сил.
Наставник, известный вор, обучал мальчишек своему ремеслу. Там, где ночью горел костер, утром появилось соломенное чучело в дырявом камзоле. Сверху донизу это подобие человека было увешано колокольчиками. В кармане камзола прятался кошелек, и кошелек этот полагалось извлечь, не потревожив крошечных стражей. Наставник поманил меня грязным узловатым пальцем и кивнул на чучело. Я в первое мгновение не понял, что означает этот кивок, боязливо косился на Томá. Втянул голову в плечи. Дабы внести ясность, наставник пнул меня ногой. Я приблизился к чучелу, взобрался на перевернутый бочонок и попытался нащупать кошелек. Пытался вспомнить, где у постояльцев гостиницы находились карманы. Наконец мне показалось, что я установил его местонахождение, протянул руку и… ближайший колокольчик тут же предательски звякнул. Дружный хохот, гиканье, свист. Меня стащили с бочонка и кто-то, кажется, тот подросток, презрительно бросил: «Смотри, как надо, растяпа!» И я смотрел. У него действительно получилось. Тонкая мальчишеская рука, как змея, нырнула в карман, и в торжествующей тишине он предъявил наставнику свою добычу. Тот одобрительно буркнул, указал на меня и сказал, что Томá должен взять меня с собой, чтобы я смотрел и учился. Тот недовольно поморщился, но ослушаться не посмел. После такого своеобразного урока ученики всегда отправлялись на промысел. Томá сказал, что, если я хочу есть, то я должен либо выпросить еду, либо украсть. Я сутки ничего не ел, и у меня в голове мутилось от голода. Само собой, я не смог ни выпросить, ни украсть. Первое было стыдно, а второе – страшно, несмотря на то, что товары валились с повозок прямо на мостовую. Я стал думать, не переночевать ли мне вновь под одним из прилавков. На рыночной площади торговцы оставляли мятые, подгнившие овощи. Мне тогда и в голову не приходило, что это влажное богатство уже стало собственностью здешних нищих, и попытайся я приблизиться к этой куче, мне размозжили бы голову. Но благодаря Томá я избежал этой участи. Он нашел меня там, где оставил, в дверной нише на улице Тюрбиго, и увлек за собой. Но прежде вытащил из-за пазухи еще теплый батон хлеба и отломил горбушку. Вернул долг. Кусок белого свежего хлеба. По всей видимости, он стащил этот батон прямо с прилавка. Я обеими руками ухватил кусок, вдохнул влажный, щекочущий аромат. Желудок едва не вытянулся до самого горла, обратившись в щупальце, но я не спешил. Я вдыхал и вдыхал, надкусывал, пробовал. Потом медленно жевал, и так же медленно, отслеживая собственное горло, глотал.
Пришло другое воспоминание, совсем свежее. Накрытый стол в гостиной. Фаршированный трюфелями фазан, плачущий сыр, прозрачный окорок. Все безвкусное, жесткое, будто из бумаги. А тот кусок из-под грязной рубашки, с запахом пота, я как будто ем до сих пор. Трапеза, сравнимая с пиршеством короля.
Но повториться ей было не суждено. На следующий день Томá был вновь отправлен за добычей, а я поплелся следом. В толпе на Гревской площади – там как раз зачитывали приговор двум мятежникам с Юга – я его потерял. И больше не видел. Тщетно я ждал его на нашем условленном месте у тумбы Нового моста, он так и не появился. Возможно, был схвачен за руку бдительным торговцем на площади и отдан стражникам или затоптан в толпе зевак. Стемнело. Я остался совсем один. Знакомство с Томá длилось чуть более двух суток, но за это время я нащупал связь с неким целым, пусть темным и смрадным, но частью которого я мог бы стать. Я уже не был гонимой песчинкой, я был опекаем. Обо мне заботились, пусть даже таким странным, уродливым способом. Но эта связь вдруг оборвалась. Без Томá я не решился вернуться к королю Альби.
Оставалось брести куда глаза глядят. Вновь ночевал на рынке, прятался от дождя под сломанным прилавком. В соломе удалось найти размякшую репу. Но с утра голод погнал меня дальше. Я и раньше никогда не ел досыта, почти смирился с вечным ощущением пустоты в желудке, но теперь голод стал нестерпимым. И еще эти запахи. Я бродил по улицам, а из распахнутых окон ко мне стекались густые, жирные ароматы. Они будто целились в меня. Когда человек сыт, он, вероятно, не замечает этих запахов. Но когда его терзает голод, эти запахи заполняют вселенную. Они становятся основой, формируют предметы. Мир вокруг будто состоит из еды. Солнце – это огромный круг сыра, крыши – хлебные корки, потолочные балки – длинные маслянистые колбасы. Кружево – это пар над котелком с супом. Стекло – расплавленный сахар. Я заглядывал в окна и видел людей, сидящих за столом.
Около одного окна я задержался. Уютно горели свечи. Полная женщина в белом чепце разливала по мискам луковую похлебку. Мужу, старшему сыну, среднему, двум дочерям и, наконец, сухонькой старушке, сидевшей у самого края. Стук черпака о край оловянной супницы. Мерный ход наполняемых и осушаемых ложек. Я приподнялся на цыпочки, ухватился за оконную раму и зачарованно смотрел. Я смотрел на мальчика со светлыми волосами, среднего сына, который был моим сверстником. Я будто пытался переселиться в него, влезть под его чистый суконный костюмчик и обжечь язык в этой густой, дымящейся жидкости. Вот я подношу ложку ко рту… вот губы мои охватывают круглое оловянное брюшко… вот зубы стукаются, а язык сметает кусочек мяса и волокна лука. Я держу этот нестерпимый жар во рту, а затем глотаю. И чувствую этот жар сначала в горле, а затем в благодарном желудке. Мое горло сократилось, я глотнул… Но ничего нет. Обманутый желудок дернулся, будто вскрикнул. Но оторваться я не мог, смотрел и смотрел. Кажется, так теплее. В комнате горел очаг, потрескивали дрова. Если я придумаю себя там, у закопченной решетки, мне станет теплее… И я придумал. Снова спрятался в теле светловолосого мальчика. Он уже покончил с супом и теперь ковырялся в пироге. У его ног прошла кошка. Он пнул ее. Я подтянулся чуть выше, чтобы видеть, что произойдет дальше, но тут полная женщина повернула голову и посмотрела в окно. Увидела меня, мое бледное расплющенное лицо. Облик сменился мгновенно. Вот только что хлопотливая, нежная мать, круглое лицо сияет радостью и довольством, и вдруг она щерится, как волчица, разевает пасть, замахивается черпаком… Я бросаюсь прочь.
Так близко к окнам я больше не приближался, смотрел издалека.
Глава 16
Герцогиня давно заметила этот парадокс. Чем меньше люди едят, тем больше они производят детей. Самые бедные семьи кишмя кишат неумытыми голодными отпрысками. Иная мать, сама шатаясь от истощения, тянет за собой вереницу младенцев, а в чреве зреет еще один. Но почему? От невежества? От животной глупости? Но животные, согласно рассказам королевского егеря, не столь безрассудны. В неурожайные годы, когда оскудевают луга, когда урожай желудей ничтожен, а лесные ягоды становятся наградой, число новорожденных зверят сокращается. Животные своим бессловесным разумом осознают, что потомство будет обречено на гибель среди засыхающих деревьев. Звери заботятся о своих щенятах. Без грамоты и философии, без проповедей и религиозных воззваний они стремятся к уменьшению страданий. Почему же люди, претендуя на божественное родство, на обладание разумом и душой, так безнадежно слепы? Почему они так безжалостны к своим детям?
* * *
Кажется, что люди разнятся между собой по множеству признаков. Они верят в разных богов, говорят на разных языках. У них разные мечты, разные привычки, несхожие вкусы. Одни рождаются на вершине, другие – внизу. Они мужчины или женщины, взрослые или дети. Есть тысячи различий. Рост, походка, цвет глаз. И все эти различия весомы и осязаемы. Служат нам неопровержимым доказательством нашей самости. Мир состоит из разных, между собой несхожих людей, и у каждого своя судьба, своя линия жизни. И что может связывать нас, столь разных? Кто осмелится утверждать, что это слепящее разнообразие – всего лишь обман? Что видимое разнообразие ложно? На самом деле все не так. Нет высоких, толстых, угрюмых, болтливых, веселых, умных, ленивых, злобных, знатных, нищих. Нет мужчин, и нет женщин. Нет детей. И нет стариков. Никого нет. Есть только башмаки и ступени. Больше ничего нет. Все остальное – сон. Блаженная ложь. Ступени простираются под башмаками. Башмаки попирают ступени. Пока ты ребенок, каждый, кто чуть выше ростом и крепче стоит на ногах, для тебя – башмак. Но как только ты вырастешь, обретешь силу, нарастишь кулак, то найдешь того, кто станет твоей ступенью. Так оно и идет. Мир – будто огромная лестница. Живая лестница из людей. Сильный стоит на плечах слабого. А над этим сильным возвышается еще один, более сильный. А над тем – еще один, и так до самой вершины. Каждый одновременно и перекладина, и башмак. Я вспомнил того подростка, что согнал меня с холстины, когда я впервые оказался в королевстве Альби. Для наставника он – маленький порожек внизу, о который всегда спотыкаешься (я видел, как тот бил его – без злобы, лениво, согласно установленному порядку), ступенька он и для других взрослых воров, и для старого попрошайки на углу, и для хитрого рябого прево, что являлся за данью, и для стражников, и для лакеев, но для нас, худых, голодных мальчишек, для двух сироток лет пяти, он – башмак. Из нас он соорудил свою лестницу. У перекладины нет выбора. Она должна превратиться в башмак. Должна найти свою ступень, свою перекладину. Иначе не выжить. Если не хватает силы рук и ростом мал, то действуй хитростью и обманом. Если нет денег, то кради. Бери терпением или умом. Или выносливостью. Вероятно, мне удалось бы выжить. Я был терпелив и вынослив. Безропотно ел жидкий суп у мадам Гранвиль, таскал воду в гостинице мэтра Эсташа. Я прижился бы и в королевстве Альби. Обрел бы ремесло. Стал бы грабителем или ловким вором, своего рода сильным, и обзавелся бы слабым. Выжил бы и на улице, прибившись к одной из многочисленных банд. Обратился бы в ступень для чужой лестницы, а со временем взобрался бы на свою. Но вмешалась судьба. Неожиданно, как бесцеремонный хирург.
После очередной ночи на промокшей соломе я обнаружил, что не могу встать. Руки и ноги налились свинцом, голова кружилась. Но не встать я не мог. Вскоре придет хозяин и прогонит меня. Еще и сапогом угостит. Я почти ползком пересек улицу. Накануне вечером я перебрался с правого берега на левый, в Латинский квартал. Я уже побывал здесь двумя днями раньше, и какой-то студент в дырявом плаще поделился со мной куском сыра. В Латинском квартале было много студентов. Много шума, много маленьких винных погребков. Там меня не гнали прочь и даже швыряли мелочь. Но Латинский квартал я знал плохо и ночевать возвращался обратно, к Центральному рынку. А тут решился провести ночь по ту сторону Сены. Там тоже были торговые улочки, разбегавшиеся, как ручейки, от площади Сорбонны, и на этих улочках оставались прилавки. Я выбрал место посуше и попытался заснуть. Уже с вечера чувствовал озноб и боль в горле. Чуть пониже горла поселилась странная болезненная щекотка. Хотелось кашлять. Слезились глаза. Но я подумал, что это всего лишь усталость. За ночь я отдохну, и щекотка исчезнет. Я снова смогу дышать. Ночью мне снилась огромная балка. Она упала с крыши и давила на грудь. Я просыпался, ворочался, засыпал и вновь чувствовал ее тяжесть. А утром мне едва удалось встать. Меня шатало, ноги были ватные, душил кашель.
«Я умираю», – мелькнуло у меня в голове. Но было не страшно. Мысль была привычной, как «я хочу есть» или «мне холодно». Я ничего не знал о смерти. В детстве смерть – это всего лишь слово, даже если встречаешь ее на каждом шагу. Дети, подобно животным, не осознают и не боятся смерти. Их страх не обретает имен. Их разум молчит. Сражается тело. Я чувствовал, что лишаюсь сил, что тело мое в огне и в глазах темно, но связать воедино недомогание и надвигающуюся опасность не мог. Надвигалось что-то подавляюще огромное, от чего полагалось спасаться. Но что это было? В нескольких шагах от меня была церковь, маленькая, почти часовня. Прежде я не замечал ее, даже избегал. Как и других церквей и часовен. Они были грозные, молчаливые, с острыми башнями, с которых время от времени, будто огонь небесный, обрушивался набат. Из обитых железом дверей выходили люди в длинных темных одеждах. Они напоминали мне нашего кюре. Я помнил его рассказы о грешниках, о геенне огненной и потому бежал от этих людей. Мне представлялось, что именно там, за этими высокими дверями, по указке этих людей в рясах, Бог и вершит свою расправу над грешниками. Потому и гремят колокола на башнях. А тут по непонятной причине почти в беспамятстве я поплелся к дверям часовни, будто признавал свой грех и желал расплаты. Помощи я не ждал. Я тогда ни от кого не ждал помощи, ибо мир ни разу не позволил мне даже предположить, что помощь возможна. А как поверить в то, чего нет? Оттого и причин моего поступка мне не понять. Вмешательство судьбы? Голос свыше? Не знаю. Но это случилось. Я добрался до ступеней, влез на самую верхнюю и прислонился к стене. Дальше идти не мог. Дурнота усилилась. Дышать было трудно. Я был один. Посреди огромного города. Грохотали повозки, переругивались, хохотали люди. Их было много, и все же я был один. Люди, экипажи, лошади, собаки – это мираж. Потому что на самом деле их нет. Они не существовали, а я не существовал для них. Внутри меня полыхал огонь, тело пожирал озноб, боль звенела, но меня никто не слышал. Я был заперт в пустоте. Огромный, равнодушный мир и тысячеглазое небо над головой. Я свернулся клубком на холодных плитах. Слез не было. Да я и не привык плакать. Если падал, сбивал колени, слезы катились из глаз, но я быстро справлялся. В пустыне до слез ребенка никому нет дела. А если дать им волю, станет только хуже. Невыносимое, горькое теснение в груди.
Я не плакал, я чего-то ждал. Ждал, когда звуки окончательно стихнут, и свет угаснет, и станет тихо. Все кончится. Я услышал еще один звук, уже в темноте. Распахнулась дверь… Но этот звук стал последним.
Из часовни вышел отец Мартин, один из тех людей в длинных, темных одеждах, которых я так боялся. Он нашел меня на ступенях, и я выжил. В той пустыне оказался еще один путник. Он взял меня за руку и вывел к свету.
Почему я вспоминаю об этом? Почему именно сейчас, здесь, в этой темной галерее, на холодной скамье? Почему не думаю о хорошем? Почему не пытаюсь перейти эту ночь по светлым островкам выпавшего мне счастья? С тех пор прошло более десяти лет. Счастливых лет. Отец Мартин вырастил меня, как родного сына. Он излечил мое сердце, разбудил душу. Он научил меня верить. Жизнь была трудной, но радостной, полной надежд. Радость познания, радость любви. Первый поцелуй Мадлен, первый крик нашей дочери. Почему я ничего не помню? Я пытаюсь увидеть их лица, но это всего лишь плоские, равнодушные картинки. Это было не со мной. Ничего не было. Есть только каменная плита на церковной паперти. И такая же жесткая, холодная скамья. Круг замкнулся. Та же пустыня и то же безмолвствующее небо. Оно подглядывает за мной своим большим, серебристым глазом. Но ему даже не любопытно. Ни жалости, ни удовольствия. Только скука.
Глава 17
Она уснула. Вместе с сознанием угас и гнев. Она уже не помнила, за что разгневалась на него. Была какая-то неловкость, щемящее несоответствие. Она потерпела неудачу, но на рассвете с трудом могла осознать, в чем совершила промах. Воспоминания были другими. Сладкими. В теле все еще сохранялась теплая эйфория, эхо познанного блаженства. Как же она была слепа, невежественна! Она столько лет отрицала эту дарованную привилегию, лишая себя цветения жизни. Она ошибалась. Ее просчет состоял в неправильном выборе, ибо прежде она выбирала мужчин, как модные ткани, тех, кого одобряет молва и принимает двор. Истинный выбор она себе запрещала, как будто не доверяла или стыдилась. Теперь все изменилось. Теперь все будет иначе.
Она видела горящие солнечные пятна на золотых кистях полога. За окном зеленая дымка еще влажного от росы леса. Вероятно, это красиво. У нее возникло желание вскочить, вот такой как есть, без единого лоскутка пристойности, и подбежать к окну, отбросить портьеру, чтобы робко протиснувшийся в узкую прорезь день обрушился бы на нее, как ливень в первый день потопа. Последний раз она испытывала нечто подобное, это радостное ожидание, на заре юности, когда в невежестве своем воображала жизнь чередой праздников и триумфов, а себя их участницей и устроительницей. В юности раскинувшаяся впереди жизнь, с ее гирляндой дней и ночей, с ее годами и десятилетиями, которые несут в себе тысячи открытий и свершений, представлялась ей лежащей у ног волшебной долиной, этаким непременным раем, куда достаточно спуститься по узкой каменистой тропе мелких ошибок. И там, в этой долине, с первым же шагом начнут происходить чудеса. Будет восторг, будет блеск, будет огонь. А она будет ступать по брошенным ей под ноги золотым цветам в сиянии славы и красоты.
Каждый рожденный на этой Земле проходит через ожидания и надежды юности, через трепет нетерпения, но далеко не каждый так быстро исцеляется. Ей повезло, она исцелилась быстро и уже давно не страдала от того, что жизнь оказалась вовсе не волшебной долиной, где цветут сады, синеют реки и по белым тропинкам бродят единороги, а лабиринтом вонючих городских улиц, где по утрам находят ограбленные посиневшие трупы, а по вечерам бродят осипшие от вина непотребные девки. Она не страдала от утраченных иллюзий, ибо сразу признала разочарование как данность, а, пробудившись, выстраивала свой день, как столбцы цифр, чтобы правильно оценить возможную прибыль и принять убытки. Это было скучно, тоскливо, но разумно!
Ее что-то мучило, какая-то несообразно колкая мысль, шершавая и угловатая среди гладких и мягких. Она в чем-то ошиблась. Или это не она? Но приниматься за эту отступницу-мысль она не хотела. Она хотела насладиться покоем, блаженной усталостью, которую дарует лишь удовлетворенная женственность. Ее постель впервые за долгое время была согрета мужчиной. Подушка и смятые простыни давно остыли, но красноречивый беспорядок свидетельствовал о его присутствии. Она вспомнила, как совершила почти девически-смешной ритуал – заняла его место за столом в кабинете епископа, ладонями прильнула к подлокотникам, будто пыталась удержать невидимый фантом. Несколько часов спустя ей было стыдно самой себе в этом признаться. Какая сентиментальная слабость! Она уподобилась тем экзальтированным девицам, которые почитают за счастье стать рабыней мужчины. Как глупо она, должно быть, выглядела! В очередной раз упрекнула себя и тут же перебралась на ту половину кровати, которая несколько часов назад служила ему пристанищем. Вытянулась на спине и закрыла глаза, пытаясь всем телом уловить полустертые, остывшие контуры. Еще одна бессознательная попытка пленить и подчинить неизвестное, захватить сам его образ, будто сохранившиеся очертания, вмятина на подушке могли бы дать дополнительные знания, открыть его тайну.
* * *
Все повторяется. Жизнь – это лабиринт, по которому неумолимо возвращаешься к первому повороту.
Луна уходит, и за окном синеет. Небо становится прозрачным, звезды бледнеют и гаснут. На другом конце галереи шаги. Мелкие, торопливые. Шум накрахмаленных юбок. Женщина… Я вижу ее. Это Анастази. Она идет сюда не случайно. Она ищет меня. Прямая, хмурая, бледная. Волосы высоко собраны на затылке. Я невольно подаюсь назад. Она служит врагу. Позыв спрятаться, отползти. Но почему? Все это время она даже заботилась обо мне… Мой исколотый разум молчит, в ожидании только тело. Что ей нужно от меня? Но она не приближается, только делает знак и манит за собой. Колени не разгибаются, пальцы омертвели. Я похож на человека, который полночи провисел над пропастью, ухватившись за перекладину лестницы. Чтобы не сорваться, он боится пошевелиться. А теперь, когда пришла помощь и ему надо всего лишь протянуть руку, рука не слушается… Наконец мне удается встать. Анастази терпеливо ждет, лицо ее неподвижно, но глаза горят. Она берет меня за руку и уводит, как заблудившегося ребенка. Я будто пьян. Ночь без сна, долгие часы изматывающей тревоги.
Она приводит меня обратно к той комнате, где я провел предыдущий день. На пороге спит рыжий парень. Шумно дышит во сне, будто внутри у него не легкие, а кузнечный мех. Анастази, не церемонясь, тычет его ботинком в бок. Он сразу просыпается и ошалело моргает. У него редкие, бесцветные ресницы…
– Теплого вина, – приказывает Анастази. – И затопи камин.
Парень бросается исполнять. Анастази усаживает меня в кресло, накрывает пледом. Озноб возвращается. Там, в галерее, я уже не замечал холода. Я замер и позволил ему овладеть собой, стал его частью. Я уподобился тем крошечным водным счастливцам, что с наступлением холодов погружаются в сон. Кровь течет медленнее, и сердце сокращается в полудреме. Но с первым шагом мое тело вернулось к жизни, и я вспомнил эту дрожь. Она не оставляет меня, хотя Анастази почти сразу принуждает меня сделать глоток вина. Я слышу, как мои зубы выбивают дробь о стеклянный край.
– Позови Оливье, – не оборачиваясь, приказывает Анастази.
Она садится напротив и не сводит с меня глаз. Потом встает и касается ладонью лба.
– Похоже, у тебя жар. Ничего удивительного. Ночь на сквозняке…
Появляется Оливье со своим неизменным кожаным мешком. Тоже щупает мой лоб, находит пульс, заглядывает в глаза. Затем роется в мешке. Раскладывает на столе снадобья, смешивает, разводит, добавляет вина и тоже заставляет выпить. Жидкость густая и сладкая. Он еще раз заглядывает мне в глаза, пальцами давит под подбородком и спрашивает, не больно ли мне глотать. Я мотаю головой.
– Плотный завтрак – и спать, – бросает он. – И пусть спит до вечера. Не будить, не тревожить. У этого парня слишком тонкая кожа.
– Что? – переспрашивает Анастази.
– Кожа, говорю, тонкая, – брюзгливо, дергая щекой, повторяет он. – Вот у этого, – он, не глядя, тычет пальцем в сторону Любена, – кожа, как хороший доспех. А у этого, – лекарь делает движение ко мне, – считай, ее вовсе нет.
– И… что это значит?
Лекарь собирает порошки и настойки.
– Что значит? А то и значит, что чрезмерно хлопотать не придется. Скоро все кончится…


