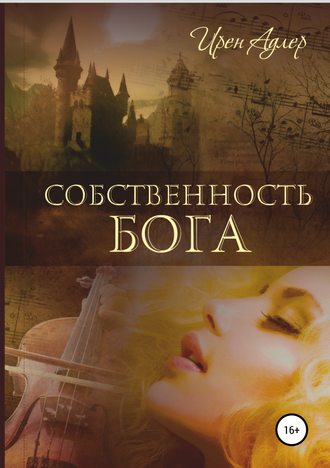
Ирен Адлер
Собственность бога
Глава 10
Его кожа останется гладкой, нетронутой. На ней все так же зазывно будут плясать тени, то скрывая, то подчеркивая совершенство линий. Он по-прежнему желанен, цвета золотистого плода, с черным шелком спутанных волос, в переплетении натянутых жил и связок. Но где-то в глубине его разума, за туманом зрачков, происходит черная работа, где-то иглы вонзаются, извлекаются, смачиваются кровью и вновь погружаются в эфирную плоть, где-то проступает несмываемый, неизлечимый рисунок.
* * *
Его давно нет, а голос все звучит. «Нет у нее никакой головной боли». Как же это? Зачем же тогда она посылала за ним? Прихоть? Каприз? Не пожелала воспользоваться услугами Оливье? Так бывает. Знатные дамы не доверяют чужим врачам. Их удерживает природная стыдливость. Врач, как и духовник – хранитель тайн. Он свидетель и участник самых важных событий – рождения и смерти. Ему поверяют стыд. Врач видит своего пациенты разоблаченным, без покровов, в первородном грехе. Женщине допустить это трудно. Жанет д’Анжу, безрассудная и отчаянная, может оказаться стыдливей монастырской затворницы, для которой нет испытания мучительней, чем доверить свою тайну мужчине. Она почувствовала себя дурно и послала за своим врачом. Это естественно. Но почему Анастази говорила так странно? Голос у нее прерывался. И фразы звучали как заученные. Она притворялась, но готова была шумно выдохнуть и признаться. Что она скрывает?
«Нет у нее никакой головной боли. И не было».
Но если не было, то зачем? Зачем Жанет посылала за своим лекарем? Не затеяла же она все это ради меня?! Я качаю головой в ответ на собственные мысли. Какая самонадеянность! Чтобы знатная гостья пустилась ради меня в такие рискованные хлопоты! Инсценировать собственную болезнь, отрядить гонцов, убедить Анастази… Нет, это невозможно. Ради чего? Это было бы объяснимо, будь я тайным наследником престола или обладателем сокровищ. Но я – всего лишь чужой любовник. Тогда зачем? Заслужить благодарность сестры? Это не так уже невероятно, как может показаться. Жанет вернулась во Францию после многолетнего отсутствия, она здесь чужая. Поддержка сестры, Клотильды Ангулемской, означала бы лояльность королевы-матери и партии принцев. Оказав небольшую услугу, вылечив меня, Жанет получила бы право на дружеский прием, ее признали бы равной. Я не могу объяснить ее неожиданную любезность по-другому. Нет у меня аргументов в пользу другой версии… Если только… Но это и вовсе невероятно! Она меня… пожалела? Меня, безродного, жалкого узника, пожалела знатная дама. Пожалела женщина, которую с герцогиней связывают кровные узы, дочь того же венценосного отца, почти двойник, копия. Поверить в это все равно что поверить в чудо. А я давно не верю в чудеса. Так же как не верю в Бога. И вот мне снова предлагают поверить в воскресение Лазаря, подойти к пещере и отвалить камень. Забавно. Что же это получается? Жанет д’Анжу, разыгрывая спектакль, спасает меня от мигрени? Она или сошла с ума, или… или… Не знаю, что «или».
Если она притворялась, то мастерски! Я помню ее нежные, теплые пальцы, ее встревоженный взгляд; помню, как она склонялась надо мной, как шептала слова утешения… И мне становилось легче, честное слово! Я мог оказывать сопротивление, мог дышать. Я слышал стук ее сердца, прямо над головой, как слышит сердце матери нерожденный младенец. Я не мог ошибиться, и она не могла сыграть так искусно. Да и зачем ей было играть? Ни просьбы, ни угрозы, ни выгоды. Она могла отступить, брезгливо подобрав юбки, и дожидаться рассвета в стороне. Но она предпочла разделить это со мной, спустилась по той же лестнице и удерживала на самом краю. Но зачем? Я не понимаю… не понимаю. Если нет заговора, нет первоначального плана, то… Ах, что же я голову ломаю! Да просто все – она позабавилась. Оказалась в доме успешной, самоуверенной родственницы и обнаружила красивую игрушку. Чем не начало сюжета? Да и средство обмануть ревнивую сестрицу нашлось – моя очень кстати пришедшаяся болезнь. Осталось подослать переодетого доктора. Или даже обрядиться в этот костюм самой. Чем не сюжет для уличного театра? Герцогиня Ангулемская в роли рогатого мужа, надутого, важного доктора права, Анастази – Смеральдина. Липпо, разумеется, – Бригелла. Любен – Труффальдино, а я… Кто же тогда я? Тут выходит небольшая путаница. Согласно законам жанра у профессора права есть юная супруга, Лючинда или Джульетта, которую он отчаянно ревнует. У супруги тайный воздыхатель. Всеми правдами и неправдами он пытается проникнуть в дом, где ревнивый муж прячет свое сокровище. В ход идет подкуп, переодевание, сонное зелье и, в конце концов… В конце концов ревнивый тиран обманут, и влюбленные соединяются. Но в нашей пьесе все поставлено с ног на голову, я выступаю в качестве приза, а сеньор Панталоне – в женском обличье. Воображаю герцогиню в судейской мантии, в черной скуфейке и помимо воли начинаю смеяться. И хохочу все громче. Она позабавилась, но как изящно, как ловко. Псевдоученый доктор права, надутый и важный. Рогоносец. На звук моего смеха появляется Любен и таращится на меня с испугом. Как же он соответствует своей роли! Сеньор Труффальдино. От смеха не могу вымолвить ни слова. Любен бросается ко мне.
– Сударь, вам плохо? – С чего ты… взял? Наоборот! Нет, нет, я не спятил. И рассудок мой в полном порядке. Я всего лишь вспомнил одну пьесу, итальянскую… Ее как-то давали на ярмарке в Сен-Жермен. Живо так представилось. На тебя взглянул и подумал… Одним словом, напомнил ты мне одного малого.
Любен только растерянно взирает. Наконец, отсмеявшись и отдышавшись, я делаю ему знак приблизиться.
– А что там у мэтра Ле Пине к обеду? Сгораю от любопытства.
Глава 11
Эта мраморная беседка, возведенная некогда флорентийским зодчим, прибывшим ко двору короля Франциска, погибла, скорее, по неосторожности, чем по злому умыслу. Конфлан, некогда построенный Гизами, принадлежал герцогу Майенскому, который вступил в сражение с королевским войском. Рассказывали, что в той беседке, предназначавшейся для влюбленных, держали бочки с порохом. Кто-то поджег фитиль. Резиденция мятежного герцога ущерба не понесла, а вот беседка, приют поэтов и любовников, погибла. От нее осталась одна-единственная колонна в дорическом стиле, примыкающие к этой колонне три ступени и небольшая часть отшлифованной мраморной площадки с обломком скамьи. Ни один из последующих владельцев замка не позаботился снести эти руины окончательно. Точно так же ни один не предпринял обратного действия, не отстроил беседку заново. Так и торчала эта единственная колонна, будто укоризненно возведенный перст. Поврежденные взрывом обломки затягивал дикий виноград, как новорожденная кожица затягивает рану. У подножия колонны разрослась жимолость, розовел своими невзрачными цветами, а затем поблескивал оранжевыми плодами дикий шиповник. Клотильда, подобно своим предшественникам, так же не обращала внимания на эти развалины. Первый, кого привлекли мраморные останки, был Геро. В теплое время года он часто устраивался там с книгой, скрываясь в тени колонны от избыточных ласк полуденного солнца, или находил там защиту от порывов ветра. Возможно, в этих развалинах, по-своему величественных, он находил сходство со своей жизнью. Нечто такое же невосполнимо утраченное, иссеченное, разбитое, под стыдливо цветущей мантией, и неуловимо прекрасное.
* * *
Я надеюсь, что Липпо навестит меня еще раз, но его нет. Вместо визита он передает мне через Любена какие-то порошки, которые я должен принимать на ночь, и записку. В ней он рекомендует мне совершать часовые прогулки на рассвете. Почему на рассвете? Почему не перед сном? Вновь таинственная восточная мудрость? Впрочем, при сложившихся обстоятельствах это лучшее время. Замок полон гостей, и мое появление в парке вряд ли останется незамеченным. К тому же Любен не выпустит меня днем. У него приказ. Ее высочество не желает, чтобы я привлекал к себе внимание и служил темой для разговоров. Предпочитает держать нашу связь в тайне. После нашей поездки в Лувр она уже не мечтает о триумфе зависти. Скорее наоборот, пытается упрятать меня как можно дальше. Будто я не победа, а главная из ее ошибок, свидетельство поражения. Один мой взгляд – непоправимый урон для репутации непобедимой Цирцеи. Одним словом, мне не следует кому бы то ни было попадаться на глаза. Начало дня, первые сумрачные часы – самые подходящие для пленника. Весь замок спит. Гости, после ужина и танцев, долго не покидают своих спален. Их примеру следуют утомленные слуги. Только кухарка на цыпочках спускается вниз, чтобы развести огонь. С ней заспанный, взъерошенный поваренок. Воду и съестные припасы доставили накануне вечером, чтобы на рассвете не тревожить благородных постояльцев стуком колес. Я сам, без совета Липпо, предпочел бы это время, не решился бы стать действующим персонажем пьесы. Нет нужды ужесточать надзор и прятать меня в тень, я сам – ее порождение.
Почерк у Липпо корявый, прыгающий, будто птичий. Так и вижу его огромную длиннопалую пятерню с утонувшим в ней пером. Он держит его всей горстью, вывернув ладонь набок. В слове «прогулка» у него две ошибки. «Прэгулга». Меня это забавляет, как неуклюже подрисованная рожица или тайный дружеский привет, скрытый в чопорном рецепте. Что ж, прэгулга так прэгулга. Советом пренебрегать не стоит. Я не покидал комнаты с момента появления гостей. А мне, как узнику, положены прогулки. Вот я и воспользуюсь правом. Любена я не предупредил накануне, и он самозабвенно храпит поперек двери в гостиную. Я переступаю через него и крадусь к черной лестнице. По ней я спущусь на кухню, где кухарка уже согрела воду. Там умоюсь и съем кусочек запеченного яблока с ореховой крошкой. Их вчера подавали на десерт. Любен сетовал, что почти ни одного не осталось, но старая Эсфирь всегда прятала для меня лакомства в буфете. Не уверен, что она позаботилась обо мне и на этот раз, но поманить себя среди дремы и влажной осенней прохлады очень действенный метод. Я и прежде так делал, в бытность свою студентом. Выдумывал на рассвете, когда день подкатывался мукой, какой-нибудь приятный, легко достижимый приз, вывешивал его, как морковку, и бежал за ним, невзирая на холод и замерзшую в тазу воду. Чаще всего это была свежеиспеченная хрустящая вафля или слоеная трубочка, свежий аромат которой доносился из ближайшей лавки. Я выскальзывал из-под одеяла, взламывал ледок и, невзирая на дрожь, укрощал влажным полотенцем разнежившуюся плоть. Зуб на зуб не попадал, но я дразнил себя сдобным видением и чувствовал на языке почти липкую ванильную сладость. Если в кармане находилась мелочь, видение обретало вкус, форму и тяжесть в желудке. Я чувствовал себя вознагражденным и отправлялся дальше, по часовому кругу, почти счастливым. Если же мелочи не находилось, я перемещал видение в следующее утро и там уж клятвенно обещал себе награду. Здесь на роль утешительного приза, приманки для будущего, мало что годилось. Пресная вафля более не имела той ценности, которую ей приписывал невыспавшийся студент, мне необходим был другой приз, сладость, которой я уравновесил бы предстоящий день. Утро, если его подсластить, уже не пугает. И день за ним прокатится незаметно. Я не думаю о том, что будет дальше, не воображаю длинный вечер в ожидании герцогини, я вижу только укрытый под серебряной крышкой запеченный, в медовом сиропе, плод. Я найду его в потайном месте и угощу тоскующий рот. Запеченных яблок не нахожу, но на полке в буфете, там, где условлено, сливовый пирог, фруктовое желе и тягучий засахаренный дягиль, доставленный из монастырей Пуату. И вода уже согрелась.
Осеннее утро негостеприимный хозяин. Хмурится в ответ на приветствие, клубится промозглым туманом. Листья за ночь отяжелели и уже не блестят – умирают. Я тревожу их башмаками, переворачиваю, приминаю, но они поддаются без хруста, как отсыревший ворс ковра. Часть их еще крепится на ветвях, но уже поникла и готова сдаться. Цвет – позолота со ржавчиной. Я обхожу пруд, темный, с теми же бурыми лиственными трупиками на поверхности, и отправляюсь мимо цветника в буковую аллею. Она почти не просматривается из замка. Даже сейчас, когда листья уже опали, ветви деревьев переплетены так густо, что разглядеть что-либо из окон почти невозможно. Скоро станет светлее и кто-нибудь подойдет к окну. Но различим лишь силуэт. Слева от меня вроде каменного цоколя с колонной. Это остатки павильона, который был разрушен испанскими наемниками герцога де Гиза в 1585 году. Ее высочество, получив Конфлан в качестве приданого, почему-то не позаботилась о восстановлении этого грекоподобного сооружения, и на его месте осталась только одинокая обезглавленная колонна. Ее почти до вершины оплел дикий виноград, и она казалась пойманной в некие волшебные сети. С наступлением осени эта сеть превращалась в дырявую пурпурную мантию на плечах мраморного исполина. Я часто приходил сюда и воображал себя блуждающим в развалинах Парфенона. Мне даже виделись в мраморных разводах таинственные, нечитаемые знаки, ибо по легенде, совершенно безосновательной, этот продолговатый кусок мрамора был и в самом деле привезен из Афин. Я не находил доказательств этой легенде, но воображал ее документально изученной, а следовательно, подтвержденной. Взявшись за жизнеописание Ликурга или Фемистокла, я призывал молчаливую колонну в свидетели. Вот и сейчас я по привычке иду к ней. Побродить, подумать. Вспомнить и даже произнести вполголоса несколько строк. Мне этот жалкий обломок представал то разрушенной Троей – «…и у стен Илиона / Племя героев погибло – свершилася Зевсова воля», то стенающим Карфагеном – «Carthago delenda est»56, то разграбленной, лишенной струн Эоловой арфой. Жалкое доказательство минувшей славы.
– Доброе утро.
Я едва не подскакиваю от неожиданности. Оборачиваюсь. Передо мной – женщина, на первый взгляд незнакомая. Плащ подбит лисьим мехом. На руках тонкие лайковые перчатки. Под капюшоном рыжий задорный локон. Жанет! Княгиня Караччиолли, самозваная принцесса д’Анжу. Смиренно сложив руки, улыбается. Глаза таинственно блестят. Я не слышал ее шагов. Она ступила ко мне прямо из тумана, из-под белесой завесы, не потревожив башмаком лиственный саван. Будто веса в ней не больше, чем в облаке. А может быть, она только что сотворила свое тело из подвернувшихся ей лоскутков, прохладных капель и сумрачных теней?
– Как… вы?.. Почему? Что вы здесь делаете?
– Я кое-что забыла… В нашу первую и последнюю встречу, у меня не хватило времени.
– Но как вы?..
И тут меня осеняет. Липпо! Ну конечно же, интрига продолжается. Его совет прогуляться на рассвете все равно что вызвать меня на свидание. Он дал мне эту рекомендацию с ведома Жанет или даже по ее просьбе. Какая пьеса! А я и не догадывался.
– Вы знали, что я приду, – срывается с моих губ. – Рано утром. Понятно, это Липпо. Но откуда вы узнали, что именно сюда?
– Ваш парень подсказал, этот… как его… Любен.
– Любен?! Не может быть! Но…
– Как мне это удалось? Это несложно.
Она извлекает из расшитого кошелька, который красуется у нее на поясе, золотую монету и подбрасывает ее в воздух. Ловит и раскрывает ладонь. Монета блестит унылым монаршим профилем. Ее коронованный брат скучающе пятит губы.
– Очень весомый аргумент, – поясняет Жанет. – Особенно, если не один.
– Любен обязан донести…
– Не донесет. Он силен, как Полифем, но, к счастью, не настолько глуп. Он будет молчать.
Я смотрю на нее с изумлением. Ни тени смущения или страха. Глаза сияют. От утренней прохлады щеки у нее раскраснелись, губы чуть полуоткрыты.
– Но… зачем? – вырывается у меня.
Вопрос, который любая женщина оставила бы без ответа, оплела бы ложью, скрыла бы напускной стыдливостью, только бы избежать признания, но только не Жанет. Она продолжает улыбаться, не опускает глаз и спокойно отвечает:
– Чтобы увидеть вас.
– Зачем?
Ничего глупее не придумаешь, но я в таком замешательстве, в таком безукоризненном отпадении от искусства извлечения и составления слов, что произнести и придумать что-либо не в силах.
– Я влюбилась.
Я хотел бы сослаться на туман, на его искажающие, растворяющие свойства, на то, что смысл остался мне неясен, и отмести, отогнать услышанное, как сорвавшийся, закруживший на ветру лист. Я хотел бы ослышаться и стать жертвой обмана. Но она произнесла это без малейшего фонетического огреха, с безупречной дикцией и чистотой, сыграла изумительный аккорд. Но я все-таки переспрашиваю, ибо в ее присутствии непроизвольно глохну.
– Что, простите?
И она терпеливо и даже радостно повторяет.
– Я влюбилась.
В ее глазах золотые мерцающие крупинки. Они плавают, вращаются, соединяются в звезды, я смотрю на нее как зачарованный, будто околдован и обездвижен заклинанием, очень простым, но безумно действенным. Она чуть склоняет голову и смотрит на меня так, что взгляд из-под вскинутых, взведенных ресниц особенно резок. И та же ласковая блуждающая улыбка, что и прежде, зовущая, нежная… Уголок рта чуть подрагивает, не то от нетерпения, не то от тревоги. Влажно поблескивают зубы. Молочно-белый подбородок, от него в тень, вглубь, под завязку плаща уходит линия ее горла, от которого начинается полоска кожи к ее груди, туго схваченной бархатом лифа. Я только угадываю вырез ее платья, но кожа ее матово и призывно светится, как будто там, внутри, находит свой приют изгнанное с небес солнце. Ее темный тяжелый плащ подобен облачному шатру над головой, он непроницаемо тесен и хранит за собой светящийся жар. Он пробивается в ее глазах, в ее улыбке, в прядях, что выбились и горят у нее на лбу. Она соперничает со светилом, что таится за горизонтом и дарует свой свет лишь благодаря капризу. Солнце разорвет облачную завесу, а она сделает шаг и распахнет плащ. И она делает шаг. Я отступаю, но позади меня поросший диким виноградом каменный цоколь. Бежать мне некуда.
Жанет приподнимается на цыпочки и шепчет мне в ухо.
– Три дня мечтала об этом.
Она целует меня. Сначала одним касанием, будто перышком по губам проводит. Потом возвращается и затягивает вдох. Будто вино пробует. Крошечный глоток, чуть подольше, и еще протяжней. Отстраняется, делает паузу, полузакрыв глаза, проводит языком по губам.
– Дягиль, пастила или варенье.
Затем еще глоток, уже решительней, нежнее и жарче. Я сам как перебродивший дурман. Голова идет кругом. Ее гладкая прохладная щека прижимается к моей. Упругая и свежая, будто сорванное налитое яблоко. От нее пахнет цветами. Она трется щекой и снова целует. Расчетливо, умело и очень ласково. У меня колени дрожат. Меня захлестывают ее тепло и нежность. Я чувствую ее тело, такое женственное, полное силы. Это та самая, божественная сила, что своим проявлением сводит с ума любого мужчину. Это сама ипостась природы, богиня, дарующая весну. Та самая сила, что увлекает и пьянит. Неразгаданная, таинственная женственность, вечный враг и союзник. Я улавливал присутствие этой силы в Мадлен. Но там она была будто разбавленное молодое вино, почти без вкуса. Мадлен была так неопытна, она еще не созрела и только слепо, неумело время от времени давала приют этой силе. Она не умела с ней обращаться, избегала и даже боялась. Возможно, в будущем, она бы освоилась и смирилась бы с ее присутствием, обретя ласковую властность и гармонию, но смерть забрала ее слишком рано. Герцогиня и вовсе лишена этой силы. Безупречно сложенная внешне, созданная, казалось бы, как живой сосуд для волшебного нектара, она не обнаруживает в себе ни малейшего признака. Ее мраморное тело – только футляр. Она умела будить мою чувственность, темную и звериную ее ипостась, но никогда не одаривала ее восторгом. Она изымала мою жизнь, грабила и ничего не давала взамен. А Жанет переполнена силой. Ее сила брызжет, разливается, обжигает. Я чувствую благодатный, сладостный жар. Это зов, восторг и желание. Я почти безумен. Пьян и счастлив. Как же я хочу ее обнять… Прижать ее к себе, до боли, до хруста. Чтобы чувствовать, желать… Узнать, как она подчинится, как податливо изогнется… Вдохнуть запах ее волос. Они жесткие, упрямые, будут щекотать ноздри, виться лозой вокруг шеи, связывать пальцы… Какая мука… Я не могу, мне нельзя… Если я прикоснусь к ней, мне уже не остановиться. Я кинусь ей навстречу и совершу безумство. Погублю себя. И ее. И свою дочь. Мне нельзя. Обеими руками я цепляюсь за камни у себя за спиной. В мышцах ноющая боль. Неужели она не понимает? В горле у меня пересохло. Я задыхаюсь. А она гладит мое лицо руками, перебирает волосы. И снова целует.
– You kissed by the book57.
Веки, ресницы, уголки губ, ямочку под нижней губой… Блаженство переплетается с отчаянием. Она опускает руку и ноготками царапает мою одежду. Она едва касается, но для меня эти прикосновения, будто картечный залп, с разрывом кожи и кровотечением.
– Нет… Нет… Не надо, умоляю… Пощадите меня. Пощадите…
Я сам не узнаю собственного голоса, он хриплый и тусклый. Не могу вдохнуть, захлебываюсь и задыхаюсь. Отвергнуть ее сейчас, оторвать от себя ее руки все равно что отказаться в раскаленной пустыне от глотка сладкой родниковой воды.
Жанет слышит меня. Ее вздох прокатывается по моей щеке, и она отступает. Глаза ее печальны, но все так же ласковы. Она понимает. Она читает все на моем лице и только грустно качает головой. Прозрачная горечь, будто аромат иссохшей полыни. Мне стыдно и неловко. Она отступает еще на шаг и набрасывает на голову свалившийся капюшон. От этого движения плащ ее распахивается, и я вижу ее затянутый в темно-бардовый бархат стан и высокую грудь. Над корсажем вновь матовый блеск. Такой теплый… Уткнуться бы лицом. Я издаю стон и почти прыгаю в сторону. Чтобы вырваться из западни и бежать. Петляю между деревьев, как заяц. Кидаюсь то влево, то вправо. Перед глазами круги, сердце колотится. Спотыкаюсь о корягу и валюсь на кучу влажных, скользких листьев. Сбиваю колени. И обдираю ладонь. Пугливо, в отчаянии, замираю. Боже милостивый, Боже милосердный, сжалься на рабом Твоим… Как же он слаб, раб Твой… Как же грешен…


