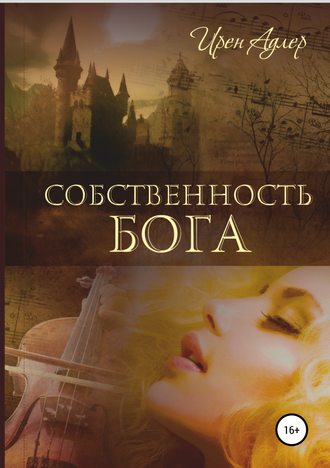
Ирен Адлер
Собственность бога
Главв 20
Когда он смотрит на них своими синими глазами, он весь там, в этом взгляде, весь целиком, весь внимание и слух, и тогда они, каждый из них, пусть самый ничтожный, чувствует себя возведенным в должность, замеченным. Потому что он их видит, он допускает их значимость и важность. Их всех, конюха и прачки, лакея и горничной. Своим взглядом, словом, жестом, своим присутствием он возводит их ценность едва ли не до монаршей. А что еще нужно тем, кто рожден в нищете и ничтожестве?
* * *
Я вновь слышу шорох и стук. Знаю, что обманываю себя, но порыв так стремителен, что мне себя не удержать. Угнаться за ускользающей мечтой, ухватить ее. Детская наивность. Вскакиваю и в чем мать родила бегу к двери. Знаю, что ее там нет. Знаю! И все же обманываю себя. Несколько шагов в ожидании чуда. В гостиной хозяйничает Жюльмет. Когда я распахиваю дверь, она сгребает подсохшие ветки остролиста. Оборачивается и видит меня. А я, сраженный разочарованием, не сразу вспоминаю о скудости своего наряда. Мне требуется время, чтобы с холодной рассудочностью оценить случившееся. Ее здесь нет. Это всего лишь горничная.
У Жюльмет багровеет лицо, потом шея. Она шумно выдыхает и даже подхихикивает. Я, к счастью, понимаю, в чем дело. И быстро ретируюсь.
– Ради всего святого, Жюльмет, простите меня. Я не думал, что вы там… Не подумайте, что я…
– Да будет вам извиняться, сударь. Будто я вас голенького не видела! Видела, и еще разок бы взглянула. – Она хихикает. – Да на кого ж еще смотреть, коли не на вас? На вас только и смотреть. Перед смертью будет в чем отцу святому покаяться. Душу потешить. Мне, щербатой, это как награда. Воспоминаний у меня мало, вот одно из них будет. Вас узрела в полном, так сказать, откровении. Тогда и умирать не страшно.
– Жюльмет, лесть – искусство, которое весьма ценят при дворе, – отвечаю я, натягивая штаны и рубашку. – Но мне вы ими не доставите никакого удовольствия, я не особа королевской крови. Да и выгоды от меня никакой.
– Бросьте, сударь, я вам не дама какая, чтоб за выгодой гнаться. Что вижу, то и говорю. А лесть, это вы правильно заметили, она для короля. При короле правды не скажешь. Потому врать приходится. Не особо видный он мужчина. Сморчок, говорят.
– Жюльмет!.. Он король и помазанник Божий.
Я предостерегающе качаю головой. Но она только пренебрежительно отмахивается.
– И что с того? Все равно сморчок. Вот мать мне рассказывала, когда добрый наш король Генрих помер, царство ему небесное, а убийцам геенна огненная, сына его провозгласили наследником, а мать-итальянку – регентшей, вот тогда народ будущего короля в первый раз и увидал. Его держал за руку кардинал де Бутвиль. Ох и некрасивый же был ребенок. Губами все шлепал. Сначала думали, конфета у него во рту, от щеки к щеке перекатывает, ан нет – язык. Такой большой, что во рту не помещается. Мать своими глазами видела. Когда его из Собора-то вывели, она почти на ступенях стояла, за самой стражей, вот и разглядела наследника. Бледный, большеротый. Он потому и женщин не жалует. Знает, что они с ним только из жалости али из корысти. В детстве, говорят, большой интерес проявлял, под юбки к фрейлинам заглядывал. Думали, в отца пойдет, бастардов плодить. А у него, видать, только язык и вырос.
– Жюльмет!
– А что я такого сказала? Это я к тому, сударь, что вам стыдится нечего. На вас с какой стороны ни глянь – в одежде али без, – все глаз радует.
– Да что же это за разговоры такие! Принесите-ка мне лучше поесть. И теплой воды. А Любену передайте, что я хочу спуститься в парк. За ночь выпал снег и все дорожки замело. Самое время пройтись.
Жюльмет замечает мой подавленный смех и удаляется с гордо поднятой головой. Я уже не сдерживаюсь и смеюсь ей вслед. Сегодня каждая мелочь служит причиной для веселья. Даже брошенные куклы не вызывают уныния. Они всего лишь прилегли и наслаждаются кратковременным отдыхом. Впереди бесконечная череда действий. Представление не заканчивается, есть только отсрочка. Замедляя ход, колесо тормозит. Оно подскакивает на выпирающем камне или слетает с оси. Есть время отдышаться. Я тоже получил отсрочку. Мне дали увольнительную, спустили с цепи, как дворового пса. И я, ошалевший от сладости воздуха, от белизны выпавшего снега, несусь куда-то с радостным лаем. Не оглядываюсь даже на дымящуюся в миске кость. Мне бы лапы размять, вдохнуть полной грудью. Бежать, не оглядываясь на цепь, не ждать рывка, который бросит меня назад. Я знаю, что свобода продлится недолго. Скоро хозяин снова защелкнет цепь, и при очередном прыжке мои лапы выскользнут из-под меня, и я с хрипом повалюсь на бок. Но это потом, а сейчас я свободен. И счастлив. Да, да, счастлив. Так неосторожно, с уликами. Мое лицо с удивлением разглядывала Жюльмет. А Любен принял меня за сумасшедшего. Как тут не принять? Он меня таким, хмельным и невесомым, никогда не видел. Я и сам подрастерял воспоминания, осветленные счастьем. Тут необходим навык, особый ритм сердца и такт для дыхания, иначе нарушается привычная телесная согласованность. Душа, подобно опытному кукловоду, должна ловко орудовать вагой, иначе ее марионетка запутается в собственных нитях и задохнется. А я был близок к этому. Что-то говорил невпопад, совершал тысячу ненужных движений, хватал и переставлял. Искал занятие и бросал. Я хотел только одного – остаться наедине со своим счастьем. Вдыхать его и прислушиваться. Глупо и без причины улыбаться. Пожалуй, нечто подобное я испытывал, когда родилась Мария и я отправился на правый берег к родителям Мадлен. Та же неисчерпаемая сокровищница под рукой. Брать горстями и швырять, одаривать всех, кто попадется, обращать в царей и героев. Вероятно, я пожелал облагодетельствовать Любена, а он меня не понял и с опаской осведомился, хорошо ли я себя чувствую. Вспомнил, как однажды я стянул у Оливье склянку с опием.
Я ее вовсе не стянул. Оливье позабыл ее сам, после того как смешал для меня снотворное, а я только сделал вид, что не заметил его рассеянности и толкнул пузырек в тень. Пару дней спустя я добавил несколько капель содержимого в вино. И все последующие часы был вполне счастлив. Правда, мало понимал, что мне говорили, и сам еле ворочал языком. Мысли были как пузыри – всплывали и лопались, вызывая приступ неудержимого смеха. Даже белое от ярости лицо герцогини показалось мне забавным. Рот у нее превратился в щель, а лицевые кости вспучились и раздались, обратив великосветскую красавицу в карнавальную маску. Я хохотал, указывая на это превращение пальцем. Оливье за этот недосмотр здорово досталось, и он возненавидел меня, как ненавидит больной свой неподдающийся лечению фурункул. Возмездие не заставило себя долго ждать, нечто схожее с похмельем, тошнота и головная боль. Я оплатил страданием краткий миг ложного удовольствия.
А что же владеет мной сейчас? Является ли удовольствие истинным или ложным? То ли это удовольствие, что восполняет собой ущерб, как глоток воды, изгоняющий жажду, или это удовольствие, что имеет сходство с божественным бесстрастием, с безмолвным созерцанием красоты? Платон, пожалуй, был бы смущен. Здесь налицо и то и другое. А я где-то посередине. Я был голоден – и насытился. Я испытывал жажду – и сделал глоток. Я блажен, как те плачущие, что утешились. Значит ли это, что я не более чем пьяница, приложившийся к бутылке после долгого воздержания, или распутник, нарушивший безудержным мотовством великий пост. Я всего лишь удовлетворил потребности изнывающего тела и очень скоро поплачусь за это, ибо ложное удовольствие подобно несговорчивому ростовщику, который взымает двойной процент. Но я узнал и покой божественного созерцания, то, что пребывает за пределами страждущего тела, эфемерное и призрачное, питающее душу. Мое тело, насытившись, поделилось и с душой. Узреть сплетение магических всполохов, вдохнуть аромат райского сада. И там с меня не потребовали плату, это был дар. Я подобрал его и укрываю теперь, как цветок, у самого сердца. Это волшебный уголек, с которым ночь становится близнецом зари, философский камень, дарующий бессмертие. Платон предрекал подобное насыщение и спокойствие только на смертном одре. Вкусив блаженство, я сделался равным богу, а следовательно, обречен на смерть.
Глава 21
Она раздумывала над покупкой особняка в предместье Сен-Жермен, особняка с куском земли, садом и даже виноградником. Почти поместье. Ее управляющий уже подыскал несколько домов, которые соответствовали ее пожеланиям, – тихих, уединенных, добротных, со сводчатым залом под библиотеку, множеством каминов и просторной кухней. Она распорядилась, чтобы в этих домах были комнаты с большими окнами, выходящими на юг, комнаты достаточно светлые, чтобы послужить в качестве детской. Вслух она этого не произнесла. Да и мысленно это было нелегко. Комната для маленькой девочки, для маленькой соперницы. Вот какую метаморфозу претерпел ее демон. Она собиралась подарить ему дом и позволить самому воспитывать дочь. В светлого духа демон не обратился, ибо о настоящей свободе для пленника речи не шло. Геро был и останется ее собственностью, ее трофеем. Она всего лишь идет на более выгодные для нее уступки, некоторые необходимые вложения в предприятие, чтобы получить дополнительные дивиденды. Неволя убивает его, медленно, но неотвратимо. Пусть даже в последние несколько недель после посещения того странного лекаря Геро и чувствовал себя лучше. Это временное улучшение. Так бывает при некоторых болезнях, когда недуг внезапно дарит ложную надежду, прежде чем нанести последний удар. Экзотический цветок нуждается в тщательном уходе. Если для цветения ему требуется особая чистая почва и родниковая вода, то цветок следует пересадить. Пусть растет под открытым небом, под присмотром садовника. Она согласна на то, чтобы Геро жил в одном доме с дочерью. Пусть возится с ней, если ему это так уж необходимо. Пусть даже посвятит себя тем наукам, которые оказались в пренебрежении. Он же изучал медицину в одном из коллежей Сорбонны. Пусть продолжает, если сама мысль о праздности ему невыносима. Или же пусть изберет себе другой предмет, другую дисциплину. Пусть изучает греческий и читает в подлиннике Аристотеля. Какая разница! Этот дом создаст иллюзию благополучия. Он не будет узником. Та прислуга, которую выберет Анастази, будет вести себя пристойно и ненавязчиво. Его будут охранять так, чтобы тяготы постоянного надзора свелись к легкой заботе. Ему не в чем будет упрекнуть свою благодетельницу. И свидания вымаливать не придется. Пусть будет так. Так, как он хочет.
* * *
Меня беспокоит ее отсутствие. Ее нет уже больше двух недель. Рождественские торжества давно закончились, а герцогиня все еще в Париже. Почему она не едет? Не шлет писем? Не оставляет распоряжений? Она прежде никогда не отсутствовала так долго. А если интриги и жалобы королевы-матери держали ее в столице, герцогиня непременно отправляла гонцов с короткими письмами и даже кое-какие лакомства. Случалось, что меня на пару дней привозили в Париж, и я жил в том самом Аласонском дворце на улице Сент-Оноре, куда более трех лет назад явился с расписками и счетами. Почему она молчит на это раз? Не означает ли ее молчание некую подспудную угрозу, затишье перед бурей? Я боюсь ее молчания. Мне легче перенести угрозы и домогательства, чем это деланное равнодушие. Молчание означает план и месть. Она никогда не спешит, если речь заходит о возмездии. Она выжидает.
В первые несколько дней я был рад ее отсутствию. Страшился обратного. Вдруг застучат копыта, загремит экипаж, а затем скрипнет дверь, и она войдет. А я все еще недостаточно трезв, все еще в мечтах. Я все еще ощущаю на своей коже руки Жанет, и поцелуи ее горят и дразнят. Она все еще со мной, все еще рядом, стоит лишь прислушаться, оглянуться и поймать ее задорный, сияющий взгляд. Я так и не изгнал сладостный призрак и сам не вернулся из страны грез. Явись герцогиня в подобный час, я бы не совладал с собой. Да у меня дыхание при одной мысли срывается. Нет, нет, Господи, только не сегодня, не сейчас. Дай мне еще один день, еще одну ночь. Я обрету смирение, я вновь замкну за собой тяжелую дверь, изгоню мечту и сломаю крылья. Господи, я буду верным рабом Тебе, не забуду о смертности своей и греховности. Я не прошу много, всего лишь день для воспоминаний, краткий час для обмана и радостей.
Мне так нравится играть в счастливца! Это как примерить новый костюм, даже не собственный, а кем-то одолженный. Эксцентричный господин обменялся своей одеждой со слугой, и слуга вместе с кружевом обрел крохи величия. Монашеская ряса предполагает молитву, а начищенная кираса – военный клич и пороховой дым. Мир, преображаясь, немедленно бросает реплики своему актеру. Счастливец восторгается его совершенством и божественным замыслом. Каждая мелочь является доказательством. Нечто подобное происходило и со мной. Я на время избавился от лохмотьев печали и одолжил у богов-насмешников волшебный плащ. Узнал то, что прежде презирал за избыточную яркость. Мир предстал в своей божественной геометрической правильности. Я осознал жизнь и свое присутствие в ней, в нескончаемом круговороте, в карнавале форм и обличий, который затеян самим Богом. Я вдыхал морозный воздух и дивился его сладости. Неразгаданный, невесомый, прозрачный, он разлит повсюду, без него жизнь невозможна. Люди вдыхают многие сотни раз за день и не замечают этого дара. А снег, который хрустит под ногами! Нежнее, изысканней самой дорогой ткани. Ветви, покрытые изморозью, будто осыпаны алмазной крошкой. Солнце отражается в нерукотворных гранях, над которыми трудились небесные ювелиры. Как мог я прежде не замечать этой удивительной красоты? В каком безмятежном согласии пребывает мир. Он невинен в своей первозданной суровости, грешен только человек. И грешен по причине гордыни своей, неверия и невежества. А птицам и зверью лесному неведомы эти муки. Их законы просты. «Посмотрите на полевые лилии, не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как одна из них» (Евангелие от Луки, 12:27). Подмерзающие ягоды рябины горят ярче рубинов, каштан в думах своих о весне зажигает свечи. Каждый из этих созданий божьих хранит свою тайну, и догадаться о ней под силу лишь тому, кто сам готов признать в себе искру божественного присутствия. Для меня те первые дни стали чередой открытий, я узнавал чудеса на каждом шагу. Я ребенком не был так любопытен, как в те дни. Я снова мечтал, снова воображал себя путешественником и первооткрывателем, отправлялся в далекие земли, наблюдал за птицами, распутывал вереницы следов. Снова брался за скрипку и разбирал уже забытые пожелтевшие ноты. Просыпался еще до рассвета, чтобы отправиться на восточную башню и во всех оттенках, с причудой дознавателя, встретить рождение дня. Наблюдал, как растворяется ночь, как меркнут звезды, как Венера, самонадеянная, упорствует в лучах восходящего солнца. А вечером я приветствовал ее на Западе, поймав в изогнутое галилеево зеркало. Планета висела в непостижимой пустоте, которую разум бессилен познать. По этой причине я не искал объяснений, а только наблюдал. Это была еще одна тайна, еще один осторожный взгляд в мастерскую божества, где творятся планеты и обретают свой путь звезды.
А затем пришло беспокойство. Дарованная мне отсрочка не может длиться вечно. Господь дал мне несколько дней, но вот они истекли. Время карнавала на исходе. Мой наряд ветшает и не скрывает дрожащего тела. Я все чаще прислушиваюсь, все чаще смотрю на дорогу. Моя вольная больше не имеет силы. Герцогиня вернется, и мне каким-то образом придется хранить свою тайну. У меня есть владелица, и я должен буду позволить ей к себе прикоснуться, к моей коже, к моим губам… И кожа будет осквернена, душа, оглушенная, изгнана. И сердце, с окровавленным кляпом, будет молчать.
Временами тоска так меня одолевает, что я вновь подумываю о побеге. Едва не залез в повозку к тем самым бродячим комедиантам, которые после рождественских и новогодних представлений, после карнавала возвращались из Парижа во Фландрию. Они снова остановились на несколько часов во дворе замка, и мажордом, уже не дожидаясь моих просьб, памятую о строгом приказе герцогини исполнять все мои желания, предоставил путникам кратковременный приют. Для меня эта старая размалеванная повозка, запряженная двумя клячами мышиного цвета, была не менее притягательна, чем тайна солнечных пятен, ибо принадлежала тому же многомерному миру. Я терзался любопытством и страдал от жалости. Эти люди были достойны восхищения и вместе с тем слез над их печальной участью. Они брели из города в город, получая за свое лицедейство жалкие гроши. Иногда им в спину летели насмешки и камни, очень редко – крики восторга. Они голодали, были презираемы и гонимы. И все же они были свободны. У них не было суверена, кроме Господа, и надсмотрщика, кроме голода. Их жизнь была честней и достойней, чем жизнь блестящего царедворца, вынужденного верить в собственную ложь. Они, эти жалкие шуты, единственные, кто умел говорить правду.
У меня нашлось немного серебряной мелочи, и я высыпал ее в желтую ладонь старика. Он был очень худ, кожа, как пергамент, но взгляд был ясен, голос звучал звонко и повелительно. Он разглядывал меня с насмешливым интересом. Толстая женщина укладывала в корзину несколько бутылок дешевого вина, которые ей вынесли из погреба по приказу мажордома. Два мальчикаподростка, один чуть старше и шире в плечах, а другой – тонкий, как тростинка, обтирали лошадей старой ветошью. Спустив ноги из возка, сидел низкорослый, широколицый мужчина с руками огромными, как два кузнечных молота, и бледная молодая женщина с девочкой на руках. Девочка лет четырех скорчилась на коленях матери и тихо плакала. Я спросил, что с ней, и женщина равнодушно ответила, что девчонка капризничает, потому что ей холодно. На лице матери, а может быть, и не матери, не отразилось ни особого волнения, ни тревоги. Гораздо большее любопытство вызывал я или золотое шитье на моем камзоле. Девочка на звук моего голоса пошевелилась и оглянулась. Я сразу распознал лихорадку. Щечки у ребенка горели. Глаза мутные и воспаленные. Я коснулся ее лба.
– Ты лекарь, что ли? – спросила женщина.
– Нет, я отец.
И решительно взял девочку на руки. Я собирался отнести бедняжку на кухню, где бы ее напоили теплым молоком с медом. Те пару часов, на которые бродячие лицедеи получили разрешение задержаться, бедная сирота, а я не сомневался, что она сирота, могла бы провести в тепле и сытости. Любен суетливо пританцовывал у меня за спиной. Ле Пине качал головой. Им не понравилось, что я коснулся какой-то замарашки, но я в их сторону не взглянул. У девочки были темные волосы и светлые глаза. Она напомнила мне Марию. И других, таких же несчастных, маленьких осиротевших детей. Будет ли Господь сколько-нибудь милостив к ним?
На рассвете скрипящая всеми колесами повозка выехала со двора. Жюльмет уверила меня, что у девочки к утру жар спал, и она крепко спит. Кухарка снабдила путников обрезками мяса, хлебом и сыром. Одна из горничных закутала ребенка в старую шаль. Я почти с тоской и завистью смотрел на дорогу. Если б я мог сбежать вместе с ними! И вечно колесить по дорогам, не ведая о прошлом, не мечтая о будущем, свободный и безмятежный.
Глава 22
Клотильда едва не взвыла.
– Кто позволил? Кто допустил?
А кто посмел бы ему запретить? С некоторых пор Геро была предоставлена свобода следовать собственным побуждениям и порывам. Его статус полновластного, признанного фаворита давно не требовал доказательств. Ему запрещалось покидать замок, но со всем прочим он был волен поступать как пожелает. Любой другой оценил бы дарованные ему вольности по достоинству, но только не Геро. Он не находил особой радости в том, что приобрел некоторую власть над лакеями и кухаркой, над портным, поваром и казначеем. Он мог отдавать приказы, как хозяин, но не пользовался дарованными полномочиями, находя их тяжеловесными и бессмысленными. Он вспоминал их только в качестве благотворителя. С тех пор, как ему позволили обращаться к казначею, Геро не упускал случая раздать пригоршню серебра бредущим на заработки вилланам. В ближайшей деревне он мог скупить у пожилой вдовы весь ее садовый урожай, а у старого горшечника – его кособокие посудины по цене греческих амфор. Он не раз посылал Любена с пожертвованиями в маленькую церквушку, где служил старенький хромой кюре, а во время своих поездок в Париж тайком наведывался в детский приют, чудом уцелевший после смерти отца Мартина. Одни усматривали в этих его чудачествах едва ли не доказательства безумия, другие – тонкую игру, а третьи – попытку искупить грех. Сама герцогиня побывала в каждом из этих течений и остановилась на четвертом – потребности. Геро испытывает определенную потребность. Он страдает от переизбытка несовершенств этого мира и вот таким наивным способом пытается этот мир лечить. Он преисполнен сострадания, как горное озеро переполнено водой после весенней оттепели. Это сострадание выплескивается, опасно размывая берега, угрожая погубить, разорвать на куски то сердце, которое служит ему вместилищем. Геро не способен существовать иначе, не одаривая этим состраданием. Это его дыхание, его кровь. Если он прекратит свое дарение, то прекратит дышать. Жизнь прекратит свое движение, свой вращательный цикл, и тогда он умрет. Он умрет и по другой причине. Его погубит неблагодарность мира.
* * *
Волнение усиливается. Я уже готов молиться, чтобы герцогиня вернулась как можно быстрее. Я не молю судьбу о пощаде, ибо знаю, что недостоин. Я прошу ее о пособничестве, об укрывательстве, пусть послужит молчаливым, равнодушным союзником, который если не протянет руку, то хотя бы не выдаст. Пусть отвернется и позволит мне влачить существование дальше, не потревожив своим свидетельством тех, кто мне дорог.
Неизвестность сводит меня с ума. Я позволил воображению разыграться. А тут еще лихорадка. Легкий жар и слабость. Похоже на то, что я злоупотребил попустительством Любена и провел в парке гораздо больше времени, чем было дозволено. Во время своих мечтательных, познавательных прогулок я замерзал так, что не чувствовал пальцев на ногах, но из мальчишеского упрямства не желал признаваться в телесной слабости. Плоть заслуживает аскезы за свою изнеженность. А я, вопреки собственной воле, стал привыкать к тонким винам и шелковым простыням. Даже услуги Любена перестали быть в новинку. Я стал господином и научился отдавать приказы. Еще немного, и я услышу голос тщеславия, распробую власть на вкус и раскаюсь в долговременной слепоте. Поэтому я стоически мерз, молился в холодной часовне и вместо оленьего бока довольствовался запеченным окунем. Даже первые признаки недуга не обеспокоили меня, скорее обрадовали.
На третий день головная боль, затем легкий озноб. Я определенно болен. Лихорадка усиливается. Мне пока удается скрывать ее от Любена, но опытный взгляд Жюльмет уже подмечает нездоровый румянец. Она пристально смотрит мне в глаза, но я делаю вид, что не замечаю ее. Это всего лишь простуда и скоро пройдет.


