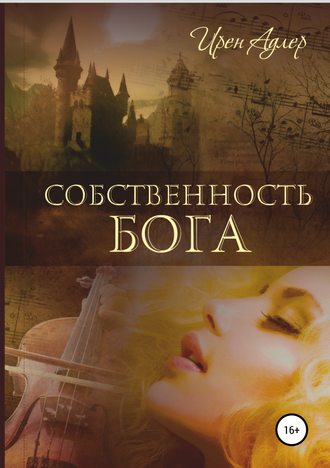
Ирен Адлер
Собственность бога
Глава 2
Она смотрела на гобелен, закрывающий потайную дверь, великолепный гобелен из Арраса с изображением библейского сюжета. Все гобелены в ее кабинете были с сюжетами из Писания. Но этот был особенный. История Иосифа Прекрасного и жены Потифара. Мастер ткач запечатлел на ковре тот пикантный момент, когда супруга египетского военачальника требует от юного раба покорности. «Спи со мной», – говорит она, протягивая руки. Иосиф изображен в миг соблазна и колебаний. Он коленопреклоненный раб, испуган, смущен. Он знает, что жизнь его в руках этой женщины, супруги хозяина, что за отказ повиноваться он может быть жестоко наказан. Он испытывает страх, готов бежать. Но в то же время он испытывает и соблазн, желание, ибо он юн и полон сил. Герцогиню забавляла эта телесная подробность, подчеркнутая мастером.
* * *
Подарки сыплются один за другим. Рубиновая булавка. Длинная золотая игла с мерцающей кровяной каплей на конце. Массивная золотая цепь с ладанкой. Еще один перстень. Взносы очень щедрые. Королевские. Она очень милостива ко мне и каждую ночь оценивает в драгоценный камень. Мне отводят другие, более значительные, апартаменты, состоящие из спальни, кабинета и гостиной. Это почти господская обитель. Только окна зарешечены. У меня двое слуг, тот рыжий парень Любен и расторопная пожилая горничная.
Обед и ужин мне накрывают в покоях ее высочества. Когда от портного доставляют заказ, она лично присутствует при первой примерке, собственноручно поправляет манжет или воротник. Ей нравится украдкой трогать меня. Герцогиня так предусмотрительна, что кроме безделушек и расшитых золотом камзолов дарит мне книги. Заказывает для меня самые дорогие и редкие издания. Из Аласонского дворца в Конфлан перевозят большую часть библиотеки. Некоторые тома не уступают по стоимости рубину. Первое издание Абеляра22. «Поэтика» Аристотеля. Бесценный анатомический атлас Леонардо. Запрещенный Мор23. Его знаменитая «Утопия», внесенная в Index Librorum Prohibitorum24. Я держу книгу в руках. За ней жизнь и смерть на эшафоте. Где-то глубоко под спудом из обломков надежд подрагивает любопытство. Что ж, пусть будет Мор. Герцогиня протягивает мне руку.
– Целуй. Благодари. Сделай это, как в первый раз. Помнишь, в библиотеке. Сделай так, чтобы я поверила.
Я теперь часто слышу это. Она требует благодарности. По ее подсчетам я уже должен образумиться и, если не воспылать страстью, то, по крайней мере, испытывать благодарность. Она заботится не только о теле, окружая его роскошью, но и о душе. Она помнит, как жаден и неутомим мой ум. Она заботится и об этом. Книжные полки, доставленная из Антверпена зеркальная труба Галилея, глобус Меркатора с осью вращения и горизонтальной подставкой. Я холодею, глядя на это. Чего она добивается? Зачем я ей? Тратит столько денег на пустую, скоротечную забаву. Скучный, угрюмый, молчаливый любовник. От меня ни ласки, ни нежности. Я почти к ней не прикасаюсь. Только если она сама не возьмет мою руку и не положит себе на грудь или на бедро. Близость с ней для меня все так же мучительна. Я испытываю резкое, болезненное возбуждение, которое ни к чему не приводит.
– Благодари, – говорит она, являясь с очередным свертком.
Герцогиня протягивает руку, а я становлюсь на колени. Это часть сделки. Чтобы ее исполнить, зову на помощь Мадлен. Совершаю кощунство. В противном случае лицедейство будет выглядеть жалким. Я вспоминаю пальчики Мадлен. Ногти неровные, один из них сломан… Под обветренной кожей тонкие жилки. Ладонь узкая, почти детская, с сетью розовых морщинок. Подушечки пальцев исколоты и загрубели. Она вскрикивает и бросает иглу. Укололась. Я ловлю порхающую в воздухе кисть и вдохом, лаской пытаюсь смягчить боль. Я грею эту хрупкую пятипалую звездочку меж своих ладоней и, как пес, зализываю крошечную рану. От воспоминаний у меня сжимается сердце. Я должен отдать и это. Но игра моя безупречна. Герцогиня мне верит. Гладит по щеке и щиплет за подбородок.
Глава 3
Она жила в своей божественной обособленности и не желала из нее возвращаться. Чего еще ей было желать? Геро не выказывал недовольства и ничего не просил. Напротив, он, казалось, учился ей угождать. Его опыт как любовника был ничтожен. Анастази, несомненно, была права, когда утверждала, что у него не было любовницы. Была только жена, слишком юная и слишком набожная, чтобы позволить ему узнать все тонкости любовной науки. Все его познания сводились к самым простым и незатейливым ласкам. И ласки эти были строго ограничены супружеским ложем. Этой деликатной нежности хватало для его добродетельной супруги, но герцогине этого было мало. Она вкушала страсть как экзотический плод и жаждала им насытиться.
* * *
Однажды я решаюсь задать ей вопрос. Стоя у окна, гляжу вниз. Там гарцуют всадники. Свита заезжего герцога. Их господин прибыл, дабы засвидетельствовать даме свое почтение. Он ждет, что она присоединится к его охоте, украсит своим присутствием. Горячит коня, поднимает его на дыбы. Под широкополой шля – пой – гордое, мужественное лицо. Волна белоснежных перьев.
Герцогиня, уже в платье для верховой езды, неслышно приблизившись, стоит рядом. Не отрывая взгляда от всадника, спрашиваю:
– Почему я? Почему не он?
Она смеется.
– Хорош жеребчик! Даже не знаю, кто из них лучше – тот, кто в седле, или тот, кто под седлом.
– Он знатен, богат…
– А еще глуп и самонадеян.
Она берет меня за подбородок и поворачивает мое лицо к свету.
– Чтобы было понятно, я объясню. Этот господин при всех его неоспоримых достоинствах прост, как барабан из отлично выделанной кожи. Он пустой. Ударяешь по нему, и он гремит. А внутри… пусто.
– Тогда кто же я?
– Ты… – она задумчиво улыбается. – Ты… Кто же ты? А, знаю… Ты скрипка. Инструмент таинственный, нежный, струнами режет пальцы, издает то крик, то восторженный шепот. Манит своим чарующим голосом. Истязает душу, гонит ее из рая в ад. Но как звучит… Музыка божественная. Вот только играть на тебе трудно.
Тут она вздыхает. И переводит взгляд на гарцующего всадника.
– А на нем легко. Но… скучно.
Я ничего не понял. Я струнный инструмент, на котором сложно играть. Зачем же она тогда играет? Проще взять барабанные палочки. Пусть эта сложность для нее привлекательна, но не будет же она утруждать себя вечно. В конце концов она устанет, собьет себе пальцы о скрипичные колки, бросит инструмент или сломает. Конец неизбежен.
Иногда она уезжает в Париж, и тогда надежда вспыхивает вновь. Там она обязательно кем-нибудь увлечется. Или запутается в интригах. Там, в столице, ее истинная обитель. Там она ведет другую войну, другим оружием, но с той же целью – радость победы. Как сказала Анастази, «позволь ей чувствовать себя богом…». Игрок, кукловод и музыкант. Она соединяет в себе сразу три ипостаси, позволяя каждой из них время от времени выходить на сцену. Со мной у нее нет радости притворства, а при дворе она и хищник, и жертва. Игра получается сложной, со множеством ответвлений. Мне одному с этим не управиться. Там найдется немало соперников, и я мысленно подбадриваю счастливца. Я даже воображаю его, наделяю сложностью струнного альта и громким голосом барабана. Ей должно быть интересно. Она не узнает скуки. Она увлечется.
Но она возвращается. Точно в указанный срок, ни часом, ни минутой позже, с очередным драгоценным взносом. Берет то, что ей причитается, и платит.
Глава 4
Ей случалось и прежде поднимать руку на своих подданных. Еще в ранней юности она, не задумываясь, могла дать пощечину горничной или наградить конюха ударом хлыста. Благородной даме, управляющей целой армией челяди, твердость была необходима. Она вынуждена проявлять жестокость во имя подавления хаоса. Ибо еще Макиавелли сказал, что милосердие губительно для того, кто желает удержать власть. Милосердие – враг истинного государя. Ибо прощение преступника может обратиться в проклятие, и тогда взамен одной жизни в жертву будут принесены тысячи. Ее высочество верила, что поступает правильно и ее жестокость только вынужденная мера. Она наказывала за дерзость и нерадивость, за расточительство и непослушание, за медлительность и леность. Но вина Геро в строгом смысле не подпадала ни под одно из этих определений. Он не нарушал правил. Но он был виновен, и вина его состояла в том, что он был несчастен. Она могла бы простить ему дерзость и даже грубость. Могла оправдать неловкость, извинить неопытность, ибо они имели под собой мотивы. Но он был несчастен, и причина его несчастий не укладывалась в свод грехов и первопричин.
* * *
Господи, если б знать, что все это скоро кончится… Дьявол, по крайней мере, дает советы, как этим воспользоваться, а Ты, Господи, молчишь…
Однажды она теряет терпение и бьет меня по лицу. Все отпущенные мне сроки вышли. Я должен был образумиться или, по крайней мере, смириться. Но я все тот же бесчувственный, исполнительный чурбан. Лед, который она не в силах растопить. Я исполняю пункт за пунктом условия сделки. И ничего не могу с этим поделать. Ничего не в силах изменить. Страдаю не меньше нее от бесплодных попыток разорвать этот круг. Но выхода не вижу.
Когда она касается меня, мое тело становится мне чужим. Это тело обреченного грешника. Герцогиня подавляет собственную гордость. Настает черед лицедействовать, но роль ей дается плохо. Ей приходится продираться сквозь заросли и щупальца высокомерия и брезгливости, какие она испытывает к такому ничтожному существу, как я. Она вынуждена ради меня – меня! – покинуть свой блистающий трон и доставить мне – мне! – удовольствие. Великий Рим, властелин мира, вынужден платить дань полуразвалившейся галльской деревушке. Попытки ее неуклюжи и полны такой уничижительной снисходительности, что я вздрагиваю, будто она каждый раз касается меня раскаленными клещами. Несмотря на полумрак, я способен разглядеть ее лицо, застывшее, в гримасе отвращения к несговорчивому плебею. Ее вынудили служить этому телу, добиваться от него расположения, вместо того чтобы самой одаривать этим расположением. И, как естественное следствие, жертва ее напрасна. Я противлюсь еще упорней. Сжимаюсь в комок, желая уползти в первый подвернувшийся разлом, стать прозрачным и склизким. Но мои надежды так же бесплодны, как и ее.
Тогда она бьет меня по лицу, раз, второй, затем еще и еще. Вымещает горечь неудачи. Рука у нее хлесткая, гибкая и сильная, как вымоченная розга. Сказывается умение обращаться с хлыстом и многолетнее управление фрейлинами и горничными. Она не останавливается, пока у меня не начинает идти носом кровь. Липкая жидкость пачкает шелковую простыню. Герцогиня брезгливо стряхивает темные густые капли. Я чувствую теплую струю на щеке и на губах и солоноватый ком в глотке.
– Убирайся! – шипит она.
Я подчиняюсь. Не пытаюсь утереть кровь, на ощупь сгребаю одежду и отступаю к двери. Она еще не удовлетворена местью. Она делает шаг вслед за мной, взбешенная, смертельно бледная, на кружеве ее сорочки несколько капель крови. Она переживает ярость отвергнутой Мессалины. Безрассудный Мнестр пытается избежать чести быть ее избранником. Ее ладонь замазана темным, и она брезгливо вытирает ее о шелк. Остаются длинные полосы. Она ударила бы меня еще раз, если бы не отвращение к липкой жидкости, стекающей мне на подбородок. Я прижимаюсь спиной к двери, ожидая удара. У нее под рукой каминные щипцы и увесистая фигурка фарфоровой нимфы, которой так просто рассечь мне лоб.
– Вон! – глухо повторяет она.
И я оказываюсь за дверью. Но это еще не спасение. Я сталкиваюсь лицом к лицу с двумя пажами и Анастази. Они, вероятно, уже несколько минут прислушивались к тому, что происходит в спальне их госпожи. У пажей, двух мальчишек лет пятнадцати, испуганные, вытянутые лица. Они разглядывают меня, окровавленного, с охапкой одежды, с насмешливым интересом. Я будто непристойное, полураздавленное насекомое, возбуждающее гадливое любопытство. Первая мысль – отшатнуться, но все же смотреть, подойти ближе и даже ткнуть сапогом. Только Анастази невозмутимо бесстрастна.
Она произносит то же слово, которым несколько мгновений назад плевалась ее хозяйка. Но обращено оно не ко мне.
– Вон.
Это относится к пажам.
Те следуют приказу незамедлительно, сами обращаясь в застигнутых светом насекомых.
– Я помогу тебе, – быстро говорит Анастази, приближаясь.
Извлеченным из рукава платком вытирает мне лицо.
Пальцы у меня скрючены и застыли. Ей приходится с усилием извлекать из них скомканную одежду.
– Пойдем. Тебе надо умыться.
Куда же теперь? В собственную тюрьму. Раздавленное насекомое ползет в свою нору. Волочит перебитые лапки.
Идти недалеко. Всего два поворота и лестница. Есть еще потайной ход из кабинета хозяйки в мою спальню. Но для нас этот ход как будто не существует. Я бос. Мои башмаки остались где-то в господских покоях, каменный пол приятно отрезвляет. Галерея не освещена. Без моей провожатой, этого бесстрастного Вергилия, я бы расшиб себе лоб о первый же косяк, подобно злосчастному Карлу Восьмому, или свалился бы с лестницы. Но Анастази держит меня цепко. И уверенно направляет.
Любен изумлен. Он видит мое лицо с темными разводами, часть наспех напяленной одежды и босые ноги.
– Чего ждешь? Воды принеси! – приказывает Анастази.
Любен от усердия кидается сначала в одну сторону, потом в другую, напоминая всполошенного раскормленного зайца, над которым делает круг охотничий ястреб. И выбегает за дверь.
– Закинь голову, – говорит Анастази. – Кровь все еще течет.
У меня и губа разбита. Языком я чувствую мягкий, набухший валик, расползшийся размером в пол-лица. Анастази подносит свечу ближе, чтобы оценить картину разрушений.
– По-хорошему надо бы приложить лед.
Я мотаю головой.
– Не хочу лед.
Анастази внезапно соглашается.
– Правильно, пусть видит, что натворила.
Возвращается Любен с кувшином и серебряным тазом. Анастази сама смачивает кусок полотна в воде и смывает с моего лица кровь. Содержимое таза розовеет. Она вновь опрокидывает кувшин и проводит полотенцем по моей шее и груди. Мне кажется, или ее движения замедлились? Любен маячит за ее спиной. Он делает движения руками, выказывая участие и рвение. Однако Анастази ограничивается еще одним приказом.
– Принеси вина.
Любен исчезает. Со дня моего «назначения» ему увеличили жалованье, и он чрезвычайно гордится собой. Ему нравится быть доверенным лицом фаворита. Анастази все не уходит. Она вновь смачивает полотенце и водит по моей коже. Хотя крови на белом полотне больше нет. И кровотечение прекратилось. Я больше не нуждаюсь в помощи. Ей вовсе незачем здесь оставаться, прежде она не делала попыток приблизиться. Те слова, что я слышал от нее во дворе, когда прощался с дочерью, были последними, адресованными именно мне. Больше она со мной не разговаривает. Мне кажется, что она даже избегает меня. Изредка передает через Любена записки, в которых сообщает новости о моей дочери. «Здорова. Взяли новую няньку» или «Утром водили в церковь». Но сама Анастази в моем присутствии всегда молчит. Не отвечает на мои вопросы и спешно уходит. Я жду, что она и сейчас уйдет. Убедится, что я в некотором сознании, и удалится. Но она не уходит. Любен возвращается с бутылкой кларета. По неизвестной мне причине герцогиня позволяет мне пить только его. Огонь в камине разгорается, искры взлетают к закопченному своду. Анастази вновь оттесняет мою плечистую, краснорожую сиделку и сама наливает вина.
– Выпей.
Я выпью. Как выпил накануне и третьего дня. От вина становится легче. Мысли путаются, и не так знобит. Один яд ослабляет действие другого. С каждым днем я делаю на глоток больше. Потому что прежней порции уже не хватает. После первого стакана Анастази наполняет второй. Любен ожидает дальнейших распоряжений, изнывая от потребности быть полезным. Но она отсылает его прочь. Почему она все еще здесь? Что ей нужно? Я выпиваю все, до последней капли. Пью, не задумываясь. Нет будущего, ради которого стоило бы беречь себя, нет мечты, ради которой стоило бы сохранять свой разум незамутненным. Вино действует, и я хочу спать. Мне все безразлично, присутствие Анастази уже не задает мне вопросов. Но она помогает мне подняться и дойти до кровати. У меня легкая пьяная дурнота. Я не сразу понимаю, что происходит. Анастази прикасается ко мне. Это не дружеское участие, это нечто другое, о чем я не желаю догадываться. Она проводит рукой по моим волосам и затем трогает лоб, так, будто цель ее – обнаружить признаки лихорадки. Висок влажен, но жара у меня нет. Однако рука ее остается, скользит по щеке, затем вниз по шее и по груди. Я все еще в недоумении. Я пытаюсь причислить это к ошибкам, назвать заблуждением. Возможно, она ищет раны или порезы. Но Анастази касается меня уже второй рукой, без всякой неопределенности.
– Анастази, что ты делаешь?
Она не отвечает. Вместо ответа наклоняется и коротким укусом целует в губы. Я отшатываюсь.
– Остановись! Что ты делаешь? Это же я!
Она молчит. Ее рука уже под полотном рубашки и скользит по спине. Я так ошеломлен и разочарован, что не могу пошевелиться. У меня звон в ушах. Вероятно, я испытываю то же, что и несчастный Гай Юлий, когда в мартовские иды увидел занесенный над собой кинжал Брута. «Et tu, Brute?»25
– И ты, Анастази? Ты тоже хочешь узнать, каково это с таким, как я?..
Согласно преданию, заметив среди своих убийц Брута, Цезарь лишился воли к сопротивлению. Сами боги отреклись от него. Сама земля, вечная, незыблемая, колебалась у него под ногами, несокрушимые столпы, держащие небесный свод, пошли трещинами. Сейчас его поглотит пустота, ненасытная, ухмыляющаяся тщета жизни. Я в том же оцепенении, я не могу пошевелиться.
– Пожалей меня, Анастази. Не надо… Ты же единственная была моим другом. Ты знаешь, как я верил тебе. Зачем ты делаешь это? Зачем? Ты же не такая, как она! Почему же ты следуешь за ней?
– Доверься мне, – тихо говорит Анастази. – Я знаю, что с тобой происходит. Тебе это нужно.
– Что… что мне нужно?
Она не отвечает. Касается осторожно, будто врач, изучающий рану. А мое тело – сплошная рана, невидимая, подкожная. Это зверь выгрыз меня изнутри. Анастази стягивает с меня одежду. Действует умело, деловито, как наемник, привыкший грабить мертвых. Только на что она рассчитывает? Моя дееспособность подобна павшим на поле битвы. Я не отдал герцогине своего семени, но, похоже, лишился крови. Я тяжел, неподвижен и холоден. Слышу шорох одежды.
Она тоже раздевается. Упрямая женщина! Все еще надеется. Я закрываю глаза. С тоской думаю об украденных минутах покоя и одиночества.
Она приближается, вкрадчиво ложится рядом. Не спешит, позволяет мне привыкнуть. Тело у нее поджарое, как у молодой гончей. От него веет теплом. Все так же неспешно, как набегающая волна, прижимается ко мне. И снова шепчет:
– Доверься мне.
Я уже доверился. Уже проглотил свою горечь. Уже смирился. Что дальше?
Она трогает меня, руками и губами. Начинает со лба, опущенных век и скользит вниз, согревая, разглаживая кожу, вынуждая ее к дрожи и чувствительности. Действия ее как будто бесцельны. И замкнуты на самих себе. Она ничего не требует от меня, только ласкает, обволакивает странной умиротворяющей нежностью. Будто только для того и пришла – прикоснуться. Я, прежде ожидавший натиска, постепенно допускаю ее ближе. Мое оцепенение размягчается и спадает, как подсохший рубец. Я верю в ее бескорыстие. От меня ничего не ждут. Я волен быть эгоистичным и непонятливым, как младенец.
– Успокойся, – тихо повторяет Анастази, – доверься мне. Только доверься.
Ее губы скользят вслед за руками. Сначала вниз, а затем вверх, по ребрам, до самых ключиц. Внутри меня происходит сдвиг. Это кровь насыщается теплом и бежит быстрее. Боль возвращается, но она разбавлена теплой, забродившей чувственностью. Снова ее губы, настойчивые, горячие. И язык, почти орудие пытки… Я хочу ее оттолкнуть. Я знаю, что она поступает неправильно. Знаю, что преступает законы. Но она продолжает. Это не игра, не каприз распаленной самки. Это акт милосердия.
Сначала огненное колесо, ступицы следуют одна за другой, постепенно сливаясь, а затем – бездна. Та самая, куда ночь за ночью меня пытается столкнуть герцогиня. Я проваливаюсь. Меня трясет, к горлу подкатывает крик. Анастази зажимает мне рот рукой. Но руки ее недостаточно, и она глушит мой крик чемто душным и шершавым, похожим на угол простыни. Из меня одним взмахом мясницкого крюка вырывают все внутренности. И сцеживают кровь, которая била молотом в виски. Я пуст. Ничего не чувствую. Только радость долгожданного избавления. Анастази гладит мой затылок.
– Ну вот и все, – спокойно говорит она. – Теперь спи.
Анастази осторожно высвобождается и встает. Я смотрю на нее с немой благодарностью. Она прикладывает палец к губам и едва слышно произносит.
– Спи.
Я чувствую, что должен что-то сказать, что одних взглядов и мычания недостаточно. Но ее бережное прикосновение сразу же дает ответ. Анастази, прежде чем покинуть комнату, подбирает сползшее одеяло и укрывает меня. Ничего не нужно говорить. Все ясно без слов. Я больше не убийца. Я не жажду мести. Я хочу жить.


