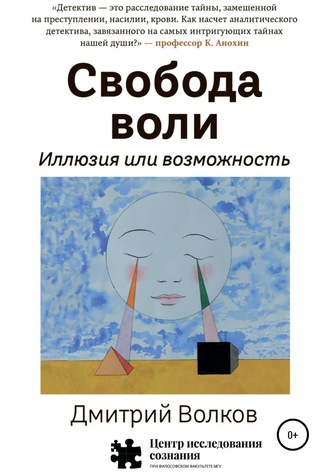
Дмитрий Волков
Свобода воли. Иллюзия или возможность
4. Недостатки проведенных аналогий и иллюстраций
Думаю, что и аналогии Сёрла работают не совсем удачно – с ними возникает проблема именно в рамках биологического натурализма. Аналогия между ментальным и высокоуровневыми характеристиками физических процессов плохо согласуется с другими положениями биологического натурализма, да и не схватывает специфических свойств ментального по теории Сёрла (субъективность, квалитативность, интенциональность, единство). Высокоуровневые характеристики физических процессов (например, кипение) действительно реализованы в низкоуровневых микроструктурах. Но в данном случае они редуцируемы к характеристикам микроструктур, совпадают в пространстве и выводимы из движения микроструктур. Наблюдая, скажем, поведение молекул воды, можно было бы предположить свойства газообразного, жидкого и твердого состояний. И переход от микро- к макроуровням можно проследить эмпирически.
Проведем исследование растекающейся жидкости под микроскопом. Сначала на максимальном увеличении пронаблюдаем движение одной молекулы воды. Если мы поменяем кратность увеличения, то увидим несколько молекул, их скопление и общее движение. Если еще уменьшить кратность, то, наконец, станет видно движущуюся каплю воды, то есть каплю, обладающую свойством текучести. Хотя это – увлекательное исследование, оно не шокирует. Изменяя степень увеличения, мы тем не менее не изменяли перспективу. Обнаруживая, как скопления движущихся молекул формируют каплю, мы не обнаруживаем в какой-то момент, что не наблюдатель рассматривает каплю, а капля – радужку и зрачок глаза. Однако именно такой радикальный скачок получился бы, если бы, по логике Сёрла, изменяя параметры оптики наблюдения нейрофизиологических процессов, мы вдруг увидели бы онтологически субъективные ментальные состояния агента.
Мне кажется, что аналогия работала бы только в случае, если бы Сёрл отождествлял ментальные процессы с физическими. Ведь высокоуровневые характеристики разогрева и кипения воды можно отождествить с низкоуровневыми процессами увеличения кинетической энергии молекул воды. Но в теории сознания Сёрла нельзя ожидать такого отождествления. Ведь среди его ключевых тезисов – утверждение о нередуцируемости ментального и его уникальных специфических черт, в первую очередь – субъективности. Сознание, согласно его мнению, онтологически субъективно, то есть существует как приватные субъективные состояния. Но это принципиально отличает сознание от физического. И следовательно, аналогия в теории Сёрла не проходит. Из всего этого можно сделать вывод о том, что решение проблемы ментальной каузальности в биологическом натурализме не оптимально. Альтернативой является теория коллеги Сёрла и его наиболее знаменитого оппонента, философа Д. Деннета.
V. Решение проблемы ментальной каузальности в телеофункционализме Д. Деннета
1. Ключевые положения телеофункционализма Деннета
Д. Деннет является одним из самых важных и известных современных аналитических философов. Он – не только автор множества монографий и сотен статей, но и сам герой множества книг. Главный вклад Деннета в философию сознания заключается в том, что он заставил коллег отвлечься от исключительно «кабинетных изысканий», показал, что исследования в области когнитивистики, нейрофизиологии и биологии имеют отношение к обсуждению философских проблем[16]. Разработанный Деннетом подход можно назвать телеофункционалистским (ТФ). «Я, конечно же, – своего рода “телеофункционалист”, возможно, даже первый телеофункционалист» [Dennett 1991b, 460], – пишет он в монографии «Объясненное сознание». Теория сознания Деннета оснащена множеством эмпирических положений, но в ней можно выделить философскую основу. Метафизические положения телеофункционализма сводятся к следующему:
Онтологический статус сознания: Ментальные состояния существуют как высокоуровневые характеристики физических свойств.
Ментальная каузальность: Ментальные состояния каузально влияют на наше поведение.
Связь с состояниями мозга: Ментальные состояния полностью реализованы процессами в мозге.
Каузальная замкнутость: Принцип каузальной замкнутости работает в физическом мире, но некоторые события могут быть объяснены только высокоуровневыми закономерностями.
Деннет согласен с Сёрлом в том, что ментальные состояния представляют собой высокоуровневые характеристики физических свойств. Однако в отличие от Сёрла он не считает, что эти свойства – биологического характера. Деннет убежден, что любой механизм, обладающий функциональными качествами мозга, будет обладать ментальными состояниями [Dennett 1991b, 281]. Как и Сёрл, Деннет уверен, что ментальные высокоуровневые характеристики каузально эффективны. Однако в отличие от Сёрла он не считает, что мозг является причиной появления сознания. По его мнению, ментальные свойства реализованы в физическом субстрате как высокоуровневые – в низкоуровневых. Деннет также, судя по всему, разделяет Принцип каузальной замкнутости физического мира, но допускает наличие высокоуровневых причин. Скорее всего, он не разделяет Принцип исключения, хотя в открытом виде этого утверждения я у него не нашел.
Телеофункционализм Деннета является современным развитием функционалистской программы объяснения сознания. Функционализм – это позиция, согласно которой сущность ментальных состояний выражается в способе их функционирования, в той роли, которую они играют в других процессах. Определить наличие ментального содержания можно по результатам обработки системой входящих сигналов. Например, боль с функционалистской позиции – это состояние, ведущее к реакции избегания; симпатия – наоборот, к притяжению. Убеждение в том, что «сегодня будет дождь», – это что-то вроде предрасположенности взять зонтик или плащ после просмотра прогноза погоды в случае пребывания в состоянии «желания остаться сухим». Если обобщить, то по этой логике убеждения представляют собой состояния, определенные данными органов восприятия, а также другими убеждениями, и при взаимодействии с желаниями формирующие поведение или действия. А желания – это состояния, находящиеся в связи с другими желаниями и намерениями, при взаимодействии с убеждениями формирующие поведение или действия.
Функционализм предполагает возможность множественной реализации[17] ментальных состояний. То есть, по мнению функционалистов, субстрат и внутренняя механика системы не определяют ментальных содержаний. Биологический носитель – только один из вариантов. Вполне возможно ментальные содержания реализовать и на механических носителях, в частности на кремниевых чипах. Такой подход характеризует все виды функционалистских теорий. Взгляды Деннета тем не менее имеют некоторую специфику.
Позицию Деннета можно для контраста сравнить с другим видом функционализма – с функционализмом машины Тьюринга (ФМТ)[18]. Эта теория несколько более ранняя и, возможно, менее совершенная. Для иллюстрации общности и различий используем два ключевых вопроса: (1) что представляют собой ментальные содержания (content)? (2) что общего имеется между двумя системами, когда они имеют одно общее убеждение? Посмотрим, как на них ответят сторонники ФМТ и ТФ.
Ответ на первый вопрос, скорее всего, будет одинаковым для обоих вариантов функционализма. Он служит идентификатором монизма. «Каждое ментальное состояние – это какое-то физическое состояние», – считает большинство функционалистов. А вот по поводу второго вопроса позиция может быть различной. Сторонник ФМТ скажет, что системы, имеющие общее убеждение, могут быть описаны как выполняющие один и тот же алгоритм и находящиеся в одном и том же месте выполнения этого алгоритма. Например, как если бы синхронно запущенная презентация PowerPoint на компьютере IBM и на компьютере Macintosh была остановлена на одном и том же слайде. Сторонник ТФ ответит более аккуратно. Он скажет, что общность между двумя такими системами в том, что с учетом этого убеждения поведение обеих систем (в той мере, в которой оно определяется этим убеждением) можно будет надежно предсказать.
Таким образом, (1) телеофункционалист не требует ни общности в физической реализации, ни общности «программы» (мыслящие существа могут в силу образования, воспитания и наследственных данных значительно различаться «алгоритмами»). Могут быть запущены разные презентации на разных машинах, только бы эти презентации вели к одним и тем же практическим выводам и действиям. В этом смысле телеофункционализм Деннета более либерален, чем ФМТ. Но здесь нужно сразу сделать оговорку. Предъявляя меньшие требования для идентификации ментальных содержаний в отношении алгоритмов, автор теории вводит дополнительное требование: надежное и осмысленное соединение системы с внешним миром.
Деннет не случайно называет свою позицию телеофункционалистской. Вероятнее всего, это указывает на (2) связь понятий функции и направленности в его теории ментальных содержаний. Для наличия соответствующих интенциональных состояний недостаточно иметь аналогичную реакцию на входящую информацию. Реакция должна соотноситься с функцией системы в целом, ее интересами, приоритетами, целями. В случае с живыми организмами это – биологические, адаптационные функции. Реакция должна быть не просто соответствующей, она должна иметь соответствующий смысл.
Недостаточно, чтобы программа приводила к похожим действиям, она должна осмысленным образом состыковывать интенциональную систему с внешним миром. По мнению Деннета, семантическое содержание приобретается только в целенаправленном взаимодействии с внешним миром. Логика выживания глобально определяет интенциональные содержания человека. Робот тоже может являться системой для выживания и, соответственно, с позиции американского философа, иметь интенциональные содержания. Но у него тогда должны быть цели, интересы, приоритеты. Не все механизмы так состыкованы с внешним миром. Лишенный собственного интереса термостат только очень условно может соответствовать критериям ментальных содержаний. Для человека сохранение температуры тела является принципиальным условием выживания, а для термостата – произвольной функцией. К тому же устройство термостата не позволяет ему самому определять ответные «действия». Термостат можно использовать как для регулирования потока хладагента, поступающего в радиатор, так и для запуска ядерной ракеты. Биологические сенсорные системы и механизмы управления гораздо избирательней в репертуаре действий, они почти идеально настроены под соответствующие воздействия внешнего мира и обеспечивают адекватную реакцию на стимул.
Но если у мыслящих агентов разные программы, как возможны надежные предсказания? Почему одни мыслящие существа способны «понимать» состояния и предсказывать поведение других? Ключом к разрешению этого вопроса является некоторый стандарт, общая норма, определяющая поведение всех существ. Это стандарт рациональности. И существованием этого стандарта мы обязаны общему эволюционному процессу. Несмотря на то что каждый вид и даже каждая особь могут иметь свою собственную программу рациональности, они все написаны по одному лекалу. У всех программ один общий программист – естественный отбор.
Одна и та же рациональность стоит за строением птичьего крыла и… проектом атомной подводной лодки, созданной человеком. Рациональность, которая повсюду встречается в природе и которая в течение столетий объяснялась креационистской моделью как свидетельство рациональности создателя, объясняется теорией естественного отбора. Из ее основного принципа следует, что если имели место борьба видов и естественный отбор, то популяции, которые живут сегодня, являются наиболее приспособленными к условиям существования, или обладают оптимальной конструкцией. Они выработали наиболее эффективные модели реакций на воздействия среды и способны к стабильному воспроизводству. Общей целью для всех живых существ является сохранение вида, а следовательно, сохранение жизни особи, когда она может произвести потомство. И поведение, которое ведет к достижению этой цели, – наиболее оптимальное или рациональное. В контексте теории эволюции можно еще раз уточнить определения «убеждение» и «желание». Деннет пишет, что «убеждения» и «желания» в конечном итоге демонстрируют необходимость выживания и отражают оптимальное устройство органической системы. На этом и основаны механизмы предсказания поведения агентов. «Если эволюция проделала свою работу… наши предсказания должны быть достаточно надежными, чтобы ими пользоваться» [Dennett 1981, 9].
Любопытно также отметить, что то, что отличает теорию контента Деннета от некоторых функционалистских теорий контента, сближает его позицию с концепцией интенциональности – такой, какой она появилась в философском обращении в конце XIX в. Интенциональность (от латинского intendo – указывать на что-то, целить во что-то), эта отличительная черта психического, как было подмечено австрийским философом Ф. Брентано, указывает на способность ментальных актов, с одной стороны, содержать нечто (обладать контентом), а с другой – быть направленными на что-то. Убеждение, к примеру, в том, что Земля круглая, с одной стороны, содержит в себе некоторую информацию и отношение к ней, но также, с другой стороны, указывает на некоторый объект за пределами ментального. Как пишет Брентано в книге «Психология с эмпирической точки зрения»: «Каждый психический феномен характеризуется посредством того, что схоласты Средневековья назвали интенциональным (а также, пожалуй, ментальным) существованием в нем некоторого предмета… и что мы, хотя и не вполне избегая двусмысленности выражений, назвали бы отношением к содержанию, направленностью на объект (под которым не следует понимать некоторую реальность), или имманентной предметностью. Каждый [психический феномен] содержит в себе объект, хотя и не каждый одинаковым образом. В представлении нечто представляется, в суждении нечто признается или отвергается, в любви – любится, в ненависти – ненавидится, в желании – желается и т. д.» (курсив мой. – Д. В.) [Brentano 1924, 124–125; цит. по: Молчанов 2007, 412–413; см. также: Брентано 1996, 33]. Деннет сохраняет эту двусмысленность термина: в его концепции интенциональность указывает и на содержание, и на направленность. Это – и функциональное репрезентативное состояние, и направленность в мир, на объект.
Деннет, как и Васильев, как и Сёрл, предлагает свое решение проблемы ментальной каузальности. Однако в данном случае решение Деннета не представляет собой строгий аргумент и уж тем более развернутую теорию. Когда философа спрашивают о ментальной каузальности, он всегда приводит свой мысленный эксперимент, который называется «История двух черных ящиков» [Dennett 1995, 412]. Деннет считает, что описание этой гипотетической ситуации само по себе проливает свет на проблему ментальной каузальности и демонстрирует ее решение.
2. «История двух черных ящиков» как иллюстрация каузальной эффективности высокоуровневых свойств
Представим, что некогда были найдены два соединенных между собой кабелем черных ящика. На первом расположены две кнопки: α и β, а на втором – три световых индикатора: красный, зеленый и оранжевый. Когда стали исследовать ящики, обнаружили, что при нажатии кнопки α на первом ящике на втором всегда загорается красный индикатор, а при нажатии кнопки β – зеленый. Оранжевый индикатор, казалось, вообще не используется. После многократных повторений ученые убедились:
α является причиной красного;
β является причиной зеленого.
Сигнал передавался через провод. Было очевидно, что, когда нажимали кнопку α, в проводе происходило что-то одно, а когда кнопку β – что-то другое. Возможно, различалось количество импульсов тока, а может, разным было напряжение. Для того чтобы выяснить, в чем состояло отличие, ученые подключили к кабелю «прослушивающее» устройство. И вскоре обнаружили, что, когда нажималась любая из кнопок, по кабелю передавался поток импульсов с интервалами, как бы нулей и единиц, всего 10 000 бит. Но каждый раз последовательность была разной. Что в таком случае определяло, какого «цвета» этот поток?
Чтобы разгадать головоломку, ученые вскрыли ящик с цветовыми индикаторами. Там они обнаружили компьютер с огромным процессором, памятью и программой, занимавшей почти весь жесткий диск. Когда на процессор поступала последовательность из 10 000 бит от другого ящика, процессор осуществлял несколько миллиардов операций, в результате которых он выдавал 0 или 1. Если на процессор приходила та же самая комбинация, он выдавал тот же самый результат, 0 или 1, зеленый или красный. Ничего сверхъестественного не происходило. Кроме одного любопытного факта. Компьютер во втором ящике перед выдачей одного и того же ответа на один и тот же запрос проходил через разные физические состояния. Это объяснялось тем, что программа записывала каждый входящий запрос, и состояние памяти компьютера никогда не оставалось прежним. Наблюдая за работой компьютера, ученые решили, что любая последовательность из 10 000 бит будет определяться им как красная или зеленая. Гипотеза, однако, провалилась, как только они стали подменять последовательности битов, исходящие из первого ящика, новыми, собственными. Вдруг заработал оранжевый индикатор, как если бы второй ящик обнаружил мошенничество.
На любую новую последовательность, введенную учеными самостоятельно, загорался оранжевый. Нет, нельзя было сказать, что компьютер как-то отличал последовательности, «сделанные вручную», от последовательностей, исходящих из первого ящика. Когда вручную дублировались последовательности из первого ящика, второй ящик работал нормально, то есть выдавал зеленый или красный. Вот только если изменялся хотя бы один бит, загорался оранжевый индикатор. Выходило, что все возможные последовательности делятся на зеленые, красные и… оранжевые. Только оранжевых было значительно больше, на порядки больше. Это делало закономерность с красным и зеленым индикаторами еще более интригующей. Что́ все-таки определяло, каким будет «цвет» последовательности символов? В каждом конкретном случае ничего удивительного не было. Ученые могли проследить каузальную цепочку, начиная от ввода любой последовательности в компьютер до вывода им результата. В этом смысле аппарат был полностью детерминирован физическими законами. Что было удивительно, так это отсутствие возможности предсказать, исследуя одну лишь последовательность символов, какой результат выдаст компьютер. Ученые знали лишь, что строка будет оранжевой с почти стопроцентной вероятностью, кроме случаев, когда она была выдана первым ящиком. В последнем случае с вероятностью миллиард к одному она была либо красной, либо зеленой. Но никто не мог заранее определить один из двух цветов, не пропустив эту строку через программу в ящике Б. Ученые решили, что разгадку даст только вскрытие первого ящика.
Они открыли этот ящик и обнаружили в нем еще один компьютер с гигантской памятью и программой. При нажатии кнопки программа обращалась к встроенным часам, переводила время в бинарное выражение и с помощью этого кода выбирала, к какой части памяти обратиться, чтобы подготовить последовательность для второго ящика. Стало понятно, что именно использование внутренних часов гарантировало, что по кабелю всегда передавалась новая комбинация. При этой псевдопроизвольности всегда, когда нажималась кнопка α, загоралась красная лампочка, а когда β – зеленая. Впрочем, ученые наконец обнаружили аномалию: примерно раз в миллиард случаев происходила «ошибка», и после нажатия кнопки α загорался зеленый цвет. Эта незначительная погрешность сделала аппарат еще более загадочным для ученых.
Но однажды в лабораторию зашли два программиста, Эл и Бо, которые создали этот аппарат, и все объяснили. Когда-то они оба работали над экспертными системами: создавали базу знаний, в которой должны были содержаться все истинные утверждения о мире и выводимые из них утверждения. Они писали эти программы на разных языках программирования. Оба преуспели в этом деле так, что скоро их программы могли генерировать бесконечное множество истинных утверждений: «Дом больше семечка», «Корова – самка домашнего быка», «Снег бел». Но, как выяснилось, экспертные системы не могли дать полезного нового знания человечеству. И программисты забросили свои проекты, превратив разработки в философскую игрушку.
Они выбрали способ транслировать (переводить) утверждения между машинами и соединили программы так, что при нажатии кнопки α первая машина отправляла истинные утверждения, а при нажатии β – ложные. Вторая машина сопоставляла утверждение на входе с собственными «убеждениями» и, если получала истинное утверждение, подтверждала его красным сигналом, а если ложное – откликалась зеленым. Когда данные на входе невозможно было обработать, то есть когда они выражали бессмыслицу либо содержали некорректные выражения, машина выдавала оранжевый цвет. Конечно, когда ученые вносили коррективы в передаваемые сигналы без понимания того, что они собой должны представлять, это было самой распространенной реакцией. Так раскрылось, что удивительное свойство красных последовательностей было свойством «быть истинным утверждением», а зеленых – «быть ложным утверждением». Неожиданно, поняв устройство аппарата, ученые сами смогли создавать сколько угодно зеленых и красных последовательностей. Они даже открыли последовательности, которые сначала были красными, а потом становились зелеными, как, например, сообщение: «это сообщение передавалось менее 100 раз». Ведь на 101-й раз это сообщение должно было становиться зеленым.


