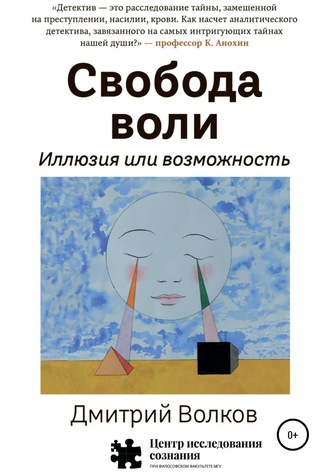
Дмитрий Волков
Свобода воли. Иллюзия или возможность
C. Особенности субстанционального подхода суинбёрна
Сторонники эмпирицистских теорий не проводят различия между тождеством физических объектов и тождеством личности, и Суинбёрн считает это основанием для сомнения в их истинности. Единственным решением этой метафизической головоломки, с его точки зрения, может быть субстанциональный подход. В основании его субстанционального подхода – несколько утверждений, которые я обозначу как тезисы о (1) скрытом основании, (2) определенности и (3) дискретности отношения тождества личности. Совокупность этих тезисов составляет содержательное ядро позиции Суинбёрна. Согласно идее о нередуцируемости, тождество не заключается исключительно в преемственности одной или нескольких наблюдаемых характеристик… Единственная альтернатива – сказать, что тождество личности – это нечто фундаментальное. То есть, согласно теории Суинбёрна, единство личности несводимо к каким-то другим отношениям.
Фундаментальным, нередуцируемым отношением, по мнению философа, является тождество субстанции, нематериальной сущности. Это утверждение я называю Тезисом о скрытом основании. Основным свойством этой сущности является способность «иметь сознательные состояния (например, мысли и ощущения) и осуществлять намеренные действия» [Swinburne 1991, 27]. Согласно Тезису о скрытом основании, отношения между наблюдаемыми характеристиками представляют лишь косвенные свидетельства тождества субстанции, но не гарантируют его.
Одна нематериальная субстанция всегда либо тождественна, либо не тождественна другой субстанции в другое время. Это – второй тезис, который я называю Тезисом об определенности. В эпистемологическом плане даже наличия полной информации о наблюдаемых характеристиках, этих косвенных свидетельствах тождества, может быть недостаточно для того, чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии тождества личности со всей определенностью. Но это не означает, что одна личность может стоять в некотором неопределенно-тождественном отношении к другой личности в другой момент времени. Второй тезис утверждает, что это отношение всегда определено.
Эмпирицистские теории склоняют нас к тому, чтобы считать тождество вопросом степени. То есть они допускают истинность высказываний «он в большей степени тот же человек, что и был». Но, по мнению Суинбёрна, эти высказывания ложны. Высказывания о тождестве личности всегда дискретные: личность может быть либо тождественна другой, либо отлична от нее. И промежуточных случаев быть не может – личность не может быть в какой-то степени тождественной. Это утверждение я буду называть Тезисом о дискретности. Можно ввести понятие тождества личности со степенью тождества – по аналогии с тождеством физических объектов, которое может рассматриваться как недискретное. Но этот ход непродуктивный, так как он, с позиции Суинбёрна, не относится к понятию тождества личности, с которым мы имеем дело в обыденном языке. Все три тезиса, напротив, соответствуют обыденным интуициям в отношении тождества личности.
D. Критика субстанционального подхода с помощью верификационизма
Субстанциональный подход имеет ряд описанных выше преимуществ: он согласуется с обыденными интуициями в отношении тождества и реидентификации личности, решает запутанные ситуации с редупликацией и разделением личностей и т. д. Но он сам является мишенью для критики. Против него можно использовать аргументы, построенные на Принципе верификации. Этот принцип защищался логическими позитивистами в первой половине XX в. Однако в его основе лежат идеи, заложенные еще Д. Юмом. Как пишет историк философии, исследователь верификационизма Ш. Мисак: «За руководящую мысль они (логические позитивисты. – Д. В.) взяли исходную идею Юма о том, что наши убеждения, если они вообще обоснованы, обоснованы данными опыта» [Misak 2005, 56]. Согласно одной из формулировок Принципа верификации, «осмысленное предложение – это такое предложение, истинность или ложность которого в конечном итоге может быть подтверждена на практике» [Misak 2005, 62].
Опираясь на Принцип верификации в такой формулировке, можно попытаться доказать, что утверждение о субстанциональной основе тождества личности не является осмысленным. Для этого необходимо применить этот принцип к Тезису о скрытом основании тождества из теории Суинбёрна. Согласно Тезису о скрытом основании тождества, наблюдаемые характеристики могут лишь косвенным образом способствовать реидентификации. То есть любые внешние свойства, доступные в опыте, не являются достаточным основанием для реидентификации. Таким образом, согласно субстанциональному подходу, на практике невозможно окончательно подтвердить тождество личности в разное время. Но это противоречит Принципу верификации в описанной выше формулировке. Значит ли это, что субстанциональный подход выдвигает бессмысленный критерий тождества личности?
Такой верификационистский аргумент мог бы быть использован против подхода Суинбёрна. Однако посылка в этом аргументе – не самая надежная. Принцип верификации в такой формулировке, в его сильной версии, сам уязвим для критики. На это указывает Суинбёрн: «Что касается меня, я не нахожу оснований принимать любые из этих видов верификационизма. До тех пор пока мы понимаем грамматическую форму повествовательного предложения и слова, которые в нем употребляются, мы понимаем, что в нем утверждается, даже если нет мыслимых способов подтвердить его истинность или ложность» [Swinburne 1991, 39–40]. По мнению оксфордского философа, сильная версия верификационизма предъявляет слишком высокие требования, так что даже тривиальные утверждения попадают в категорию бессмысленных. Это сводит Принцип к абсурду. В качестве примера он приводит выражение «в комнате стоит стол». Это утверждение нельзя абсолютно точно подтвердить или опровергнуть, так как восприятие стола может быть иллюзией или сном. Значит, согласно Принципу верификации в сильной версии, это бессмысленное выражение. Но это абсурд, и, значит, Принцип верификации в его сильной формулировке ложен.
Суинбёрн считает, что для осмысленности выражения достаточно, чтобы был хоть какой-нибудь способ вероятностной верификации или фальсификации высказывания. Это утверждение можно считать слабой версией верификационизма. Оно вполне правдоподобно. Философ предлагает рассмотреть три предложения: «на нашей планете нет единорогов»; «в нашей Галактике нет единорогов»; «в нашей Вселенной нет единорогов». Практическая возможность проверки всех трех утверждений разная, но представляется, что они в равной степени имеют смысл. Из этого, по мнению Суинбёрна, следует, что любой способ вероятностной верификации или фальсификации достаточен для осмысленности высказывания. «До тех пор пока мы требуем только возможности подтверждения или опровержения, будь то возможность логическая, физическая или практическая, доступной хотя бы одной личности или кому-нибудь, сейчас или когда-нибудь, дуалистическая теория тождества личности не будет уязвима для верификационизма» [Swinburne 1991, 40–41]. Таким образом, Суинбёрн опровергает сильную версию и соглашается со слабой версией верификационизма. При этом он считает слабую версию верификационизма совместимой с утверждением о субстанциональных критериях тождества личности.
Действительно, психологические и физические характеристики не дают безусловной гарантии тождества. Но, согласно субстанциональному подходу Суинбёрна, наличие преемственности психологических, физиологических и биологических характеристик позволяет косвенным образом с некоторой вероятностью реидентифицировать личность. Так, сохранение большей части мозга и воспоминаний в рамках субстанционального подхода является подтверждением, что личность P2 – это та же личность, что и личность P1. А появление конкурента P*2 с большей частью мозга и воспоминаний P1 – фальсификацией отождествления P2 и P1. То есть, по мнению Суинбёрна, существуют вероятностные способы верификации субстанциональных критериев тождества личности, а значит, они осмысленны.
Ответ оксфордского философа на критику с помощью верификационизма я считаю не до конца удовлетворительным. Вопреки утверждениям Суинбёрна, я считаю, что даже слабая версия верификационизма несовместима с субстанциональным подходом к тождеству личности. Оксфордский философ утверждает, что биологические, физиологические и психологические характеристики могут служить косвенными основаниями для высказываний о тождестве. Но эти характеристики могли бы быть косвенными свидетельствами тождества субстанции, только если бы они были должным образом связаны с субстанцией. Эта особая связь могла бы быть отношением тождества, супервентности или каузальной зависимости. Но таких связей, как мне представляется, нет. Отношение тождества между нематериальной субстанцией и психологическими, физиологическими или биологическими характеристиками должно быть отвергнуто, так как, по определению Суинбёрна, нематериальная монада обладает совсем иными свойствами: она неделима и ее сущностные свойства не могут быть скопированы. Отношение супервентности предполагает прямую зависимость свойств: набор свойств Б является супервентным по отношению к набору свойств А в том случае, если объект не может различаться в свойствах Б в отсутствие различий в свойствах А. Из теории Суинбёрна следует, что субстанция может быть неизменной при изменении указанных характеристик. Следовательно, между свойствами субстанции и этими свойствами не существует отношения супервентности. И наконец, тезис о каузальной связи между субстанцией и психологическими и телесными свойствами крайне проблематичен.
Очень мало философов допускают возможность участия субстанций в каузальных связях. Наиболее распространено мнение о том, что только события могут находиться в каузальной связи. Более того, каузальная эффективность нематериальной субстанции крайне экзотична и плохо согласуется с правдоподобным тезисом о каузальной замкнутости физического мира. Нужно опровергнуть много аргументов, чтобы доказать, что нематериальная субстанция может быть каузально связана с психическими, физиологическими и биологическими характеристиками. Таким образом, связь между монадой и этими свойствами, скорее всего, аналогична связи между изображениями единорогов, описаниями единорогов, продаваемыми «рогами» единорогов и единорогами. Эти «косвенные доказательства» существования единорогов не подтверждают их существования потому, что между ними и единорогами отсутствует должная связь. Эти «доказательства» не тождественны единорогам, не супервентны и каузально не связаны с существованием единорогов. Описания этих удивительных животных не связаны каузально с восприятиями единорогов, а «рога» на самом деле являются рогами нарвалов. Как из обнаружения большего числа текстов или «псевдорогов» не следует увеличение вероятности существования единорогов, так и из наличия большего числа преемственных психологических и прочих характеристик не следует бо́льшая вероятность тождества монад. Отсутствие возможности хотя бы косвенным образом удостовериться в тождественности или различии душ в разные моменты времени, в соответствии с верификационизмом, говорит о том, что субстанциональный критерий тождества личности является бессмысленным.
III. Критика классических подходов с помощью Аргумента пяти трансплантаций
Похоже, мы оказались в патовой ситуации. Субстанциональный подход к тождеству личности неудовлетворителен из-за отсутствия способа верификации. Психологические теории уязвимы перед Аргументом редупликации, а биологические – подменяют исходную проблему. Цепочку рассуждений, приведшую нас к этому пату, можно резюмировать с помощью последовательности мысленных экспериментов с «трансплантациями». Пять трансплантаций позволяют оценить гипотезы об основаниях и критериях тождества личности, предложенные современными философами, и выявить их ключевые недостатки.
A. Трансплантация души
Гипотеза 1. Критерием тождества, необходимого для моральной ответственности, является тождество души.
Предположим, Браун и Робинсон обладают душами вдобавок к телам и их физиологическим, биологическим и психологическим характеристикам. У каждой из личностей есть свое уникальное содержание психики и различные психические способности. В какой-то момент их души поменялись местами: душа Брауна трансплантируется в тело Робинсона, и наоборот. При этом, поскольку психологические характеристики супервентны на физических, все их психические свойства остались неизменными: они продолжают иметь те же воспоминания, те же намерения и желания, те же психические качества и характер. Как можно будет определить, что Браун и Робинсон поменялись душами?
Очевидно, этого нельзя будет сделать со стороны: с точки зрения внешнего наблюдателя, никакой перемены не произошло. Браун и Робинсон не изменились в поведении. Но и изнутри, в интроспекции Браун и Робинсон не смогут обнаружить этой перемены, ведь у них сохранятся все те же воспоминания, привычки и прочие психологические особенности, что и были. Так стал ли Браун Робинсоном, а Робинсон – Брауном? Кажется, что этого не произошло. Должен ли теперь Робинсон нести ответственность за поступки, совершенные Брауном? Скорее всего, нет. Каждая личность осталась на своем месте. Это позволяет думать, что субстанциональный критерий тождества личности не согласуется с нашими интуициями. Тогда вместо субстанционального подхода испытаем биологический подход.
B. Трансплантация мозга
Гипотеза 2. Критерием тождества, необходимого для моральной ответственности, является тождество/преемственность биологических функций.
Представим, что злодей-нейрохирург провел эксперимент: пока Браун и Робинсон спали, он перенес мозг Брауна в тело Робинсона, а мозг Робинсона – в тело Брауна. Проснувшись, тело Брауна стало вести себя совсем как Робинсон, а тело Робинсона – как Браун: тело Робинсона теперь демонстрирует наличие характера, воспоминаний и привычек, что были у Брауна, и наоборот. И теперь обе личности, Браун и Робинсон, не узнают себя в зеркале. Где Браун, а где – Робинсон? Согласно биологическому подходу, мы должны сказать, что личности сохранили свое местоположение. Но интуиции подсказывают иное.
Кажется, что в результате трансплантаций мозгов личности переместились, хотя тела и прочие органы остались на своих местах. Оправданно ли теперь будет применять ответственность (например, наказание) за поступки Брауна к телу Брауна? Кажется, нет. Похоже, что биологический критерий приводит к контринтуитивным выводам и поэтому ложен. Возможно, основой тождества личности является тождество мозга?
C. Трансплантация психики
Гипотеза 3. Критерием тождества, необходимого для моральной ответственности, является тождество мозга.
Предположим, ученые научились копировать информацию, которая хранится в нейронных сетях мозга. Эта информация представляет все содержание психики и все психические способности. Команда ученых провела эксперимент: они скопировали все данные из мозга Робинсона в мозг Брауна, и наоборот. Мозги Брауна и Робинсона остаются на месте, но все их психические особенности были перенесены. Теперь Робинсон ведет себя так, как раньше вел себя Браун. Все воспоминания Брауна стали воспоминаниями Робинсона. И наоборот. Где Браун, а где Робинсон?
Интуиции склоняют к тому, чтобы признать смену тел у личностей. Биологические органы остались на месте, мозги остались на месте, но личности мигрировали. Но это противоречит представленной гипотезе. Выходит, что тождество мозга не является фундаментальной основой тождества личности. Возможно, носителем личности является психика, а не физический орган. Это дает возможность надеяться на продолжение жизни личности после смерти организма. Если, конечно, ученые научатся копировать всю информацию о психике на новый носитель. Но для оптимизма пока недостаточно оснований. Стоит проверить и эту гипотезу.
D. Трансплантация психики с умножением личности
Гипотеза 4. Критерием тождества, необходимого для моральной ответственности, является тождество/преемственность психики.
Предположим, что после копирования информации из мозга Робинсона в мозг Брауна ученые скопировали эту информацию еще и в мозг Джонсона. После этой процедуры Браун и Джонсон приобретают характер, привычки, намерения, желания и воспоминания Робинсона. Когда их спрашивают имя, они хором отвечают – Робинсон. Когда их спрашивают о биографии, они рассказывают биографию Робинсона. Браун и Джонсон – полные психологические копии Робинсона. При этом они – разные люди. Являются ли они одной и той же личностью? Несут ли они ответственность за поступки, совершенные Робинсоном в прошлом?
Кажется, что здесь интуиции начинают подводить. Этот случай настолько фантастический, что полагаться на опыт становится невозможно. Сходных ситуаций в жизни не встретишь. Что-то подсказывает, что оба этих человека – Робинсон. Но как Робинсонов может быть много? Нет ли здесь противоречия? Как может быть множество идентичных людей? Кто теперь женат на миссис Робинсон? Кто имеет право получать пенсию Робинсона и отвечать за его поступки? Эти вопросы могут поставить в тупик. Судя по всему, возможность трансплантации психики сразу нескольким агентам ставит под сомнение и психологический подход к тождеству личности. Но если вариант умножения личности кажется малопонятным или недостаточно убедительным, вместо него против психологического подхода можно использовать мысленный эксперимент с делением личности. Его эмпирическая возможность оговаривалась выше.
E. Трансплантация психики с делением личности (Fission case)
Носителем высших психических способностей является мозг. Кажется, поэтому у нас есть интуиция, что при трансплантации мозга происходит трансплантация личности. Мозг, как известно, состоит из двух полушарий. При этом каждое полушарие автономно, может изолированно выполнять многие высшие психические функции. Существует способ лечения обширной эпилепсии путем удаления одного из полушарий мозга – гемисферэктомия. Если операция проводится в детском возрасте, благодаря нейропластичности все когнитивные функции восстанавливаются.
Предположим, что Вильямсон страдает редким заболеванием, которое связано с нарушением взаимодействия двух полушарий мозга. В качестве лечения ему предлагают операцию: пересадку обоих полушарий в организмы доноров – Робинсона и Брауна. Мозги доноров полностью дисфункциональны, Робинсон и Браун находятся в хроническом вегетативном состоянии. Допустим, операция проходит удачно, и мозги Вильямсона приживаются в организмах Робинсона и Брауна. Тело Вильямсона остается в вегетативном состоянии. Где теперь Вильямсон? Тела Робинсона и Брауна теперь имеют психические способности Вильямсона, его убеждения и желания. Кто из них тождественен Вильямсону?
Предположим, Робинсон позавтракал, а Браун не успел, тогда Робинсон сытый, а Браун – голодный. Если обе эти личности – Вильямсон, то Вильямсон и сытый, и голодный. Это противоречие. Значит, этот пример ставит под сомнение психологический критерий. Дело в том, что тождество – это отношение один к одному, а психологический подход допускает отношение один ко многим. Или Вильямсон уже изначально был множественен и мы просто могли об этом не знать?
Случаи с умножением или делением личности являются проблемой для психологического подхода. Но в совокупности представленные гипотетические ситуации ставят под сомнение все описанные выше подходы к проблеме тождества личности. Аргумент пяти трансплантаций демонстрирует проблему и является серьезным препятствием для признания возможности свободы и моральной ответственности. Ключ к разрешению патовой ситуации можно попытаться отыскать в другом мысленном эксперименте, фантастической истории, которая подводит нас к новой концепции личности. История эта называется «Где Я?», а ее автор – уже известный нам Д. Деннет.
IV. Теория личности Д. Деннета
1. Мысленный эксперимент «Где Я?»
История «Где Я?» появилась впервые в сборнике «Мозговые штурмы» (1978). Она была включена в завершающую главу, которая значительно отличалась от всех предыдущих. Автор во введении сам назвал ее «десертом» к трудным, серьезным философским рассуждениям. Повторно эта история была опубликована в книге «Глаз разума. Фантазии и размышления о самосознании и о душе», вышедшей под совместной редакцией Д. Хофштадтера и Д. Деннета. По своему жанру история «Где Я?» гораздо естественней подходила именно для этой публикации, в которой собрано, пожалуй, только «сладкое»: эссе философов, писателей, ученых (Р. Нозика, Х. Борхеса, С. Лема, Р. Докинза, Дж. Сёрла), размышляющих над вопросами «Что такое разум?», «Что такое Я?», «Может ли материя думать и чувствовать?», дополненные комментариями редакторов. История «Где Я?» по своему стилю не похожа на традиционные для аналитической философии мысленные эксперименты: выводы, следующие из этой истории, сразу не очевидны. Это – «попытка выявить возникающие… противоречия и описать их живо и образно. Мы хотели не столько ответить на вопросы, сколько взбудоражить всех, кто прочтет нашу книгу…» [Хофштадтер, Деннетт 2003, 1], – признаются Деннет с Хофштадтером. История «Где Я?» настолько художественна, что даже стала одним из сюжетов одноименного фильма голландского режиссера Пьета Ходедреса, где в роли Деннета снимается сам Деннет. Вместе с ним героями фильма оказались его соредактор, философ-математик Дуглас Хофштадтер, и когнитивист Марвин Мински.
Как и прочие эссе сборника «Глаз разума», фантастический рассказ Деннета оставляет читателя в задумчивости. Он посвящен вопросу тождества личности и самоидентичности. Но какой подход он представляет? В некотором смысле история «Где Я?» похожа на уже упомянутый мысленный эксперимент с двумя черными ящиками, приведенный в первой главе. Здесь автор также не разъясняет свои выводы явным образом. Вместо этого в тексте мы находим разные, порой трудно соотносимые размышления героя истории и фрагментарные замечания автора. Какова позиция Деннета? Как и рассказ о хитроумной диковинной археологической находке, история «Где Я?» заставляет задуматься: «Как можно ее приспособить?», «Для чего бы она могла пригодиться?», «Каков был замысел создателя?», «Сделана ли она всерьез или для забавы?». В надежде прояснить альтернативы решения проблемы тождества личности мы проведем исследование этого фантастического сюжета.
Итак, Деннет выполняет секретную миссию Пентагона (конечно же, против «красных»). Ему придется обезвредить радиоактивную боевую головку где-то в недрах земли. Но для того, чтобы мозг не был поврежден смертоносным излучением (для других органов излучение относительно безопасно), он должен остаться в лаборатории в Хьюстоне. Оттуда мозг будет осуществлять контроль над телом с помощью системы радиосвязи. Каждое нервное окончание в пустом черепе будет соединено с микропередатчиками и микроприемниками, которые, в свою очередь, будут направлять сигнал непосредственно в мозг. «Представьте, что это всего лишь растяжение нервов… Мы всего лишь сделаем ваши нервы бесконечно растяжимыми, вставив в них радиоконтакты» [Хофштадтер, Деннетт 2003, 192]. Деннета кладут на операционный стол, проводят анестезию, вынимают мозг из черепной коробки и помещают его в чан с живительным раствором. И вот, сразу после пробуждения, Деннет задает обычный для такого случая вопрос: «Где я?» Экстравагантная завязка нужна автору для того, чтобы обнаружить проблематичность этого вопроса. В самом деле, где Деннет, когда части его – в разных местах: мозг – в чане, а тело – на операционном столе?


