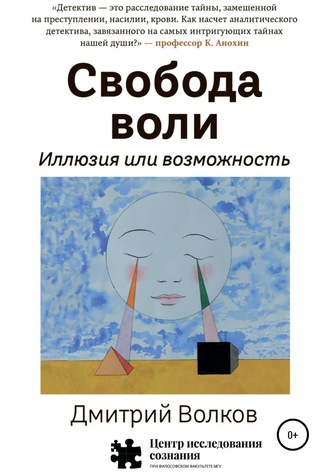
Дмитрий Волков
Свобода воли. Иллюзия или возможность
C. Моральное чувство инопланетян
Предположим, среди людей поселяются инопланетяне. Их моральные принципы в целом соответствуют человеческим, но распространяются на более широкий класс объектов. В частности, инопланетяне считают аморальным ходить по траве, так как трава от этого получает ущерб. Нанесение вреда траве само по себе плохо, считают инопланетяне и мотивируют это тем, что знают, «что значит быть травой», которой нанесен физический ущерб. Когда люди им возражают, обращая внимание на то, что трава не обладает сознанием, инопланетяне отвечают, что это не важно. Для того чтобы знать, что значит быть травой, нет необходимости переносить на себя ее ментальные состояния. Достаточно «войти в ее пространственное существование». Для людей эти основания, безусловно, представляют бессмыслицу.
Предположим теперь, что какой-то человек прогуливается по парку и видит вдали любопытную формацию горных пород. Из любопытства он решает подойти к ней поближе, чтобы лучше ее разглядеть. Приближаясь к формации, человек наступает на траву. Он не может испытывать эмпатии к траве, поэтому не чувствует аморальности своего поступка. Но тут к нему в ярости приближается инопланетянин: «Как плохо вредить траве!!! Как ты мог совершить такой аморальный поступок?!!» Есть ли основания у инопланетянина считать человека морально ответственным за нанесение вреда траве? Нет, считает Шумейкер, ведь люди просто не способны понять, какой ценностью обладает неприкосновенность травы. Сколько бы инопланетяне ни растолковывали людям о «вхождении в пространственное существование травы», это никак не убедит людей в их «моральном долге» перед травой. И психопаты – в таком же положении. Они неспособны воспринять мотивирующую силу моральных норм в отношении других. Кажется, что психопат в обществе других личностей должен чувствовать себя, как человек среди инопланетян со сверхчувственной моральной компетенцией: он должен понимать требования окружающих, но не видеть у них оснований. И при первом возможном случае нарушить правила, если это останется безнаказанным. Психопат не обладает моральной компетенцией в отношении других людей и потому не является полноценной морально ответственной личностью.
Я не согласен с такими выводами из вышеописанного случая. Интуиции об отсутствии моральной ответственности в данной истории основаны на иррациональности требований инопланетян Шумейкера. «Пространственное существование» растений не удовлетворяет критериям рациональности оснований морального долга. Если под аналогичные требования подвести рациональные основания, даже если субъект действий не будет обладать соответствующим чувством эмпатии, мысленный эксперимент вызовет интуиции о наличии у него моральной ответственности. Для того чтобы это подтвердить, я предлагаю сравнить историю Шумейкера с новой историей. В ней требования рациональны, но субъект не испытывает эмпатии. Это – моя история про общину джайнов.
D. Община джайнов и ахимса
Молодой человек присоединяется к общине джайнов. Философия и правила жизни джайнов направлены на совершенствование души и освобождение от круговорота рождений и смертей. Путь к совершенству лежит в соблюдении пяти принципов: быть искренним и благочестивым, не красть, не прелюбодействовать, не стяжать и не причинять вреда живому (ахимса). Из них пятый принцип – самый важный. Он запрещает джайнам наносить любой вред любому живому организму, даже насекомым и растениям. В основе этого принципа – убеждение в том, что любое существо наделено индивидуальной и вечной душой (дживой), способной к страданию и обладающей абсолютной ценностью. Соблюдая этот принцип, джайны трепетно относятся ко всему окружающему. Они избегают передвигаться ночью или даже пить непроцеженную воду, так как боятся случайно нанести вред крохотным организмам.
Молодой человек хорошо знаком с порядками в общине джайнов. Но, возвращаясь в одиночестве домой, он решает пренебречь обетами общины. Вместо того чтобы следовать по окружной дороге, он решает пойти напрямик и, не глядя под ноги, пересекает луг, протаптывая себе тропинку. Он не чувствует мотивации соблюдать обеты джайнов, не испытывает эмпатии к насекомым и растениям, которые могут оказаться под его ногами. Поэтому идет без всякой осторожности. В этот момент его окликает учитель. Он укоряет юношу за нарушение заповедей. Он считает, что юноша виноват в несоблюдении правил общины. Оправдан ли в данном случае укор?
Мне кажется, укор и осуждение вполне здесь уместны. Уместно говорить о моральной ответственности юноши. Она уместна, даже если молодой человек не испытывает мотивации и не чувствует эмпатии ко всем живым существам. Присоединяясь к общине джайнов, он принимает их установки в качестве минимальных моральных требований. К тому же он рационально вполне может понять природу их требований. И то, что молодого человека больше мотивирует желание сэкономить время, чем обеты джайнов, не снимает с него ответственности. Этот пример является доводом в пользу моральной ответственности психопатов. Психопаты среди нормальных людей – как молодой человек среди джайнов, а не как люди среди инопланетян Шумейкера.
Впрочем, чтобы убедиться в наличии моральной ответственности психопатов, мне кажется необходимым привести еще один аргумент. Этот аргумент построен на аналогии между психопатами и закоренелыми преступниками.
E. Психопаты и закоренелые преступники
Сторонник освобождения психопатов от моральной ответственности считает, что психопаты лишены способности обходиться с другими как с личностями и/или не обладают моральной компетенцией, так как постоянно совершают жестокие преступления. Именно из-за регулярности совершаемых преступлений они не могут быть морально ответственными. Но этот аргумент верен и в отношении любых закоренелых преступников. Ведь они тоже постоянно совершают жестокие преступления. Значит ли это, что они тоже должны быть освобождены от моральной, а также и уголовной ответственности? Если моральная компетенция снижается пропорционально частоте и тяжести аморальных поступков, самые закоренелые и жестокие преступники оказывались бы за рамками морального осуждения. Но тогда сама практика моральной критики и наказаний потеряла бы всякий смысл.
Это – сведение к абсурду первого аргумента. Очевидно, закоренелые преступники должны подвергаться осуждению и должны быть уголовно наказуемы. Следовательно, и психопаты должны подвергаться такому осуждению. И дело здесь даже не столько в наличии способностей или их отсутствии, сколько в чертах характера и качестве воли преступников. И психопаты, и «психически нормальные» закоренелые преступники склонны к регулярному совершению преступлений. И те и другие обладают скверным характером и являются аморальными личностями. И те и другие обладают «злой волей», то есть намеренно причиняют зло другим. И способность к эмпатии или ее отсутствие здесь не так важны.
Что дает наличие самой возможности эмпатии? Сравним аморальные действия двух человек. Предположим, они совершают одинаковые действия с одинаковыми мотивами – мошенничеством похищают деньги у пожилой женщины. Один человек, более жестокий, никогда не испытывает эмпатии, а другой – переживает ее в редких случаях. Является ли особенность характера первого основанием освобождения его от ответственности? Мне кажется, что нет. Во-первых, у преступников – одинаковые мотивы. Эти мотивы основаны на личной выгоде. И действия совершены не неосознанно, а именно на основе этих мотивов. Во-вторых, оба преступника продемонстрировали «злую волю» – в поведении их проявилось суждение «мои интересы – превыше всего». Тогда почему только второй должен нести ответственность? Почему нереализовавшаяся альтернативная возможность должна повлиять на оценку актуализованного осознанного действия?
На мой взгляд, если и есть разница в оценке поступков двух этих людей, она – не в пользу первого преступника. Первый является жестокосердным по натуре. И это – лишь дополнительное основание для морального осуждения. Представляется, что основаниями ответственности служат не столько альтернативные возможности, сколько актуальные мотивы и ценности. Следовательно, и психопаты должны нести моральную ответственность. Возможно, даже в большей степени, чем преступники с нормальной психикой. Психопаты и закоренелые преступники различают добро и зло как минимум в том смысле, что могут определять, что интерпретируется обществом как зло, а что – как добро, они способны сопоставлять эти нормы со своими планируемыми действиями и вступают в обществе в межличностные связи, поэтому они являются личностями и несут моральную ответственность.
Впрочем, этот спор показывает нам, что границы класса личностей размыты. Можно оспорить соответствие психопатов двум необходимым требованиям, предъявляемым к личности, как это было рассмотрено выше. Но можно также оспорить соответствие каждого человека, совершающего антисоциальные поступки, этим и другим требованиям. И тогда, если признать этот ход корректным, все злоумышленники окажутся освобожденными от ответственности. Это явно абсурдная ситуация. Следовательно, к каждому критерию нужно применять оператор «отчасти»: личность – это человек «отчасти разумный», «отчасти сознательный», «отчасти способный относиться к другим как к личностям», «отчасти обладающий самосознанием» и «моральной компетенцией». Без этого оператора категория личностей останется пустой. Как и моральная компетенция, остальные критерии являются идеальными конструкциями, которым нельзя подобрать точные соответствия в мире. Рациональный, самосознательный, морально компетентный и даже просто сознательный – это абстрактные характеристики, ориентиры, а не реальные свойства людей. Агент в различное время оказывается дальше или ближе в отношении этих ориентиров, но никогда не достигает их в полном объеме, тем более во всех своих действиях. Таким образом, личности «в конечном счете» не существует и существовать не может, кроме как в метафизических фантазиях. Но это не лишает смысла рассуждения о личностях.
Пусть понятие личности – нормативная модель и представляет собой слишком высокую планку для биологических организмов. Но это не отменяет практическую пользу этого понятия. Если бы нормативные понятия вообще не имели смысла, не имели бы смысла и все этические построения. Зато теперь мы знаем, какого рода сущность следует искать. Это знание поможет нам в решении вопроса о реидентификации и атрибуции ответственности. Это поможет, в частности, принять некоторые контринтуитивные положения нарративного подхода – наиболее перспективной теории личности.
V. Нарративный подход к вопросу тождества личности
Нарративный подход отличается от подходов, которые мы исследовали раньше. Первое важное отличие – в том, что большинство его сторонников не считают характеристики и свойства личностей объективными. Согласно мнению нарративистов, вопрос о характеристиках и свойствах личности, а также о ее тождестве во времени всегда зависит от наблюдателей и рассказчиков. «Нарративный подход отказывается от попыток отождествления “я” с некоторым ментальным или физическим объектом в мире. То, на что указывает местоимение “я”, – это конструкция, возникающая в подходящем социально-биологическом контексте» [Левин 2018, 185], – пишет российский исследователь и аналитический философ С. Левин. То есть первичным по отношению к личности является рассказ, а не наоборот. Рассказ порождает личность, а не личность – рассказ. Кроме того, этот рассказ постоянно меняется и дополняется наблюдателями, соответственно, параметры личности никогда не являются установленными до конца. Из всего этого следует, что нарративный подход – это скорее антиреалистическая концепция личности. Этим он отличается от реалистических психологического, субстанционального и биологического подходов.
Второе важное отличие – в самой постановке вопроса. Как я уже писал, сторонники психологического и субстанционального подходов заняты вопросом реидентификации личности в различные моменты времени. Они пытаются определить, что делает одну личность в момент t2 той же самой личностью, что существовала в момент t1 (или, точнее, определяют, что делает одну временную стадию личности тождественной другой временной стадии личности). Сторонники биологического подхода реидентифицируют личности с объектами или животными. То есть философы классических направлений устанавливают отношения нумерической тождественности между временными стадиями личностей (person time-slices или person-stages) или между личностями и объектами. Их оппоненты, сторонники неклассического, нарративного подхода, в частности М. Шехтман, Д. Деннет и К. Эткинз[45], не считают отношение нумерического тождества существенным для практических целей.
Для объяснения сохранения длительного существования личности и обеспечения условий моральной ответственности (как, впрочем, и для критериев выживания и справедливой компенсации), по их мнению, нужно решать не вопрос реидентификации, а вопрос характеризации личности[46]. Для того чтобы определить степень ответственности личности, не нужно искать нумерического тождества или сравнивать стадии личности, а нужно выявить, какие психологические характеристики, ментальные события и физические действия могут быть ей приписаны. А для этого следует исследовать моральную сущность личности, определить, «какова эта существующая личность», какие черты для нее являются ключевыми, а какие – случайными. Таким образом, сторонники нарративного подхода заняты отношением принадлежности личностям соответствующих свойств, состояний и действий, а не отношением нумерического тождества.
Принадлежность психологических характеристик, ментальных событий и физических действий личности в нарративном подходе определяется возможностью гармоничного и непротиворечивого включения их в биографическую историю личности как принадлежащих самой личности. Под биографической историей понимается обычный последовательный рассказ о развитии личности, преимущественно от первого лица. Именно возможность непротиворечивого включения в последовательную реалистичную автобиографию делает эти события и характеристики частью психологической сущности и подлинной идентичности личности, а также является основанием ее моральной ответственности за соответствующие поступки. Нарративный подход кажется наиболее близким обыденной практике вынесения моральных суждений.
Допустим, вы пытаетесь разобраться, несет ли ответственность человек за какое-то происшествие. Конечно, можно опираться на одни только улики, вещественные доказательства и факт присутствия человека на месте происшествия. Но логичней всего задать ему и свидетелям событий вопрос об этом происшествии. В ответ, скорее всего, последует разъяснение в виде истории. Агент расскажет о том, что произошло, о чем он думал, на что надеялся, что получилось. По рассказу можно будет понять, какое отношение имеет этот человек к происшествию, какие мотивы им двигали, какую выгоду он приобрел и какие потери понес. Только по истории, в которой объединятся перспективы разных участников и свидетелей, можно будет определить вину или невиновность того или иного лица. Без истории нельзя определить, случилось ли убийство или это была самозащита, что было случайным стечением обстоятельств, а что – реализацией хорошо продуманного плана. Без истории нельзя ни разобраться, что произошло, ни справедливо оценить происшествие.
1. Конструкция характеризующего биографического нарратива
Но как определить, что может, а что не может быть непротиворечиво включено в историю, в биографический контур нарратива? Что может объединять историю и служить фильтром для нерелевантных элементов? Во-первых, историю может объединять перспектива. Истории обычно рассказываются или от лица какого-то персонажа, или поочередно от лиц нескольких героев, или с позиции автора. Но в каждый момент эта перспектива есть. Перспектива – это взгляд с точки с четкими временными и географическими координатами. Перемещение этих точек в развивающейся истории в основном последовательно и непрерывно как в пространстве, так и во времени. Даже тогда, когда это перемещение скачкообразно (как в истории «Где Я?»), скачки имеют объяснения.
Конкретное расположение точки перспективы обуславливает избирательное отношение к обстоятельствам и выражается в описаниях под каким-то специфическим углом зрения. Даже когда это перспектива с высоты «птичьего полета», это – конкретная перспектива. Она действует как прожектор, выхватывая из бесконечного множества допустимых описаний основное. Исходя из некоторой перспективы, часть обстоятельств выделяется как значимая, важная, основная, а другая часть, собственно большая часть, попросту игнорируется. Значимые события изображаются подробней, их временные рамки как бы раздвигаются. А незначительные обстоятельства упоминаются мельком или вообще не оговариваются. Отношение между различными по важности планами систематично. Выделяются главные и побочные персонажи, ключевые, образующие историю события и случайные обстоятельства. Ключевые события образуют канву сюжета или вехи биографии. Таким образом, законы перспективы позволяют отобрать и правильно расположить элементы рассказа.
Второе возможное объединяющее начало – это траектория психической жизни персонажа. История обычно состоит из объективных событий и действий героев. Действия, как мы уже знаем, увязываются с ментальными состояниями, а эти ментальные состояния, сочетаясь между собой, согласуются с сущностными характеристиками личностей. Ментальные состояния объясняют поступки, а характер и склонности личности – ментальные состояния. Из одних ментальных состояний проистекают другие. Таким образом, вся жизненная траектория должна быть в истории интеллигибельна. Это не означает, конечно, неизменности характера. Обстоятельства истории влияют на героя, они могут значительно изменить его состояния, характеристики и даже сущность. Но все эти изменения происходят не без причин. Причины включаются в историю и объясняют эти изменения. Таким образом, вся история становится понятной, последовательной, осмысленной, а траектория психической жизни персонажа не перестает быть непрерывной. В этой интеллигибельности – второе основание единства и фильтр для элементов нарратива.
Третий скрепляющий элемент биографической истории и одновременно ее фильтр – телеологическая направленность. История может объединяться движением личности к каким-то долгосрочным целям. Иерархия целей может увенчиваться каким-то основным ориентиром, главным маяком в путешествии личности. Именно этот главный ориентир, конечный смысл в масштабе всей жизни наделяет значением отдельные поступки и состояния. Кажется, главные ориентиры могут быть разные. Это может быть выживание, личное благополучие, доминирование, навязывание другим своей воли или получение максимального удовольствия. Но некоторые сторонники нарративного подхода (в первую очередь герменевтического направления) настаивают, что подлинное «личное благо» должно совпадать с добром как всеобщей ценностью: желанием жить хорошо вместе с другими и для других в справедливом обществе. Только наличие этого главного этического ориентира, по их мнению, делает осмысленной жизнь в целом и каждое действие в отдельности.
Перечисленные выше характеристики позволяют изнутри скрепить нарратив, сложить жизненную историю в одно целое. По отношению к содержанию они являются внутренними требованиями соответствия логике и структуре биографической истории. Но есть еще два необходимых внешних условия, предъявляемые к биографическим нарративам для атрибуции характеристик агентам. Это условия возможности изложения и правдоподобия нарратива. Биография может быть последовательна в отношении перспективы, представлять ясный психологический портрет героя, быть осмысленной, обладать телеологичностью, но при этом не давать достаточных оснований для атрибуции действий и моральной ответственности за них. Это – случаи, когда сам агент не может сформулировать и выразить собственный биографический нарратив или его часть или когда нарратив целиком представляет собой фикцию. В первом случае агент может быть неспособен в достаточной мере анализировать и оценивать свое поведение, а во втором его оценки могут быть далеки от реальности.
Способность сформулировать полную жизненную историю в рассказе от первого лица, удовлетворяющем внутренним требованиям, не является абсолютной необходимостью для атрибуции действий и ответственности. В конце концов, агент может не понимать мотивов своего поведения, не всегда различать конечные цели, даже не иметь возможности последовательно и подробно изложить события всей своей жизни. Но важно, чтобы агент имел способность организовывать свой опыт и представления в жизненную историю. Свидетельством ее наличия является способность агента выражать в истории хотя бы часть жизненных событий и объяснять их. Я имею в виду способность описывать свои поступки от первого лица, ссылаться на их ментальные причины и обосновывать свои суждения об опыте. Если агент способен к такому описанию фрагментов жизни, значит, он способен структурировать свой опыт в виде нарратива, и, следовательно, то, что вписывается в этот нарратив и отвечает минимальным требованиям реализма, может служить его характеристикой.
Правдоподобие биографической истории – второй, но не менее важный внешний критерий. Требование правдоподобности, как и требование наличия способности описать опыт, также не может быть абсолютным. Повествующий агент может допускать и даже всегда допускает какие-то ошибки. Но хотя бы часть суждений о событиях в нарративе должна совпадать с суждениями других личностей. Иными словами, описания событий от первого лица должны хотя бы частично совпадать с описаниями от третьего лица других участников и свидетелей событий. Иначе это будет фантастический нарратив, и его нельзя будет использовать в качестве основания атрибуции действий и ответственности. Некоторые причины тому обсуждались еще во Введении. Выше в тексте этой главы также было показано, что людей, представления которых полностью оторваны от реальности, вообще невозможно относить к категории полноценных личностей. Даже если они способны понимать этические модели поведения (в том числе способны представлять, как можно относиться к другим как к личностям), они неспособны применять эти модели на практике. А без этого они не будут удовлетворять требованию моральной компетенции. И фантастическая автобиография такого человека не будет удовлетворять требованиям нарративного подхода. Работу внутренних и внешних критериев можно продемонстрировать на примере следующей ситуации.
Предположим, кто-то ошибочно называет себя Наполеоном и утверждает, что был командующим в знаменитой битве у Ватерлоо. Участие в этой битве он обосновывает стремлением восстановить величие Французской империи, а за разгром считает ответственным лично себя. Теперь его целью является мировое признание и получение должного императору уважения. Как соотносится такая история с требованиями к нарративу? История артикулирована. В ней есть некоторая телеологическая целостность – стремление к мировому признанию. Но остальным критериям она не удовлетворяет. При анализе этого нарратива возникнут несоответствия. Нарушена будет непрерывность точки перспективы. Например, заблуждающемуся человеку сложно будет объяснить, что он делал в период между 1821 и 2018 гг. и как сочетаются его биография и ментальная жизнь с фактами жизни Наполеона. Скорее всего, нарушится требование к интеллигибельности. Скажем, этому человеку будет трудно объяснить, зачем в ХХ в. он поступал в начальную школу, если в конце XVIII в. уже заканчивал кадетский коллеж. Но основной будет проблема несоответствия реальности. Так, этому человеку будет трудно объяснить физические различия между Наполеоном и им самим. Таким образом, его история не будет соответствовать критериям интеллигибельности, единства перспективы и правдоподобия. Следовательно, она не сможет быть характеристикой этого человека и основанием для атрибуции ему описываемых действий. Совсем другая характеристика будет более подходящей для этого человека: что он – вдохновленный историей фантазер или психически больной.


